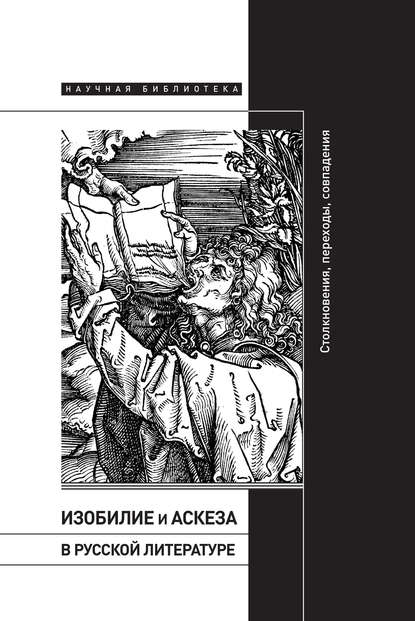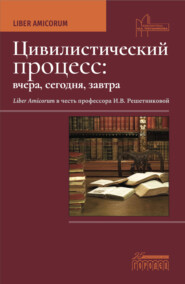По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1. Значения еды и поста[118 - Подробнее об этом см.: Hansen-L?ve A. A. ?ber das Vorgestern ins ?bermorgen. Neoprimitivismus in Wort- und Bildkunst der russischen Moderne. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016. S. 267–300; Idem. Velimir Chlebnikovs poetischer Kannibalismus // Poetica. 1987. Bd. 19. Heft 1–2.]
В каждой религии, в особенности в ранних магических системах, а также в психосоматических представлениях еда, инкорпорация, телесное усвоение играет центральную, можно сказать исходную роль. Особенно еврейские предписания, относящиеся к еде, так же как и принципиальное наложение запретов на еду в древних клан-культурах, указывают на элементарную связь между приемом пищи и идентификацией или освоением мира, между communio и communicatio, «приобщением» и «сообщением».
С другой стороны, просвещенная и парадоксальная позиция Иисуса Христа сводится к следующему основополагающему предложению: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека»[119 - Мф. 15:11 (цит. по синодальному переводу).] – что означает: не то, что усваивается вами по талмудистским правилам еды, определяет ценность ваших действий, а то, что выходит, то есть то, что сказано. Таким образом, древние правила магической «инкорпорации», телесного усвоения, заменены правилами логоса: христианство – и в дальнейшем в особенности евхаристия – не следует правилам кровавой жертвы (Каина), но правилу Авеля Ветхого Завета и Иисуса Христа.
Секуляризация и эстетизация евхаристической модели в искусстве, особенно в литературе и поэзии, привели к двойной модели:
1) к дионисийско-христологической модели самопожертвования поэта[120 - Toporov V. N. Der Ursprung der indogermanischen Poetik // Poetica. 1981. Bd. 13; Girard R. La Violence et le sacrе. Paris: B. Grasset, 1972.], который полностью жертвует собой в духе подражания Христу (imitatio Christi) – отдает свое произведение (вербальный текст) на съедение. Все это следует формуле «съедения бога» (по понятию Я. Котта)[121 - Kott J. Gott-Essen. Interpretationen griechischer Trag?dien. Aus dem Polnischen von Peter Lachmann. Berlin: Alexander Verlag, 1991.], которая перетолковывается в трагедии, переходя от кровавого самопожертвования к катарсистическому переживанию героя[122 - См.: Вестбрук Ф. Дионис и дионисийская трагедия. Вячеслав Иванов. Филологические и философские идеи о дионисийстве. M?nchen: Sagner, 2009; Hansen-L?ve A. A. Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der poetischen Motive. III. Band: Mythopoetischer Symbolismus. 2. Lebensmotive. Wien: Verlag der ?sterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. S. 75–124.];
2) противоположной моделью является аполлоническая модель дара[123 - См.: Derrida J. Falschgeld. Zeit geben I. M?nchen: Wilhelm Fink Verlag, 1993. Об абсурдистском варианте парадокса дара см.: Hansen-L?ve A. A. Die Gabe des Glaubens / das Opfer des Verstandes: Daniil Charms’ Geschenk-Artikel // Gr?bel R., Kohler G.-B. (Hg.). Gabe und Opfer in der russischen Literatur und Kultur der Moderne. Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universit?t, 2006; Idem. Der russische Symbolismus. 3. Bd. S. 125–146.], которая символически или даже аллегорически преподносит произведение тому, кто его воспринимает. Это происходит, однако, не для съедения и «инкорпорации», не для «идентификации» как абстрактной формы инкорпорации, а для раздробленной инсценировки своего в чужом (произведении), которое становится таким образом полем деятельности для различных стратегий текста и его восприятия.
Однако первая модель – дионисийско-христологическая партиципация воображаемого или реального поглощения текста и бога – осуществляется, несомненно, на фоне уже выработанной и рефлектированной культуры символов, и, как известно, в случае инкорпорации и еды речь идет об игре, о фикции, об осмысленном возвращении к первобытному состоянию.
Для еретических систем культуры характерно, что этот акт регрессии является менее осознанным, чем в высокоразвитых культурах[124 - См.: Hansen-L?ve A. A. Allgemeine H?retik, russische Sekten und ihre Literarisierung in der Moderne // Orthodoxien und H?resien in den slavischen Literaturen. Beitr?ge der gleichnamigen Tagung vom 6–9 September 1994 in Fribourg / Hrsg. von R. Fieguth. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 41. Wien: Gesellschaft zur F?rderung slawistischer Studien, 1996; Idem. ?ber das Vorgestern ins ?bermorgen. S. 63 и сл.]. Представители гнозиса, ереси или «сектантства» добровольно регредировали в древнемагические состояния, и все это на фоне современного каузально-эмпирического мышления и культурной символики. Перенятие подобной осознанной регрессии в искусстве дополнительно усиливает акт осознанной репримитивизации, так как религиозный аспект – так же как психотический или любой другой магический – стирается. Остается лишь голая семантика, мнимая сфера «художественного мышления», «искусственних миров», поэтической метафорики.
Другим аспектом, который можно рассматривать как ступень между едой в роли культово-магического акта телесного усвоения и перенесением этой модели на творческий и художественный процесс, является метафорическое или метонимическое соотношение еды и сексуальности: в случае метафорического соотношения еда занимает место сексуса – что изображено, например, в карикатурном виде в образе толстого священника или монаха в католицизме. Предполагаемый сексуальный недостаток восполняется обилием еды.
Более архаичное, метонимическое соотношение устанавливает функциональную, даже ситуативную связь между едой и сексом – доходя до оральных практик сексуальности, при которых объект желания (сексуальный партнер) в определенной степени «съедается», или, по крайней мере, становится «фетишем» в оральном виде[125 - См.: B?hme H. Fetischismus und Kultur. Eine andere Moderne. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006. S. 466–469.].
К этой сфере относится – помимо многих других практик – изначально и особенно поцелуй как слияние орального присвоения, эротическо-сексуального удовлетворения с едой, речью или дыханием[126 - О роли поцелуя в эротических утопиях символизма см.: Matic O. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fin de Si?cle. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2005. P. 196–197.]. Эти элементарные функции актуализируются и устанавливают между собой связь с помощью телесной символики поцелуя.
Пост, напротив, направлен в своей архаичной, культовой форме на отрицание или же избегание определенных животных или других объектов поедания[127 - См.: Фрейденбрг О. М. Миф и литература древности / Сост. Н. В. Багринская. М.: Восточная лит. РАН, 1978. С. 65 и сл.; Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М.: Худож. лит., 1965. С. 329 и сл., 386 и сл.], особенно когда они табуизируются и исключены из определенных правил еды. Подобное отношение к объекту отходит на второй план в случае субъективного поста из?за интенционального характера подобного отказа, который занимает место магического избегания и запрета объекта.
На третьей ступени религиозное требование поста заменяется наконец психофизическим отказом от еды, который в экстремальном случае проявляется в форме булимии или анорексии. Здесь, однако, круг замыкается, приводя снова к сексуальной функции инкорпорации и экскорпорации, так как отказ от еды также имеет гормональное и др. влияния на либидо, приводя иной раз даже к инволюции вторичных половых признаков. Одна из экстремальных гендер-теорий поста и отказа от еды принципиально рассматривает каждый прием пищи как насильственное кормление, имеющее травматическое воздействие – особенно на женский пол[128 - См. Steins G. (Hg.). Handbuch Psychologie und Geschlechterforschung. Berlin: Springer Verlag, 2010. S. 189–201.]. Разумеется, не любое голодание есть пост, но любой пост – голодание.
2. Еретическое съедение / пост
Ортодоксальные течения направлены в первую очередь на культуру – еретические же течения на культ[129 - Ср. Hansen-L?ve А. А. Allgemeine H?retik. S. 173.]: православие осознает, что необходимо исключить из общины или, по крайней мере, в высшей степени сублимировать и вытеснить большую часть области эротично-инстинктивного, магическо-мифического, подсознательного и пневматично-спиритуального, то есть всю женскую «левую», архаично-мифическую сферу, дабы защититься от ужаса культово-магической очевидности, принуждения к hic et nunc религиозной, пневматической, магической экстатики или непосредственности.
Культура неизбежно обуславливает систему отложения в смысле «diffеrance/diffеrence» Жака Деррида[130 - Derrida J. Die Diffеrance // Engelmann P. Postmoderne und Dekonstruktion. Texte franz?sischer Philosophen der Gegenwart. Stuttgart: Reclam Verlag, 2015. S. 80–81.]: ортодоксальный культ – например в евхаристии – настаивает на постулате «некровавой жертвы», то есть символики, которая в конечном счете рассматривает таинство аллегорически-символично – предоставляя таким образом решение о возникновении очевидности транссубстанциации (пресуществления) волюнтаристическому акту веры. Еретическая пневматика, напротив, беспощадна: ей хочется всего сразу, всецело.
Уже о богомилах повествуется, что из?за соблюдения поста они выглядели «совсем бледными» – примета, также относящаяся к русским сектантам (особенно к девушкам и женщинам). «Они все время приветливы, смиренны, молчаливы»[131 - См.: Runciman S. H?resie und Christentum. Der mittelalterliche Manich?ismus. ?bers. von Heinz Jatho. M?nchen: Wilhelm Fink Verlag, 1988. S. 99 и сл.; Hansen-L?ve А. А. Allgemeine H?retik. S. 199–201.] и избегают вообще обращать на себя внимание. Богомилы славились своей кротостью и сравнивались с овцами. В то время как ортодоксальная, логоцентричная позиция отвергает инкорпорацию и еврейские принципы еды, ересь ссылается на продолжавшие существовать до ортодоксии мифы о еде и на архаичную установку на еду как на интенсивнейшую форму инкорпорации и идентификации. Ведь остатки ее символически-аллегорической формы сохранились в ортодоксальной сакраментальности – так же, как и в правилах соблюдения поста.
Ортодоксальному развитию сакраментального символизма в литургии противопоставлены гетеродоксальное неприятие инкарнационной литургики и ee замена. С одной стороны, архаичными культами тела и еды, с другой – традицией синтеза сексуальных и религиозных практик (?????)[132 - Rudolph K. Die Gnosis. 2. Aufl. G?ttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1980. S. 258–259.]. Таким образом, еретическое поедание семени, плаценты[133 - См.: Sloterdijk P., Macho Th. H. (Hg.). Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Sp?tantike bis zur Gegenwart. M?nchen; Z?rich: Artemis & Winkler, 1991. Bd. 1. S. 202–207; Rudolph K. Die Gnosis. S. 259.], даже новорожденных младенцев (в чем еретики изначально обвинялись) можно рассматривать как архаичную форму «бескровного» обряда причастия в официальной церкви[134 - Ibid. S. 257.].
3. Пустое место / пустое тесто у Гоголя
Огромная и ненасытная «графомания» Гоголя соответствует самозабвенному чтению, которое еще до всякого осмысления и вне всякой интерпретации принимает словесный текст как таковой, как текстуру, проглатывая и переваривая его/ee.
Примечательный пример подобного орального и в прямом смысле телесного способа чтения (между прочим, в лежачем положении) Н. В. Гоголь описывает в «Мертвых душах». Речь идет о манере чтения слуги Чичикова, Петрушки, представляющей телесную поэтику русского народа, который усваивает книги, как хлеб насущный или как нюхательный табак[135 - См.: Hansen-L?ve A. A. «G?g?l». Zur Poetik der Null- und Leerstelle // Wiener Slawistischer Almanach 39 (1997). S. 203 и сл.]:
Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чорт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка[136 - Гоголь Н. В. Мертвые души I // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. С. 20. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
Таким образом, именно Петрушка представляется идеальным читателем на основе орнаментально-просодичной первичной ступени «тотального чтения». Слуга как представитель субкультуры, ограниченной в ее телесном начале, имеет непосредственный доступ к субъязыку, к звуковой телесности текста, который он воспринимает исключительно на уровне сигнификанта – между прочим, лежа на матрасе, который сплюснут, как лепешка. Здесь все сливается: лежание, чтение, еда, сон; телесная очевидность чтения по буквам соответствует карнавализированному «народному телу» слуги, который дублирует историю и пошлость своего хозяина.
Многократно подчеркивается метафорическая и метонимическая связь между едой и чтением – и связь этих двух действий с курением.
В то время как в мире Гоголя нос выступает, с одной стороны, как (фальшивое) «наполнение», как эссенция неадекватной оболочки (хлеба), его отсутствие, «пустое место», с другой стороны, сравнивается с объектом из области выпечки и пищевых продуктов: пустое место за счет гладкости и плоскости родственно блину, гладкое «место» появляется в виде «теста», как пластический материал для формирования фигур и (частей) тел:
«Зачем беспокоиться!» продолжал чиновник, нюхая табак. <…> Коллежский асессор отнял от лица платок. <…> «место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!»[137 - Гоголь Н. В. Нос // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч..: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. T. 3. С. 62. Курсив мой. – О. Х.-Л.]
Архаичное слияние бытия и еды, слияние понятий «есть» и «съесть»[138 - Ср.: Leblanc R. D. Satisfying Khlestakov’s Appetite: The Semiotics of Eating in The Inspector General // Slavic Review 47 (1988); о психопоэтике инкорпорации и поедания у Гоголя см.: Rancour-Laferriere D. Out from under Gogol’s Overcoat. A Psychoanalytic Study. Ann Arbor: Ardis, 1982. P. 129 и сл.; Drubek-Meyer N. Gogol’s eloquentia corporis. Einverleibung, Identit?t und die Grenzen der Fiktion. M?nchen: Sagner, 1995. S. 16 и сл., 47 и сл., S. 212–213; Foucault M. Der Gebrauch der L?ste. Sexualit?t und Wahrheit 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986. S. 68 и сл.], тождественности и инкорпорации, оральности и утвердительности собственной сущности также кроется (как анаграмма) «внутри» слов «место» и «тесто»[139 - Ср.: Hansen-L?ve A. A. «G?g?l». Zur Poetik der Null- und Leerstelle. S. 204.]. Человек «есть то, что он ест», нос становится в своем роде символом поэтического каннибализма, который всецело овеществляет и дьявольским образом воплощает, то есть поглощает духовно-душевное начало (так же, как начало знаковое и литературное).
Литургический намек или пародия на съедание бога в обрядовом жертвоприношении – как и во всех мотивах оральной инкорпорации – играет здесь центральную роль: если хлеб представляется как мясо, то нос – как душа: «Ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..»[140 - Гоголь Н. В. Нос. С. 50.]
В любом случае параллели в сфере оральности, выявляющиеся между болезненным влечением самого Гоголя к еде (до начала 40?х годов) и обратным влечением к аскетизму в последние годы его жизни, просто удивительны. Безусловно, Гоголь был тяжелым ипохондриком, смесью Гаргантюа и мольеровского «Мнимого больного» Аргана. Во всяком случае, он не переставал ставить сам себе диагнозы, которые нередко были самыми курьезными. Н. В. Языков вспоминает:
Гоголь рассказывал мне о странностях своеи? (вероятно, мнимои?) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезнеи?, также и об особенном устрои?стве головы своеи? и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх дном! Вообще в Гоголе чрезвычаи?но много странного[141 - Цит. по: Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя <фрагменты> // Н. В. Гоголь: pro et contra. Личность и творчество Н. В. Гоголя в оценке русских писателей, критиков, философов, исследователей: антология / Сост. С. А. Гончаров. СПб.: Изд-во РХГА, 2009. С. 886.].
Таким образом, в мире Гоголя (как и вообще в гротескном мире) оральное начало заменяется анальным. Но часто описанный конец Гоголя (например, у Набокова) показывает нам трагическую сторону гротескного тела, которое рассыпается между крайностями обжорства и аскетизма, между оральным принципом (риторики, возвышенного стиля, положительной эстетики) и анальным принципом гротескного, дьявольского «мира вещей» и словесных знаков без значения и смысла.
Врачи решили принудительно кормить Гоголя. На вопросы, которые они ему задавали, Гоголь или вообще не отвечал, или отвечал только кратким словом «нет», даже не открывая глаза. В конце концов он измученно выкрикнул: «Ради Бога, не мучайте меня так!» Они ощупали его живот: он был плоским, как доска, мягким и, очевидно, без содержания; можно было прощупать позвоночник. Гоголь стонал и вскрикивал. Врачи назначили пиявки и холодные обливания головы в теплой ванне, цитируя таким образом подобные процедуры, описанные в рассказе Гоголя «Записки сумасшедшего». Они также нашли успокаивающее латинское название для этой болезни. Нечто наподобие «гастроэнтерита». Когда больной вскрикивал при обливаниях, они его спрашивали: «Больно, Николай Васильевич?» – и продолжали лить. Гоголь стонал, не отвечая. Несколько часов перед смертью, когда уже началась агония, «они со всех сторон наложили на него теплый хлеб, причем больной ужасно кричал и стонал»[142 - См.: Nabokov V. Nikolai Gogol. Norfolk, Conn.: New Directions Book, 1944. P. 1–34 (гл. «His Death and His Youth»).].
4. Съедение книг и другие виды книжного фетишизма
Вероятно, только английскому профессору литературы могло прийти в голову не только продолжать великую традицию, берущую начало в «Анатомии меланхолии» Р. Бертона (R. Burton), но и вступить в безумную зону книжного фетишизма. Речь идет о монументальном произведении Х. Джексона (H. Jackson) 1931 года, переизданном в 1950 году, под звучным названием «Анатомия библиомании» (The Anatomy of Bibliomania)[143 - Jackson H. The Anatomy of Bibliomania. London: Faber and Faber, 1950.]. Эти в полном смысле слова исчерпывающие исследования библиомании исходят из весьма общего вопроса «О книгах в целом», переходя после этого к «Искусству чтения» и к «Одалживающим, библиоклептам и дарящим» и доходя до деликатной проблемы «Чтения в туалете», то есть к самой патологии библиомании.
Вершиной обильно документированных размышлений является глава о «Библиофагии и съедании книг» или даже о «пьющих книги».
Здесь библиофильский «библиоантропоморфизм» свершается в архаичном акте инкорпорации теми «книгообжорами», которые поедают тексты, «пищу для чтения», как книжные черви, не только в метафорическом смысле, а конкретно и физически. Одновременно трезвый и курьезный ум британца на самом деле наслаждается не столько магическо-мифическими или религиозными корнями книгоедства, сколько культурно-историческими традициями этой занимательной мании:
Вероятно, людям намного легче перейти от поцелуя к поеданию друг друга, чем это предполагал Вольтер, поскольку, как провозглашает Джеймс Томсон, людоеды, пожалуй, единственные настоящие любовники своих ближних, и на этой основе книгоеды, наверно, лучшие любовники близким им книгам[144 - «Perhaps it is easier than Voltaire believed to pass from people kissing to people eating one another, for, as James Thomson gives out, cannibals may be the only real lovers of their fellow-men, and on this basis the bibliophagi may be the best lovers of their fellow-books» (Ibid. P. 155. Курсив автора).].
Нет, профессор Джексон не интересуется метафорическими инкорпорациями, он охотится на «rariora», на редкости, хотя, к счастью, дело, видимо, обстоит так, «что практика не была доведена до логического завершения, поскольку, как Вольтер высказался о людоедстве, если бы нам разрешили съедать наших ближних, мы скоро поедали бы наших соотечественников, что было бы скорее плачевно для общественного блага»[145 - «<…> that the practice has not been pressed to its logical conclusion, for, as Voltaire said of cannibalism, if we were allowed to eat our neighbours, we should soon eat our contrymen, which would be rather unfortunate for the social virtues» (Ibid. Курсив автора).].
Как мы знаем из этого исследования, вполне ожидаемо и общеизвестно, что «очень маленькие дети съедают свои книги». Иначе дело обстоит со взрослыми книгоедами: Джексон различает в своей «Физиологии книгоедства» «гурманов и обжор»[146 - Ibid. P. 116 и сл.], то есть поедание книг и обычное обжорство, что, безусловно, можно также перевести на процесс писания и приготовления пищи. В любом случае условием является «здоровый аппетит», как мы узнаем, к примеру, у Кольриджа. Более того: человек является всеядным животным, которое не щадит даже ему подобных.
5. Съедение мира и текста у Хлебникова: словесный «каннибализм»
Если «речь», «произношение» слов представляет собой движение от или изо рта в сторону мира вещей, то «съедение» и «проглатывание» этого вещного мира может рассматриваться только как (обратное) превращение в слова и мир словесный.
Хлебников под поверхностью (коммуникативного) со-общения раскрывает архаичный принцип «при-общения» мифического «языкового тела»: здесь communicatio, то есть «со-общение» между двумя изолированными производителями знаков и носителями сознания, становится communio («приобщением») дословного процесса «деления»[147 - См.: Hansen-L?ve A. A. ?ber das Vorgestern ins ?bermorgen. S. 267–300.].
Для возрождения каждое тело (вещей и человека) в отдельности должно войти в тело земли, после того как оно было разложено, разорвано и рассеяно на составные части. Эти высеянные в землю части принимаются в ее недрах (как семя) и вновь соединяются в новые тела. Процессы зачатия в лоне матки тела земли и еды «ртом» приравниваются во всех ранних мифах.
В магическом, докультурном понимании мира, так же как и в раннем детстве, истолкованном психоанализом как оральная фаза, еда считается самой интенсивной и основной формой инкорпорации. Она способствует усвоению материальных, а также энергетических (магических, ментальных, психических) качеств съеденного объекта, будь он органического или неорганического, человеческого или животного происхождения. В мифопоэзии В. Хлебникова бытие и еда также принципиально являются равноценными, даже синонимичными, если не вообще идентичными.
А. Дюрер. «Апокалипсис» (Иоанн, проглатывающий книгу, 1498). Репродукция по: The Metropolitan Museum of Arts. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397138 (Public Domain)
В русском омофония (и омонимия) слов «есть» (т. е. быть, существовать) и «(съ-)есть» (т. е. принимать пищу) послужила источником множества (поэтических) этимологий. Похожее можно проследить и в немецком, что сводится к формуле: «Der Mensch ist, was er isst» (Фейербах) – «Человек – это то, что он ест».
В метафорической communio (а значит, в соучаствующем обмене тел и их частей, в при-общении) еда присваивает себе то место, которое в знаковой коммуникации (в со-общении) занимает речь. Весь космос определяется оральным опытом, с точки зрения своей съедобности. Это также применимо в аспекте земли как урбано-технического мира.
Футуристический «Союз изобретателей» (заглавие рассказа, 1918) начинает изобретать новые виды пищи, которые доходят до глобальных масштабов[148 - Хлебников В. Неизданные произведения / Сост. Н. И. Харджиев (поэмы и стихи), Т. С. Гриц (проза). M.: Гослитиздат, 1940. С. 349.].
Миф о «съедании книг» сформировался уже в Откровении Иоанна Богослова (Апок. 10), где мир назван текстом, «свитком». Так, к примеру, в Апокалипсисе (6:14) говорится: «И небо скрылось, свившись как свиток». Это самое «свертывание» «текста мира», – как противоположное движение к «развертыванию», то есть «словотворчеству» – служит предпосылкой следующей сцены съедания книги (Апок. 10:8–10): Иоанн проглатывает книгу, которую ему дают семь ангелов, и только благодаря этому наделяется даром пророка, так как он присвоил себе мир целиком, в смысле «in nuce» (10:11).
Съедая «свернутый» текст мира, Иоанн совершает действие, противоположное «олицетворению» «слова Божьего» («логоса»).