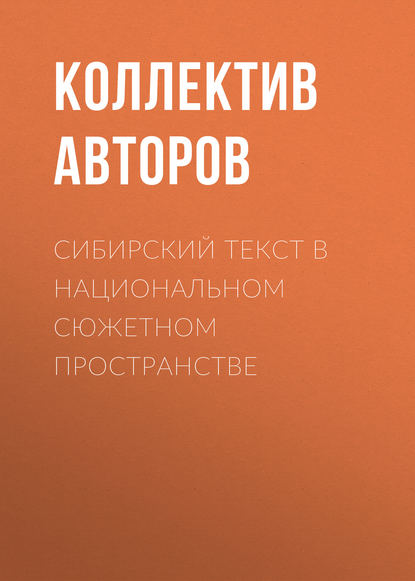По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литературно-культурные процессы данного времени становятся все более разнообразными по своим мировоззренческим и эстетическим признакам. Множественность течений и направлений, резкая полемичность, необычайная подвижность, быстрая смена форм и стилей ведут к тому, что в последние десятилетия XIX в. литературный процесс крайне усложняется, представляя собой, по сравнению с предшествующими эпохами, необычайно разнородные, разнохарактерные, удивительные по своей многоликости явления. В литературе назревает кризис реалистического сознания, влекущий за собой акцентировку ее религиозно-философской составляющей.
Предмет и объект нашего исследования связаны с литературным процессом последней трети XIX в., именами позднего Лескова, Короленко, Успенского, Чехова, которые в своем творчестве и подчас личной биографии способствовали развитию темы Сибири в русской литературе и оказывали определяющее влияние на формирование «сибирского дискурса». С другой стороны, осмысление пространственных границ Сибири, ее истории, природы, общих типологических моделей, заданных культурно-символическими смыслами ее образа, вело к формированию регионального самосознания, что выразилось в явлении сибирского областничества и того письменного наследия, которое неизбежно возникало в непосредственной связи с процессами общелитературными.
При такой постановке проблемы основным материалом видятся тексты не только художественные, но и те, в которых прослеживаются процессы наращения мысли, вызревания идей, их прорастания в ткань художественного текста. Это многочисленные статьи, письма, личные и дорожные дневники, записные книжки, рукописи-фрагменты – все те жанры, которые, по терминологии Л.Я. Гинзбург, относятся к категории «промежуточных». Литература этой поры начала приобретать отчетливые религиозно-философские черты, говорить языком мифа, легенды, предания. Кризис реалистического сознания и поиск новых средств выразительности привел в то же время к явному размыванию границ между художественным и публицистическим типами письма. Очерки, рассказы, картины, сцены, эскизы, дневники, письма стали занимать привычное место классических повествовательных форм и из разряда жанров «промежуточных» становиться в литературе ведущими.
Нередко они формировались личной, творческой судьбой писателей, так или иначе связанной с Сибирью. Несомненное возрастание общего интереса к сибирскому региону в последние десятилетия XIX в. произошло в силу как определенных социально-исторических явлений, так и понимания особой значимости сибирского края, ставшего не просто вариантом русской колонии, но оказавшегося своеобразной «страной», во многом по-новому определившей самосознание России, ее границы и ментальность. Эти тенденции способствовали развитию «сибирского текста», история формирования которого началась, собственно, с истории завоевания и заселения самой Сибири.
Само понятие «сибирский текст» в современном литературоведении употребляется достаточно часто. Тем не менее, вокруг него продолжаются споры и, прежде всего, по поводу того, на каком этапе количественное соотношение текстов переходит в качественное, что, по сути, дает основание говорить о формировании определенного «культурного кода», имеющего право называться текстом.
В классических работах М.К. Азадовского, Б. Жеребцова, Н.К. Пиксанова сибирская литература предстает как своеобразная, но во многом вторичная по своим эстетическим качествам творческая система, располагающая теми же тенденциями развития, что и литературы центра, но при этом разрабатывающая местные темы в общерусском художественном контексте[141 - См.: Азадовский М. К. Литература сибирская (Дореволюционный период) // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3. Новосибирск, 1932. Стб. 163; Жеребцов Б. О сибирской литературной традиции. Наблюдения и заметки // Сибирский литературно-краеведческий сборник. Иркутск, 1928. С. 23-50; Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда. М.:Л., 1928.]. Принципиально иной подход был предложен в 90-х гг. в работах Б.А. Чмыхало, в которых проблема сибирской литературы осмыслялась в широком историческом и культурно-философском аспектах. При таком подходе уподобление сибирской литературы исключительно локальной словесности было отвергнуто. По мысли исследователя, национальная литература соотносится с региональной так, «как этнос соотносится с субэтносом», стало быть, и «литературный регионализм начинается там, где кончается “местный колорит”»[142 - Чмыхало Б.А. Молодая Сибирь: Регионализм в истории русской литературы. Красноярск, 1992. С. 47, 65.].
В монографии К.В. Анисимова продолжается разработка этих положений, но уже в русле поэтики литературы Сибири. В ее изучении современный исследователь выявляет особые качества, отличающие специфическую региональную традицию в рамках русской литературы XIX – начала XX вв., подчеркивая, что «как поэтическая система эта традиция до сих пор не выявлена и не описана»[143 - Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005. С. 7.]. Поэтому, несмотря на очевидность такого понятия, как «литература Сибири», четкого осознания ее границ еще нет.
А.С. Янушкевич, утверждая, что понятие «сибирский текст» безусловно дихотомическое, говорит о процессе постижения Сибири как характерной семиосферы, и в этом смысле сибирский текст – «понятие историософское и историко-культурное, ибо в процессе его описания и постижения сибирская и шире – русская мысль пыталась осмыслить феномен на пересечении мифа и реальности, изнутри и извне, как определенную дихотомию». Более того, по мысли исследователя, подлинные открытия, связанные с пространством сибирского текста, происходили в большом пространстве русской культуры, поэтому «сибирский метатекст в своей семиотической перспективе был текстом в тексте, так как свои сюжеты, мотивы вводил в проблематику общерусской культуры»[144 - Янушкевич А.С. Дихотомия сибирского текста // Евразийский межкультурный диалог: «Свое» и «чужое» в национальном самосознании культуры. Томск, 2007. С. 334, 344.].
В.И. Тюпа ставит в своих работах проблему лиминальности топоса Сибири. По мысли ученого, судьба человека, его путь в таком «пороговом» пространстве начинают придавать «сибирскому тексту» историософский масштаб и широкое гуманистическое наполнение. Подобная исследовательская стратегия выводит пространство текста за пределы его чисто географической конкретики, демонстрируя специфику восприятия Сибири уже как некоего гипертекста, интертекста русской литературы[145 - Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27-35; Он же. О сибирском гипертексте русской литературы // Сибирские чтения в РГГУ. М., 2006. Вып. 1. С. 40-54; Он же. Сибирский интертекст русской литературы // Анализ художественного текста. М.: Academia, 2006. С. 254-264.].
В коллективной монографии «Сибирь в составе Российской империи»[146 - Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.] авторы предложили новые подходы к интерпретации проблемы, сфокусировав внимание на закономерностях взаимоотношения центра и Сибири, особенностях ее хозяйственного и социокультурного освоения, формировании особой русско-сибирской территориальной идентичности. Новейшее исследование Ю. Слезкина посвящено загадке культурной чуждости[147 - Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.]. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания фигуры – иноземец, инородец, иноверец, нацмен, абориген – предстают в исследовании продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и экономико-культурной эксплуатации. Во всех этих исследованиях, так или иначе, задается проблема диалога, в свете которой литературу продуктивно рассматривать в контексте реконструкции образа «Другого».
Принципиальными в этом плане видятся размышления Н.Е. Меднис, которая акцентирует как основополагающую для выявления «сибирского текста» проблему границы, представленной «как реалия, и тем более как художественный знак-образ, полностью соответствующий ментальным закономерностям». В русской культуре и литературе XIX в. сохраняется имеющее глубокие корни четкое разделение пространств России и Сибири. Удаленность и безграничность Сибири, как указывает исследователь, породили устойчивый в рамках «сибирского текста» сюжет, связанный со странствованием, с путешествием (вынужденным или добровольным), с дальними поездками. Все они, «задавая динамику перемещений, вводят в рассказы событийно не представленный в них образ границы и воссоздают ощущение территориальной и культурно-психологической дистанции, разделяющей две континентальные составляющие государства Российского»[148 - Меднис Н.Е. Семиотика границы в «сибирском тексте» русской литературы // Евразийский межкультурный диалог: «Свое» и «чужое» в национальном самосознании культуры. Томск, 2007. С. 347-348.].
В попытке снять крайности при определении судьбы текста Н.Е. Меднис в формулировке «локального» текста выходит к категории сверхтекста. Вводя это понятие в научный оборот, исследователь оговаривает, что существующий рядом с понятиями интертекста и гипертекста термин «сверхтекст» пока уступает им в популярности, но с течением времени используется все чаще. Несмотря на семантическое родство приставок гипер- и супер-, используемых в значении «над», «сверх», термины эти имеют разный ареал бытования: «Составляющие гипертекста могут порой ничего “не знать” друг о друге, объединяясь в целое лишь некой текстовой рамой, не позволяющей им рассыпаться, разлететься и осесть в других рамах. Понятие же “сверх-текст”, как правило, прилагается к текстам центрически организованным и в силу этого обладающим сильно выраженным внутренним центростремительным движением».
Таким образом, происходит возвращение давнего термина Ю.М. Лотмана «внетекстовые связи», который не ограничивает поле изучения рамками словесных сообщений, но позволяет учитывать и множество других явлений. Поэтому при восприятии сверхтекста и работе с ним «необходимо учитывать такую связь с внетекстовыми зонами, при которой в процессе перераспределения содержания между литературным образом и внеположенной реальностью возникает «текст того порядка сложности, когда он становится самодовлеющим»[149 - Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003[Электронный ресурс]. Режим доступа: raspopin.den-za-dnem.ru/index_e.php?text=406.]. Несомненно, что территория Сибири обладает способностью порождать мифопоэтические образы, так как уже по уникальности истории и специфике развития культуры она изначально мифогенна. При таком условии развитие судьбы текста связано с неизбежной стадиальностью, так как на определенных этапах развития он выполняет функции «гипертекста», «интертекста» и, в конечном счете, «сверхтекста».
По сути, вся русская история, культура и литература, начиная со времени покорения Сибири и неподражаемого «Жития протопопа Аввакума», движется по пути складывания определенного «культурного кода». Образ страны включает в себя, как правило, достаточно разнородные символы и стереотипы, а также наиболее общие представления об историко-культурных, природных, геополитических условиях ее развития.
Сибирь на всем протяжении первой половины XIX в. осмысляется как конфликтное пространство, своего рода «инопространство». Эта далекая страна существует в литературе и культуре в целой системе стереотипов, представая как «страна угрюмая и глухая», «царство вьюги и мороза, где жизни нет ни в чем», как «страна молчания», «безголосая Сибирь», «страна изгнания», «край света», жители которого виделись, по словам П.А. Словцо-ва, «какими-то сиротами на чужбине». К.Ф. Рылеев создал трагический образ «дикой страны», где царствует «роковая неотвратимость». А.С. Пушкин, через восприятие декабристской трагедии, изобразил Сибирь как один из кругов ада с ее «мрачным подземельем» и «каторжными норами». Поэтому, по точному наблюдению А.Д. Агеева, образ американского Запада всегда был стимулом, в то время как образ Сибири всегда вызывал реакцию (курсив мой. – Е.М.) чаще всего негативного свойства[150 - Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров. М., 2005. С. 117.]. Подобные знаки-маркеры, сигналы-символы несли уже и определенную семиотическую нагрузку, тот изначальный отрицательный оценочный код, в котором заранее постулировался конечный вывод коммуникации. Отмеченные параметры «сибирского текста», характеризуя его как несомненный «гипертекст» национальной литературы, особенно активно развивались в первой половине XIX в., фиксируя отчетливые черты романтического сознания.
К середине XIX в. в связи с резкими социальными переменами в России Сибирь снова начинает привлекать к себе внимание историков, географов, путешественников, статистиков, писателей. Такого рода интерес привел к существенному пересмотру привычных понятий и представлений о далеком экзотичном крае. Именно социально-общественная проблематика, идеи революционно-демократической критики преобладают в эту эпоху как в русско-европейском контексте, так и в формирующемся явлении сибирского областничества. Наблюдается процесс постепенного крушения стереотипа Сибири как «царства холода и мрака». Сюда все чаще идут вольные переселенцы, работники на прииски, и идут уже не потайными тропами, а «с законным паспортом за пазухой»[151 - Небольсин П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850. С. 50.].
Сибирь на данном этапе развития русской истории и культуры исследуется как принципиально значимое географическое пространство России, территория, на которой явлена самостоятельная сфера человеческого бытия, сложная, противоречивая и настоятельно требующая художественного осмысления. Но постепенно она открывается и как «страна», что ведет к созданию очередного мифа, репрезентируемого русским художественным сознанием[152 - См. об этом: Эртнер Е.Н. Феноменология провинции в русской прозе конца XIX – начала XX века: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2005.].
Характерно, что параллельно складыванию сибирского мифа в эпоху кардинальных перемен происходит формирование областнической идеи, выстраивающейся в явно пограничной ситуации. Г.Н. Потанин подчеркивал, что в 1860-70-е гг. «сибирская интеллигенция еще жила исключительно общими интересами с остальной Россией», поэтому «дрожжи» у нее были «не свои, не сибирские»[153 - Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь. Её современное состояние и нужды / Под ред. И.С. Мельника. СПб., 1908. С. 269.]. Действительно, взгляды первой сибирской «областнической молодежи» – Г.А. Потанина, Н.И. Наумова, Н.М. Ядринцева, С.С. Шашкова – сложились под влиянием исследований о Сибири П.А. Словцова, исторических сочинений Н.И. Костомарова, земско-областной теории А.П. Щапова, способствовавших формированию областнической доктрины, идеи сепаратизма.
Русское население Сибири этнически и конфессионально всегда тяготело к России, было политически и экономически привязано к ней. Поэтому сами областники (особенно на первом этапе развития) чаще лишь на словах объявляли о своей укорененности в сибирской жизни. В основном же они оставались людьми европейского мышления, которое сформировалось в атмосфере Петербурга под влиянием народнических идей Герцена и Чернышевского.
Эволюционным этапом в их мировоззренческой системе, в освоении и усвоении мира, стало осознание своего «я» и отделение «своего» пространства от «чужого», «иного», что неизбежно приводило к актуализации идеи границы и разработке разнообразных ее символов. В самой сути областнической идеи и духовно-топографическом пути ее лидеров можно пронаблюдать характерную ситуацию фронтира, пересечения границы, поиска идеального локуса для воплощения своей доктрины. Вследствие этого происходила явная перефокусировка взгляда на Сибирь, которая воспринимается уже не извне, а изнутри, в самой же литературно-культурной ситуации формируется очередной локальный текст.
Категория «локального» текста достаточно прочно утвердилась в современном литературоведении за текстом «городским» и большей частью «провинциальным». По отношению же к тексту «сибирскому», думается, такое понятие применимо с трудом. Сибирь, как мы уже подчеркнули, изначально представляла по отношению к центру колонию и была не провинцией, а периферией. Понятие «провинции» дошло до нас из Древнего Рима, где оно сложилось в рамках имперского сознания. Провинция в этой перспективе – нечто отличное от периферии, которая всегда является чем-то относительным – относящимся к местоположению данного центра в данное время. Периферия принципиально отличается от провинции, существующей на фрагментированной природной ландшафтной основе, где очаги взаимосвязаны, тогда как периферия – максимально центрированный и одновременно фрагментированный компонент системы. Культурная периферия может быть одновременно экономическим центром, религиозным, но при этом оставаться политической периферией и т.д. Провинция же – это периферия ко всему, что относится к качествам центра как некоего абсолюта.
Особенность провинциальности определяется именно тем, что ее средоточие лежит в той же горизонтальной плоскости, что вся остальная среда, – в том же пространственно-временном, слабо развивающемся континууме. По определению М. Каганского, провинция – самодостаточная обыденная среда системы, нецентростремительная база деятельности, удаленная от краев и крайностей. Периферия же – это прежде всего подчиненная окраина, место решения задач, от которых зависит существование системы в целом. Причем главная особенность периферии заключается в том, что ее пространство изначально присвоено, а не освоено, неопределенно, охвачено и задано внешне. Все это ярко проявилось в истории Сибири. Важной при таком подходе видится проблема границы, которой дано обеспечить контакт со средой. Понятно, что на периферии она максимально удалена от центра, «это контр- и антицентр, поэтому главная функция ее деятельности заключена в посредничестве и интеграции, сепарации, медиации»[154 - Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001. С. 89.]. Самоопределение границы часто и неизбежно носит внешний, позиционный, пространственный характер.
По своему расположению к востоку от Урала Сибирь является по преимуществу «евразийским» регионом. В то же время конфигурация ее территории такова, что Сибирь можно считать продолжением Западной России в Азии. Тем не менее, определяющим для границы Сибири стал именно Урал, который разделил вполне реальную «метрополию» и столь же реальные «владения», где имелось все, чему положено быть в колониях (территориальная удаленность, экзотические аборигены, золотые прииски и пр.). Таким образом, представляя Сибирь именно как периферию, а не провинцию, можно уже с определенной целью говорить о специфике формирования «сибирского текста» в литературно-культурной ситуации последних десятилетий XIX в.
К середине 70-х гг. будут окончательно сформулированы главные положения областнической концепции, выраженные в многочисленных публикациях Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева. В связи с этим начинает формироваться и собственно сибирская литература. Писатель-регионалист входит в обособленный мир духовной культуры собственного края, но, с другой стороны, он участвует в общенациональной литературной традиции. В данном случае показательным становится феномен сибирского писателя Н.И. Наумова, который не только в топографических, но и в духовных метаниях демонстрирует характерную ситуацию внутреннего мировоззренческого конфликта.
В самой областнической концепции к этому времени тоже наметилась явная эволюция, связанная с усилением внутреннего спора по проблеме границы. Значительное влияние на формирование и развитие взглядов областников оказала история западно-европейских колоний, политические и экономические теории того времени. Через всю жизнь у Ядринцева проходит увлечение Северо-Американскими Штатами и уверенность, что Сибири уготовано столь же прекрасное будущее. Западные идеи и колониальный опыт в значительной мере стали для будущих областников толчком к осознанию колониального положения Сибири в составе Российской империи. Наряду с историей колоний и колониальной политики областники обращаются к изучению вопроса о положении провинции в Европе, прежде всего во Франции, Англии и Швейцарии[155 - См.: Ядринцев Н.М. Судьбы провинции и провинциальный вопрос во Франции // Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск, 1919. С. 137-155.]. В итоге Ядринцев становится одним из наиболее заметных русских защитников и теоретиков децентрализации. Потанин же видел залог будущего развития Сибири в общинном, артельном начале. Для него важно было указать на ту разницу, которая существовала между сибирской и американской колонизацией. Главное отличие Сибири от России, по его убеждению, – в отсутствии крепостного права, поэтому, прежде всего, из общины вырастает сам принцип федерализма, и именно Сибирь должна совершить данный переход, в этом ее мировое значение.
Таким образом, окончательное оформление идей областничества в последние десятилетия XIX в. приводит к новому в русской культуре взгляду на Сибирь как на целостность. По утверждению современного исследователя, «образ Сибири, созданный областниками, был настолько крупным, соразмерным поставленным ими политическим задачам, что он до сих пор, по-видимому, является более прочным и практичным, нежели большинство современных геополитических образов Сибири, слишком явно ориентированных на природно-ресурсную составляющую»[156 - Замятин Д.Н. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности. СПб., 2004. С. 48.].
Сибирский регион начинает теперь мыслиться как уникальный локальный хронотоп. Преодолевать «тоскливое уныние», в отличие от романтиков, областникам помогает ощущение границы. Характерным аспектом областнического мироощущения станет восприятие Сибири как родной земли. Не случайно сюжет путешествия приобретает в творчестве областников все более отчетливые автобиографические черты, и с точки зрения традиции сама дорога предстает как сюжетно организованный текст, линейно разворачивающийся от «ухода» до «возвращения». Важно, что сюжет «дороги» в данном случае не только реконструируется, но и реально существует, эксплицируется самой традицией в жанровых формах путевых заметок и дневников, дорожных рассказов и воспоминаний.
Сущностные сдвиги происходят на данном периоде и в русско-европейском литературном процессе. В творчестве Достоевского, пережившего Сибирь не только духовно, но и топографически, она станет символом «мертвого дома». Показательно, что через десять лет появятся книги, продолжающие исследование проблемы: «Сибирь и каторга» С.В. Максимова, «Русская община в тюрьме и ссылке» Н.М. Ядринцева. Страшный мир каторги, о котором с такой болью рассказано в «Записках из Мертвого дома», и в «обновляющейся России», по ироничному замечанию Ядринцева, не перестал быть таким же страшным и жестоким.
С другой стороны, именно в Сибирь будет направлять своих любимых героев Достоевский для экстатического акта возрождения-воскрешения. В поисках новых путей и национального типа героя для литературы этой поры характерна тенденция к преодолению привычных границ, схождению с центральных дорог культуры на проселочные. Ю.М. Лотман, говоря о сюжетном пространстве русского романа, приводит в пример слова М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, что завязка современного романа «началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась <…> Сибирью». И это принципиально, так как в привычном сюжетном звене русских сюжетов: смерть – ад – воскресение, исследователь акцентирует подмену другим: преступление – ссылка в Сибирь – воскресение[157 - Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 102-103.].
В публицистическом творчестве Лескова 60-70-х гг., где он уясняет для себя феномен русского странничества, бродяжничества, показателен выход на так называемую идею места, проблему культурного пространства. Тема Сибири, изначально развивающаяся в творческом сознании Лескова на уровне писательской интуиции, постепенно воплощается в его текстах в некую образную систему. Писатель, прекрасный знаток русских религиозно-сектантских движений, явления переселенчества, добровольного и вынужденного странничества, все больше присматривается к топографии народных перемещений. Поэтому не раз Сибирь предстает для него как своеобразный знак, символ-сигнал «земли обетованной», куда бредут все гонимые и страждущие в поисках «потерянного рая».
В принципиальном для творческой системы Лескова рассказе «На краю света» (1875) действие происходит в Сибири. На первоначальном этапе он покажет типичный путь героя к чужой и страшной периферии, мешающей соединению с сакральным центром и требующей особого усилия в преодолении, по терминологии В.Н. Топорова, «границы-перехода». На конечном же этапе герой уже испытает ситуацию воскрешения, и причиной этому станет не его миссионерская деятельность, а неосознанное подвижничество дикаря-тунгуза, возвратившего его, как Лазаря, к жизни. Постепенно Сибирь открывается для писателя как новое этноконфессиональное пространство, и он вводит в русский контекст еще одну формулу, закрепленную в национальном культурном сознании: Сибири как «края», но «края света». Таким образом, в мировоззренческой системе Лескова сохраняется привычная амбивалентность по отношению к сибирскому хронотопу, но с резким сломом устоявшихся понятий, и именно экзистенциальная природа сибирской границы как феномена сознания определяет характер ее семиотизации. Формирование сибирского дискурса продолжится и в позднем творчестве Лескова, в его рассказах-очерках 90-х гг.: «Сибирские картинки XVIII века», «Юдоль», «О квакереях», «Вдохновенные бродяги» (удалецкие «скаски»), «Продукт природы».
Значимым вкладом в формирование «сибирского текста» станет творчество В.Г. Короленко, развивающееся с начала 80-х гг. В записных книжках, дорожном дневнике, письмах периода якутской ссылки, сибирских очерках и рассказах писатель вырабатывает свою формулу Сибири как «настоящего складочного места российской драмы». Феномен русского странничества и бродяжничества, постигавшийся его творческим сознанием, оказался важным для жанра этнографического очерка. Излюбленным персонажем в нем предстает бродяга, беглый каторжник, поведение которого превращается в своеобразный жизненный жест. Важно, что писатель, вошедший в большой литературный ряд, никогда не потеряет под собой так называемую региональную почву. Философско-религиозные раздумья в постсибирский период творчества Короленко, выраженные в его дневниках, письмах, рассказах, приведут к значимой смене нарративных стратегий, когда он начнет говорить языком мифа, сказки, притчи.
Г.И. Успенский, предпринявший добровольную поездку в Сибирь, воспринимает ее поначалу как крест, движение в сторону ада, который должен пройти каждый человек. Но при этом у него произойдет и принципиальное столкновение-конфликт «книжного» представления о Сибири и собственного «открытия» места. Основной лейтмотив в сформировавшемся образе Сибири – устойчивое описание ее как страны негостеприимной, угрюмой, опасной, узилища для каторжников. Сибирская формула писателя – «виноватая Россия» – выразится не только в главном творческом итоге путешествия – цикле «Поездка к переселенцам», – но буквально «пронзит» все его дорожные записи, письма с дороги.
А.П. Чехов по пути на каторжный остров Сахалин неожиданно откроет для себя Сибирь как особое пространство, что приведет и к перевороту привычного понятия Восток – Запад, «свое» – «чужое». Путешествие писателя в итоге обусловит важную смену позиций как в творческом, так и мировоззренческом плане. Показательно, что при постижении далекого экзотического пространства в центре внимания Чехова оказались не специфические местные проблемы, а общерусские противоречия культурной, социальной и политической жизни. Поэтому по мере «узнавания» нового пространства у него произойдет слом привычных стереотипов, результатом чего станет своеобразная демифологизация Сибири. Антропоцентризм Чехова выдвинул в центр повествования отдельные драматические судьбы, в итоге в преодолении начальной оппозиции «здесь» и «там» (России-дома и Сибири, страны-ада) объединяющим началом станет человек с трагической судьбой, но способный к постоянному развитию, умеющий покорять пространство и вести диалог с миром.
Как видим, новый «опыт» осуществляется писателями в процессе «опровержения» уже существующего «знания». Постепенно пространство Сибири демифологизируется и то, что считалось «типическим, детипизируется». В итоге, к концу века, по точному выражению Е.Н. Эртнер, «Сибирь из предмета «в-себе» становится интенциональным предметом, неким «в-себе для-нас»[158 - Эртнер Е.Н. Указ соч. С. 26.]. Сам же «сибирский текст» все больше начинает выражать себя уже на уровне определенного «метатекста».
Известно, что граница обеспечивает контакт со средой при всей своей максимальной удаленности от центра. Сибирская граница как реалия и тем более как художественный знак-образ полностью соответствует ментальным закономерностям, сложившимся к этому времени в русской литературе и культуре. Г.Н. Потанин, осмысляя феномен сибирской литературы в статье «Роман и рассказ в Сибири», определенно рассматривает ее проблему уже не в узко локальном, но принципиальном смысле, выявляя в ней особые органичные «кристаллические формы»[159 - Потанин Г.Н. (Авесов). Роман и рассказ в Сибири // Сибирь. 1876. № № 40, 44, 51.]. Крайне характерным ему видится актуализация новых жанров и сюжетов в творчестве сибирского писателя Н.И. Наумова.
Несомненно, что особенности нарратива, стратегии межкультурного диалога в текстах Наумова связаны с его личным опытом и сибирским материалом, задающим самую разнообразную жанрово-нарративную природу произведений. Но если учесть, что многое может дать взаимодействие жанров, чьи контуры пересекаются в пределах одного произведения, то преобладающее место в творчестве Наумова занимает очерк, позиционирующийся как некий универсальный в плане содержания жанр, размывающий границу между художественным и документальным письмом. Основная тема его произведений – жизнь народа в многообразных ее проявлениях, изображение пестрого люда, крестьян, купцов, обозников, переселенцев, пустившихся в путь по России. Практически все сюжеты очерков писателя связаны с дорогой, сибирским трактом, сам же автор выступает в них не просто как чиновник по крестьянским делам, но и как «невольный турист».
Н.М. Ядринцев в 80-х – середине 90-х гг. продолжает публиковать в «Восточном обозрении» огромное количество статей, посвященных «сибирскому вопросу», включающих целый комплекс проблем: центра и периферии, тюрьмы и ссылки, русских переселенцев, инородцев и пр. Как подчеркивает современный исследователь, «в процессе систематического осмысления судьбы Сибири Ядринцевым используется весь спектр гуманитарного знания – история, геополитика, экономика, лингвистика. Постигая историю Сибири в пространственных категориях, он определяет место ее развития не Европой и не Азией, но той особой территорией-конгломератом, которой предстоит новая роль и новые задачи»[160 - Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как философия российской действительности. СПб., 2004. С. 98.]. В итоге в его творческой системе происходит окончательное формирование колониального дискурса, впервые представленного в областнической доктрине последней трети XIX в.
По убеждению Ядринцева, в результате колонизации Сибири сложился новый социокультурный мир, который был свободен, не замкнут в себе, который постоянно принимал поток переселенцев и ссыльных, во многом изменяющих нравы. Сибирь теперь рассматривается публицистом как важное географическое, натуралистически-антропологическое пространство России, то конкретное место, где явлена самостоятельная сфера человеческого бытия, сложная, противоречивая и настоятельно требующая глубокого осмысления. С точки зрения фронтирной ситуации она все больше приобретала черты подвижной зоны закрепления и освоения, зоны, которая не столько разделяла, сколько сближала внутреннее и внешнее пространство.
Г.Н. Потанин к этому времени практически отходит от общественно-публицистической деятельности, полностью посвящая себя науке. Его все больше влечет Восток, и это не случайно. К последней трети XIX в. просвещенное человечество и наука уже переболели европоцентризмом и обнаружили свой пристальный интерес к Востоку. Потанин в этом – один из первых. Он понимает, что Восток не просто интересен, он помогает Европе понять самое себя[161 - См. об этом: Сагалаев А.Н., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: опыт осмысления личности. Новосибирск, 1991.]. В науке начинается тщательная ревизия культурного наследия: выясняется родословная европейских культур, ученые ищут их истоки, прародину, устанавливают, что в былые времена Восток и Запад тесно взаимодействовали, поэтому не случайно появление в науке различных гипотез, наводящих мосты между Востоком и Западом. В связи с этим Потанин начинает работу над капитальным трудом «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе», который был издан в 1899 году.
В своих знаменитых экспедициях, предпринятых под руководством Русского Географического общества, исследователь собирает не только конкретный этнографический материал, но и обращается к фольклору, монгольско-тюрским преданиям. Важная качественная эволюция происходит и в творческих поисках Потанина. Источником многих сюжетов европейского эпоса он теперь предлагает считать не «высокие» письменные культуры, а степные предания народов Центральной Азии. Вслед за Веселовским исследователь решает вопрос о «бродячих сюжетах». В своих поисках и обозначении общего сюжета о Боге-отце и Боге-сыне (Ерке) на основе фольклорных буддийских источников Потанин выходит уже к христианским откровениям.
Как видим, в последнее десятилетие XIX в. открытия в русско-европейской и сибирской литературе начинают определенно смыкаться с раздумьями русской религиозной философии рубежа веков. В то же время сибирская литература все чаще обращается к проблеме «местного самосознания», поискам некоей общей «идеи», обуславливающей своеобразие регионального литературного процесса. «Свое» в творчестве регионального автора раскрывается, прежде всего, в феноменологическом образе края, который приобретает уже бытийное значение..
По утверждению Н.Е. Меднис, «необходимым условием возникновения сверхтекста становится обретение им языковой общности, которая, складываясь в зоне встречи конкретного текста с внетекстовыми реалиями, закрепляется и воспроизводится в различных субтекстах как единицах целого; иначе говоря, необходима общность художественного кода»[162 - Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003[Электронный ресурс]. Режим доступа: raspopin.den-za-dnem.ru/index_e.php?text=406.]. Конец 80-х – начало 90-х гг. позволяет с уверенностью утверждать, что сибирский культурный код сформирован.
В постижении феномена Сибири в означенную эпоху намечается характерная тенденция: на смену географическому мышлению приходит нравственно-метафизическое региональное сознание, вместо понятия «тема» формируется категория «образ». С одной стороны, это максимально дистанцированное и опосредованное представление реальности, так как оно выявляет “рельеф” культуры, будучи одновременно культурой в ее высших проявлениях. С другой же стороны, образ – часть реальности; он может меняться вместе с ней[163 - См. об этом: Замятин Д.Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М, 2006.]. Таким образом, изначально жёстко заданные прагматическо-позитивистские конструкты в эпоху 60-70-х гг. ослабляются и позволяют посмотреть на данный регион в целом по-иному, чем прежде.
Как мы показали, сам феномен сибирского края в последней трети XIX в. уже не столько выражался в овеществленных сущностях, сколько порождал ориентацию на художественное сознание, которое, в свою очередь, конституирует вещь и воспроизводит ее образ в слове. Такой подход включает выделение конститутивных элементов явлений и исследование их отношений и связей со смежными явлениями. Таким образом, именно феноменологическое осмысление пространства, предложенное в дальнейшем немецкими и французскими философами, продуцирует новое истолкование феномена места.
Действительно, как мы уже подчеркнули, вся русская литература и культура последней трети XIX в. находится в поисках той духовной реальности, которая неизбежно выводит ее на другие, побочные пути, далекие от центральных культурных магистралей. И путь человека культуры уже не определяется движением с Востока на Запад, а принципиально поворачивается в сторону российской восточной периферии. Русский концепт Сибири, сложившийся к этому времени в национальном сознании, был связан с семантикой неустойчивости ее границ и представлением о необъятности ее просторов. И насколько определен для человека путь к центру, настолько путь в Сибирь не имеет конечной точки: он бесконечен и прерывен, неопределен и туманен. Отсюда рождается очевидность связи между Сибирью, понимаемой как место «неукоренения» и бесконечного ухода, и Сибирью как мифологическим местом смерти и воскрешения. В итоге среди того, что окружает человека, особое значение приобретает дорога, а само движение в пространстве представляет собой путь, который проходит человек, чтобы образовать «свое» пространство.
Такого рода топографически-духовное кружение, поиск, определение и нахождение «своего» пути близки философским раздумьям Хайдеггера, сформировавшего в культуре XX в. понятие феноменологии пространства, совершенно невозможного вне пространства географического. Сама мировоззренческая эволюция Хайдеггера крайне показательна. На смену ранней философии, сформировавшейся под мощным влиянием Э. Гуссерля, приходят понятия, выражающие реальность не столько личностно-этическую, сколько безлично-космическую: бытие и ничто, сокрытое и открытое, основа и безосновное, земное и небесное, человеческое и божественное. Мир предстает в его миросозерцательной системе как образ и вне своего образного проявления не существует. В конечном счете происходит преодоление метафизики как целого.
Мышление позднего Хайдеггера находит свое призвание в поиске того, что всегда было и есть, но сегодня оказалось в плену исторического забвения, – в поиске топологии бытия. Теперь, по Хайдеггеру, путь (Weg) – это усилие, необходимое для того, чтобы размечать поверхность прохождения, чтобы «не сбиться с пути». Именно поэтому соотношение дали и близости здесь иное. Даль может быть бесконечно более близкой, чем самая близкая близость, исчисляемая метрическими параметрами, и наоборот[164 - См. об этом: Михайлов А.В. Вместо предисловия // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. VII-LII.]. Резкое изменение тематики философии Хайдеггера привело к тому периоду, за который он был впоследствии назван «философом-поэтом», «философом родных мест». На данном этапе развития мысли «исток» для него представляет главное условие для переживания человеком полноты бытия, несет вполне вещественную окраску, отражается в образе родных мест, почвы. Заглавие его написанного после войны текста А.Д. Михайлов переводит как «Проселок», «Проселочная дорога», «Дорога в поле» или «Дорога среди полей». К этой семантике дороги, о которой говорит философ, стекается вся его мысль. Иными словами философия позднего Хайдеггера – это «философия проселка». И дорога у него живая, она сама идет своим путем, поэтому в диалектике Хайдеггера человек, творящий историю, и сам оказывается преходящим феноменом.
Путь, на котором пребывает homo historicus, Хайдеггер выразил в непереводимом на русский язык афоризме «Der Mensch ist das Weg» («Человек – это путь»). Таким образом, основное настроение и тема текста Хайдеггера – это настроение и тема возвращения. Возвращения к себе, к своему, в свое, в одно и то же, в то же самое. Это особо впечатляюще звучит в конце «Проселка», где «сама простота выглядит теперь еще проще, чем раньше, и сама тишина – тише, чем когда-либо. Так получается, что возвращение как тема заглушает в тексте Хайдеггера другое – уход»[165 - Там же. С. XVIII.]. Но значимым или даже торжественным путь домой делается тогда, когда на это малое возвращение накладываются кольца все больших возвратов. Поэтому основную суть философии позднего Хайдеггера можно определить, по выражению М.М. Бах-тина, как неразрывную вековую связь с «ограниченной локальностью»[166 - Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике / Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 377.].
Таким образом, как нам представляется, через идею диалога в постижении «сибирского текста» возможно показать объективную открытость обоих литературных потоков – сибирского и общерусского. Несомненно, что в последние десятилетия XIX в. возникает своя «философия проселка», связанная с новым «открытием» Сибири, где встречаются два сознания, и условием понимания темы, идентификации и самоидентификации рассматриваемых нами литературных потоков служит существование Другого. Сам представленный нами материал говорит о необходимости комплексного изучения заявленной темы в русле нарратологии, мотивологии, рецептивной эстетики, дискурсного анализа текстов, в связи с теорией диалога как постоянного взаимодействия в культуре и понятием границы, где, по Бахтину, и происходит самосознание культуры.