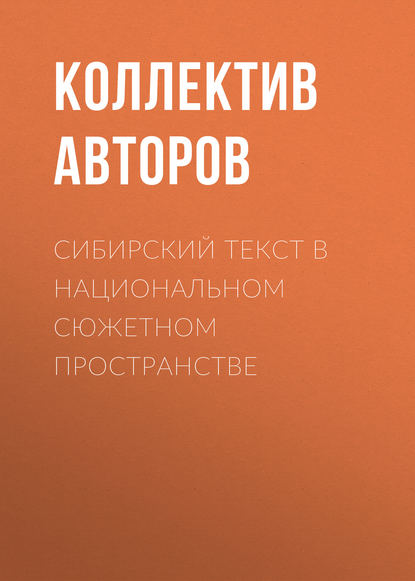По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стрела и шар: «геограмма» Зауралья
Для более полного, целостного понимания содержательного образно-географического перехода Сибирь – Зауралье можно использовать концепты шара и стрелы. Географический, или историко-географический, образ Сибири формировался в течение нескольких столетий как шар или сфера – иначе говоря, большинство знаков, символов, архетипов и стереотипов, связанных с этим образом и связываемых данным образом в единую систему, удобнее представлять как постоянно закругляющуюся бесконечную поверхность, ориентированную в любой её точке на самоё себя[55 - Ср. также диалектику шара, точки и линии, разработанную Николаем Кузанским. См.: Кузанский Н. Игра в шар // Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 249-317.]. Здесь мы можем уверенно говорить даже о типе метагеографического образа-шара или сферы, формирующей, как правило, соответствующую конкретную топографию и топологию фрактальных и фрактализующихся мест – эти места в рамках своего самоподобия стремятся к тотальной внутренней пространственности, порождающей геоонтологии стоящего, застаивающегося, расшатавшегося, «вывихнутого», постоянно «распадающегося» времени (ср. в «Гамлете»: “The time is out of joint” и метафизическое продолжение этой темы в поэзии Мандельштама 1920-х гг. с «выходом» в Сибирь, «жаркую шубу сибирских степей»).
В свою очередь, метагеографический образ Зауралья можно рассматривать как стрелу, пронизывающую, протыкающую «дымящийся шар» Сибири и словно заставляющую его превращаться, трансформироваться в ряд самовоспроизводящихся спиралей, создающих одновременно пространственный эффект ретроспективы и перспективы, «геограмму» всех возможных локальных мифов и текстов, культурных ландшафтов, становящихся уже уникальными представлениями закрепляющихся тем самым мест. Метагеографический образ-стрела, по всей видимости, может выступать как тип упорядоченных и в то же время расходящихся временных последовательностей, постоянно координируемых и соотносимых в рамках всё новых и новых опытов пространственности.
Эти новые возможные опыты пространственности должны опираться всякий раз на метагеографическое понимание Зауралья как расширяющегося образа. В таком случае нужен предварительный метагеографический анализ приставки «за-» и, собственно, дефиса, расчленяющего и разделяющего в какой-то момент пространство Урала и то, что за ним следует.
Приставка «за-» в образе Зауралья полагает собой возможность некоего «-уралья» – приуралья, поуралья, подуралья, надуралья и т.д. Мы пишем эти слова со строчной буквы, поскольку сам образ лишь предполагает такие потенциальные пространства, которые не обязательно могут быть и должны быть представлены и репрезентированы. В то же время приставка «за-» акцентирует наше внимание на возможности заглянуть, засмотреться, задуматься, замыслить что-то, что является неким ментальным или онтологическим продолжением Урала, однако сам «Урал» остается на месте – он не передает энергетику своего пространства непосредственно, но создает лучи, районы пространственностей посредством внедрения и повторения данной приставки. В свою очередь, Зауралье или даже Зауралья оказываются возможными в силу онтологического отодвигания самого Урала, своего рода его переворачивания и выворачивания. Урал в непосредственно данной географии кажется продвигающимся на восток, северо-восток и юго-восток, и в то же время метагеографически он оттесняется на запад, становясь все более и более европейским, или же российским. Такой подход учитывает и то обстоятельство, что для жителей традиционной Сибири или Дальнего Востока Зауральем являются собственно те районы, которые находятся к западу от Урала, европейская часть России, Восточная Европа и т.д. Мы можем сказать, что метагеографическое понимание Зауралья оказывается серией расходящихся образов-опытов пространственности, включающих как «объевропеивание» районов европейской части России, так и «овосточнивание» регионов Сибири и Дальнего Востока. Приставка «за-» в образе Зауралья является обоюдоострой – как в смысле непосредственного расширения районов и зон новых опытов пространственности, так и в смысле опосредованного перехода к новым районам человеческого бытия.
Между тем, возникающий в подобном метагеографическом анализе дефис между «за» и «уральем» говорит нам, что в этом онтологическом зазоре возможно появление «уральскости», т.е. таких ландшафтных и локально-мифологических представлений, которые являют Урал как точно определенное место вне его непосредственных географических координат. Уральскость может рассматриваться как пространственная идентичность, обусловленная расширением онтологического зазора между собственно Уралом и Зауральем. Именно обнаружение и фиксация уральскости позволят твердо говорить и рассуждать о становлении Зауралья как устойчивого бытия-существования новых опытов пространственности – точно так же, как европейскость можно рассматривать в качестве «гаранта» онтологического существования самой России, подобно метагеографическому «Заевропью». В таком случае и Сибирь, попадающая в прочный и надёжный «кокон» зауральских метагеографических образов, может оказаться достаточно автономным и бытийно устойчивым образом-опытом пространственности. Здесь, тем не менее, мы пока не можем говорить об онтологической возможности «Засибирья», поскольку метагеография Сибири еще не явлена как целостное развернутое дискурсивное поле поддерживающего само себя воображения.
Д.Н. ЗАМЯТИН
Сибиряки на службе империи: служба и самосознание (случаи П.А. Словцова и И.Т. Калашникова)[56 - Перевод К.В. Анисимова.]
В личном архиве романиста Ивана Тимофеевича Калашникова, хранящемся в Пушкинском Доме, имеется подборка документов, относящихся к возведению его в 1859 г. в ранг тайного советника. Большая часть этой подборки вполне ординарна и представляет собой типичный пример имперского чинопроизводства середины XIX в., тем не менее она небезынтересна для исследователей. Как и многие прочие документы обширного архива писателя, эти тщательно приведены им в порядок и озаглавлены; причем, сообщая своим будущим читателям об окончании работы «26 января 1859 года в доме Горянскаго в С. Петербурге, в Фурштатской улице № 31», Калашников вдобавок создает подробный рассказ о том, как он удостоился столь высокой ступени в табели о рангах. В том, что читатели будущего обязательно обратят внимание на этот документ, он явно не сомневался – об этом свидетельствуют как дотошность указаний на время и место создания текста, так и в целом осознание своего служебного продвижения как важного исторического события. Так, описывая свою аудиенцию у Александра II, он отмечает следующее: «Не многим из Сибиряков удалась эта честь. Я первый из них Тайный Советник и едва ли не первый удостоился говорить с ГОСУДАРЕМ. Слава Господу Иисусу, до сегодня не оставляющему меня своим божественным покровом. Всемогущий сказал мне во сне: “Я тебе помогу”». А несколько позднее, 9 сентября 1859 г., производство и аудиенция у императора были увенчаны приглашением на торжественный обед, на котором снова присутствовал царь. Вдоль нарисованной схемы расположения мест на обеде Калашников написал: «Я был на обеде у ГОСУДАРЯ! Право, чудно подумать, что Иркутской Казен[ной] Палаты подканцелярист попал в Тайные Советники и приглашен на обед к ГОСУДАРЮ! Слава Богу, благодетелю нашему!»[57 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 145. Лл. 26 об.; 28-29.].
Рассказ Калашникова о его карьерном продвижении является показательным историческим источником, поскольку он обнаруживает сакральное переживание многими русскими чиновниками своей службы. Изучение того, как служебная деятельность воздействует на идентичность чиновника, обеспечивая его пропитанием в материальном и духовном смыслах, позволит нам лучше понять причины многолетней стабильной работы имперского властного механизма. В последнее время именно эта его черта – способность долгое время связывать воедино громадное государство, состоящее из бесчисленного количества составных частей, – становится более приоритетным объектом исследования, нежели традиционное выявление предпосылок революций 1917 г.[58 - Burbank, Jane and Ransel David, eds. Imperial Russia: New Histories for the Empire. Bloomington, 1998. P. XVI.]. Особое внимание в рамках данного подхода уделяется взаимоотношению «частной» и «общественной» жизни в империи[59 - См., например: Randolph, John. The House in the Garden: The Bakunin Family and the Romance of Russian Idealism. Ithaca, 2007. См. также материалы недавнего круглого стола, организованного журналом American Historical Review и посвященного теме «Историки и биография»: American Historical Review. 2009. Vol. 114. №. 3. P. 573-661.]. В этом смысле понять внутреннее переживание чиновником своей службы является для историка Российской империи важной задачей.
Цитированный выше рассказ Калашникова служит также примером того, как государственные институты могли связывать воедино различные регионы страны и формировать идентичность, в рамках которой главной «родиной» оказывалась сама империя. Современной наукой категория империи была переосмыслена – ученые стараются исключать из этого понятия эмоциональный компонент[60 - Обсуждение этого процесса см. в работах: Cooper, Frederick. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley, 2005. P. 3-32; Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Сем?нов А. Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 7-32.]. И хотя оно все равно известно сегодня как преимущественно умаляющий эпитет, слово «империя» долго означало и «мир-цивилизацию», выступавший «в роли объединяющего начала ойкумены, окруженной разрушительной стихией хаоса и варварства»[61 - Герасимов И. и др. Новая история постсоветского пространства. С. 7.]. Такое представление о России было присуще ее правителям, которые, начиная с Петра Великого, считали себя «царями-реформаторами»[62 - Whittaker, Cynthia H. The Reforming Tsar: The Rede?nition of Autocratic Duty in Eighteenth-Century Russia // Slavic Review. 1992. Vol. 51. № 1. P. 77-98; См. также: Wortman, Richard S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1. Princeton, 1995.].
Известные современному исследователю в основном как деятели, стоявшие «у истоков сибирского областничества»[63 - Степанов Н. П.А. Словцов (у истоков сибирского областничества). Л., 1935.], Иван Калашников и Пётр Словцов выражали подобное воззрение на империю. Оба они, как мы постараемся показать, были образцовыми персонажами имперской жизни. Как написал Джеффри Хоскниг, они «были одеты в одежды империи, говорили на ее языке, и именно она была их родиной в истинном смысле слова»[64 - Hosking, Geoffrey. Russia: People and Empire, 1552-1917. L., 1997. P. 153.]. Однако в отличие от землевладельцев внутренних губерний, которых имел в виду Хоскинг, Словцов и Калашников были уроженцами Сибири, области, особенно зависящей, по мнению обоих, от действий институтов империи. И если в самом деле справедливо характеризовать их как первых сибирских патриотов, тем не менее необходимо отметить, что признание ими Сибири в качестве «родины» осуществлялось не в ущерб самоотождествлению с империей.
В данной работе мы не имеем возможности с достаточной полнотой осветить биографии Словцова и Калашникова, однако считаем необходимым дать краткий очерк их жизни для того, чтобы ясно представить контекст анализируемых ниже обстоятельств[65 - Подробнее см.: Беспалова Л. Сибирский просветитель. Свердловск, 1973; Богданова, А.А. Сибирский романист И.Т. Калашников // Уч. зап. Новосибирского гос. пед. ин-та. 1948. Вып. 7. С. 87-120; Анисимов К.В. Между Тобольском и Санкт-Петербургом: из истории эстетического самоопределения ранней сибирской литературы (П.А. Словцов vs. Г.И. Спасский) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 64-72; См. также диссертацию автора этой статьи «Просвещая полуночную землю: Пётр Словцов, Иван Калашников и становление русской Сибири», в которой особое внимание будет уделено малоизученным вопросам служебной карьеры обоих деятелей.]. Пётр Андреевич Словцов родился в 1767 г. в семье священника в уральском горнопромышленном городке Нижнесусанинский завод[66 - Имеются также данные о рождении Словцова в другом уральском городе – Невьянске. Подробнее на эту тему см.: Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005. С. 105-106.], где он получил начальное домашнее образование. Большую часть 1780-х гг. Словцов провел в Тобольске, обучаясь в местной семинарии, после чего был отправлен в Санкт-Петербург продолжать образование в Александро-Невской семинарии, где он познакомился и подружился с М.М. Сперанским. Имея достаточно высокую самооценку вследствие своего петербургского образования, Словцов по возвращении в Тобольск в 1793 г. шокировал тобольское общество проповедью, посвященной бракосочетанию царевича Александра. В этой проповеди, в числе прочего, Словцов охарактеризовал монархические государства, в которых граждане не равны перед законом, как «великие гробницы, замыкающие в себе несчастные стенящие трупы»[67 - Три проповеди П.А. Словцова // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873. Кн. 13. С. 10-13.]. За это и ряд подобных высказываний Словцов был отправлен в заключение на Ладогу в Валаамский монастырь. В 1795 г. ему позволили вернуться в Санкт-Петербург, где он в качестве преподавателя Александро-Невской семинарии снова сошелся со Сперанским. Как и его знаменитый в будущем друг, Словцов решил делать светскую карьеру и вскоре добился выдающихся успехов в столице. Однако из-за до сих пор не проясненных обстоятельств в 1808 г. его обвинили в лихоимстве. Несмотря на последовавшее оправдание, Словцов был опорочен, и царь решил отправить его под начало недавно назначенного генерал-губернатора Сибири Ивана Пестеля. В 1814 г. после нескольких лет служебных поездок по родному Уралу Словцова перевели в Иркутск, где он был назначен главой иркутского совестного суда и директором иркутских училищ. Как раз в это время он познакомился с юным Иваном Калашниковым, иркутянином, родившимся в семье чиновника Тимофея Калашникова в 1797 г.[68 - Тимофей Петрович Калашников оставил после себя целый ряд уникальных документов, в частности, свою биографию, переписку и дневник, который, в числе прочего, содержит описание снов его автора. Эти материалы хранятся в архиве Пушкинского Дома. Очерк биографии опубликован Б.Л. Модзалевским. См.: Калашников Т.П. Жизнь незнаменитого Тимофея Петровича Калашникова, простым слогом описанная с 1762 по 1794 год // Русский архив. 1904. Кн. 3. С. 145-183.] Калашников получил образование в недавно открытой Иркутской гимназии и стал служить в казенной палате. В это время Словцов начал опекать подающего надежды молодого человека, проверять его первые литературные эксперименты и, использовав свое знакомство с М.М. Сперанским (служившим в 1819-1820 гг. в Иркутске сибирским генерал-губернатором), способствовал переезду Калашникова в 1823 г. в Петербург. По приезде Калашников женился на крестнице Сперанского Елизавете Петровне Масальской, сестре известного в будущем исторического романиста Константина Масальского[69 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1 об. (Письмо И. Т. Калашникова к Сергею Тимофеевичу Васильеву от 2 февр. 1824 г.).]. В течение 1820-х гг., пока Калашников устраивался в столице, Словцов служил визитатором сибирских училищ и вышел в отставку действительным статским советником (чин 4-го класса), когда должность визитатора была упразднена в 1829 г. в результате реформы сибирской образовательной системы. Вопреки полученному разрешению вернуться во «внутренние губернии» Словцов провел остаток своей жизни в Тобольске, где и умер в 1843 г. Калашников остался жить в Санкт-Петербурге и стал там отцом огромного семейства (его жена родила ему 17 детей), поднимаясь по лестнице правительственных постов и достигнув накануне своей смерти в 1863 г. ранга тайного советника (чин 3-го класса).
Сегодня Словцов и Калашников известны преимущественно своими трудами. Словцов – как автор «Писем из Сибири» (1828), «Прогулок вокруг Тобольска» (1834) и в особенности «Исторического обозрения Сибири» (1838, 1844), благодаря которому уже после смерти он обрел славу предтечи сибирского областничества[70 - Главные труды Словцова недавно были переизданы. См.: Словцов П.А. Письма из Сибири 1826 года. Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году. Тюмень, 1999; Словцов П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. (Историческое обозрение Сибири) М., 2006. Библиографию опубликованных работ автора см. в кн.: Беспалова Л. Сибирский просветитель. С. 139-143.]. Г.Н. Потанин, например, начинает свою работу «Областническая тенденция в Сибири» (1907) с указания, что «первым сибирским патриотом всегда считали Словцова», и добавляет, что сибиряки воспринимали словцовское «Историческое обозрение» как «патриотический подвиг»[71 - Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907. С. 1.]. В другой работе Потанин отметил: «Тогда не было еще в Сибири никаких ученых учреждений, ни географических обществ, ни университета. В одном Словцове сосредоточивалась вся умственная жизнь Сибири, вся ее наука; он совмещал в себе целое географическое общество, целый исторический институт. Таким же, почти одиночкой, является впоследствии и Николай Михайлович Ядринцев после тридцатилетнего затишья»[72 - Цит. по: Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала ХХ века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. С. 104-105.].
Однако, как отметил К.В. Анисимов, «локальный патриотизм (Словцова. – М.С.) носил, скорее всего, стихийный, индивидуально-психологический характер»[73 - Там же. С. 106.]. Причина такого положения вещей заключалась в том что, по мнению Словцова, сибирская история – это история распространения цивилизующего начала, исходящего от государства с его последовательной практикой законотворчества, распространением в далеких землях просвещения и проповедью христианства. Таким образом, Словцов уверен, что сибирская история «выходит из пелен самозабвения»[74 - Словцов П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. (Историческое обозрение Сибири) М., 2006. С. 53.] только после разгрома ханства Кучума. «Вся ваша Россиа и наша Сибирь по XIX столетие», – утверждает он, – были миром, созданным Петром Великим и Екатериной II: если первый «разлучил между тьмой и светом», то вторая создала «Русского по образу и подобию человека»[75 - Словцов П.А. Прогулки вокруг Тобольска. С. 135.]. Именно сопричастность судьбе империи сообщает целостность судьбе и самой Сибири: «в стране, зарождающейся из многочисленных зародышей, хотя зародыши сии и не были еще мыслящи, не радостно ли, – писал он, – предусматривать сложение будущей съединенной жизни, жизни небывалой»[76 - Словцов П.А. История Сибири. С. 97; Степанов Н. П.А. Словцов. С. 28-29.]. И хотя Словцов упоминал о «колониальном» предназначении Сибири в составе империи (в экономическом смысле), всё же эта тема звучит в его наследии сравнительно глухо. Как и многочисленные чиновники европейских трансконтинентальных империй, он верил в то, что потенциальные успехи просвещения в составе имперского государства превысят ту цену, которую должны заплатить за них местные жители. Это определило главную идейную установку его двухтомного «Исторического обозрения», в котором сибирская история определена как «добавка» к русской[77 - Словцов П.А. История Сибири. С. 280. Обсуждение работ Словцова в этом аспекте см.: Мирзоев В. Историография Сибири. 1-я половина XIX века. Кемерово, 1965. С. 88-138; Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала ХХ века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. С. 97-124.].
Калашников, заслуживший посмертную известность своими «Записками иркутского жителя», которые предоставили историкам многочисленные свидетельства очевидца о правлении в Иркутске гражданского губернатора Николая Трескина, своим современникам был более знаком как автор исторических романов[78 - Калашников И.Т. Записки иркутского жителя // Русская старина. 1905. №. 7-9. С. 187-251; 384-409; 609-646. «Сибирские» романы и повесть Калашникова, вышедшие в 1831-1844 гг., в недавнее время опубликованы в изд.: Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова. Романы, повесть. Иркутск, 1985. Подробнее о Калашникова см.: Постнов Ю.С. Русская литература Сибири первой половины XIX в. Новосибирск, 1970. С. 201-237; Касьян А.К. Писатель-сибиряк И. Калашников и мировые традиции исторического романа // Очерки по зарубежной литературе. Вып. 1. Иркутск, 1969. С. 55-73; Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX-начала XX века. С. 145-173.]. С гордостью он заявлял, что был первым сибирским романистом и создавал свои произведения с целью «познакомить моих читателей с Сибирью»[79 - Калашников И.Т. Изгнанники // Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова. С. 443.]. Стремясь к этой цели, фабулу своих романов Калашников основывал на истории молодой пары героев-любовников, разлученных злым роком друг с другом. Развитие событий в соответствии с данным сценарием было способно, как ему казалось, максимально достоверно познакомить читателей русских столиц с жизнью в Сибири. И хотя Калашников часто романтизирует сибирскую природу, тем не менее он подчеркнуто следует словцовскому воззрению на историю края, которое на самом деле очень отличалось от недавно прозвучавшего предположения, что Сибирь под его пером превращается в «пленника» центральной власти, бросающей ее на произвол судьбы[80 - Diment, Galya. Exiledfrom Siberia: The Construction of Siberian Experience by Early-Nineteenth Century Irkutsk Writers // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture. New York, 1993. P. 48.]. Напротив того, подобно Словцову, Калашников видит в Сибири объект просветительского воздействия и заботы со стороны престола. В письме к Словцову он специально подчеркнул, что в романе «Камчадалка» (1833) он хотел «показать вред излишней власти вдали от (курсив наш. – М.С.) Престола»[81 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 8. Письмо от 10 марта 1832 г.], а вовсе не поражение имперской политики по отношению к Сибири в целом. Именно престол видится ему способом устранения сибирских бед.
Словцов и Калашников были теми, кого можно назвать сибиряками на службе империи. Вполне справедливо видеть в них предтеч областнической тенденции и локального патриотизма, но если мы зададимся вопросом, кем они считали себя сами, мы увидим, что самоотождествление с империей будет играть несравненно более существенную роль в структуре их идентичности. Идея антрополога Виктора Тёрнера о «звездной группе» может послужить продуктивным способом решения этой проблемы:
«В сознании большинства из нас существует так называемая «звездная группа», судьба которой – предмет нашей чрезвычайной заботы. Это та группа, с которой человек идентифицирует себя наиболее интенсивно и в которой он видит осуществление своих личных и общественных устремлений. Мы все оказываемся членами разных групп, истинных или условных, – от семьи до государства и даже до международных религиозных и политических структур. Каждый человек дает собственную оценку относительной ценности той или иной группы: состоять в одних человеку просто «нравится», быть в других – означает выполнять свой «долг защиты» и т.д. <…> И только в рамках своей «звездной группы» человек рассчитывает на максимум любви, признания, престижа, должностей и прочих как вполне осязаемых, так и символических наград. В такой группе индивидуум добивается самоуважения и чувства сопричастности к другим, которых он уважает» .[82 - Victor Turner. Social Dramas and Stories about Them // Critical Inquiry. 1980. Vol. 7. № 1. P. 141-168. Цитата приведена со С. 149-150.]
Несмотря на то, что Калашников и Словцов регулярно называли себя сибиряками, эта своеобразная группа была в их сознании только одной из множества других и явно не была той, в которой, по В. Тёрнеру, они могли найти «любовь, признание, престиж, должности». Их «звездной группой» являлся слой тех, кого мы можем назвать «просвещенными чиновниками»[83 - Брюс Линкольн охарактеризовал появление слоя «просвещенных бюрократов» как критически важную предпосылку начала Великих реформ. У Калашникова и Словцова было много общего с тем, что Линкольн называл «первым поколением» просвещенной бюрократии, верившей, что николаевская система при условии правильной «настройки» еще послужит России. См.: Lincoln, W. Bruce. In the Vanguard of Reform: Russia’s Enlightened Bureaucrats 1825-1861. DeKalb, 1982.]. Участие в этой группе было для ее членов как актом сознания своей передовой роли в распространении просвещения, так и материальной действительностью, предполагавшей обретение всех атрибутов службы (жалованья, чинов, мундира, орденов и проч.).
Реконструкция особенностей самосознания человека на основе имеющихся исторических источников является непростой задачей. К счастью, в случае со Словцовым и Калашниковым ее упрощает значительный массив их сохранившихся документов. Наилучший источник для определения «звездной группы» обоих – это их эпистолярное наследие, создававшееся в течение 27 лет, с 1816 по 1843 гг. Именно оно будет далее находиться в центре нашего внимания. В то время как опубликованные опусы авторов в основном связаны с сибирской темой, их переписка сосредоточена на личных чувствах, роли просвещения и природе государственной службы. Наша задача заключается в анализе главных вопросов их многолетнего диалога: Что происходит с миром вокруг нас? Как надо служить? Где нужно жить? Понимая, как Словцов и Калашников отвечали на эти вопросы, мы будем в состоянии не только более наглядно представить их концепцию Сибири, но и выяснить, как государственная служба формировала имперскую идентичность человека.
Ни одно слово в этой переписке не было настолько значимым, как слово «просвещение». В истории Российской империи просвещение действительно было одним из важнейших концептов, в особенности когда режим в конце XVIII – начале XIX вв. формировал национальную образовательную систему[84 - Подробнее о системе образования этого времени см. в работах: Flynn, James T. The University Reform of Alexander I. Washington, D.C., 1988; Whittaker, Cynthia H. The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, DeKalb, 1984.]. То, что Александр I организовал Министерство народного просвещения – в противоположность Министерству народного образования, – уже было значимой деталью. По Далю, понятие «просвещение» содержит множество смыслов. «Свет науки и разума, согреваемый чистой нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни. Просвещение одной наукой, одного только ума, односторонне и не ведет к добру»[85 - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 508.]. Характерно, что в словоупотреблении XVIII-XIX вв. просвещение как светская интеллектуальная доктрина, заимствованная из Европы, совмещалось с традиционным христианским смыслом слова. Это хорошо выразил, например, Н.М. Карамзин, писавший о крестителе Руси князе Владимире, что он «старался просветить россиян» (курсив Н.М. Карамзина. – М.С.)[86 - Карамзин Н.М. История государства Российского. Kн. 1. Ростов н/Д., 1995. С. 163.]. В этом отношении просвещение трактовалось как нравственно-религиозное возвышение общества, оказываясь гораздо шире, чем образование в собственном смысле слова.
В написанных Словцовым в 1821 г. инструкциях визитатору Сибирских училищ цели народного образования в Сибири определены так: «Паче же всего водворить и укоренить в сей стране домашнее просвещение, просвещение наших праотцев, основанное на учении Христа Спасителя <…> и тем заградить вход в сей отдаленной край света разрушительному духу лжеименнаго западно-европейскаго просвещения»[87 - РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Ед. хр. 181. Л. 15 об.-16.]. Несмотря на то, что эти слова были написаны в середине «десятилетия Библейского общества», Словцов вовсе не собирался подобным определением лить воду на мельницу своего начальника М.Л. Магницкого. В «Прогулках вокруг Тобольска», опубликованных более десятка лет спустя, он повторяет это же определение и помещает Библейское общество во вполне респектабельное окружение: «Человечество, относительно к высшему духовному просвещению, совершает великий эллипс, бывая по временам то в апогее, то в перигее. Ныне вы несетесь к большому эксцентрицитету, но и опять будете в перигее, подобно тем возвратам, какие случались при Ное, Моисее, Давиде, в благодатное время Евангелия, во время Библейских обществ»[88 - Словцов П.А. Прогулки вокруг Тобольска. С. 73. Выражение «десятилетие Библейского общества» заимствовано нами из работы: Flynn, James T. The University Reform of Tsar Alexander I, 1802-1835. Washington, D.C., 1988.].
В контексте жестоких реалий повседневной жизни в Российской империи просвещение было, согласно воззрениям Словцова и Калашникова, тем, что государство должно было предложить своим подданным, а они должны были воспринять. Н. Булич одобрил бы их обоих, утверждая в 1887 г.:
«Если наука и высшее образование в нашем отечестве, со времени великого дела Петрова, составляют историческую необходимость пробужденной и развивающейся жизни, то даже до самых последних годов нельзя утверждать, чтобы стремление к ним было свободным актом самого общества. В главе всех научных и образовательных учреждений России должна быть поставлена необходимо державная воля. Она пробуждает дремлющие общественные силы, она указывает цели, она и требует высшего научного образования от подданных для целей своих, государственных»[89 - Булич Н. Из первых лет Казанского университета (1805-1819): Рассказы по архивным документам. Часть I. Казань, 1887. С. 3.].
Их самоотождествление с имперской государственностью было обусловлено реалиями российской действительности, которая была сурова сама по себе и, кроме того, регламентировалась целым рядом социальных и культурных иерархий[90 - См., например, один из недавно изданных очерков жестоких жизненных явлений в провинциальной России обсуждаемого времени: Rostislavov D.I. Provincial Russia in the Age of Enlightenment: The Memoir of a Priest’s Son / Translated and Edited by Alexander Martin. DeKalb, 2002.]. Эти последние выстраивали перед лицом Словцова и Калашникова своеобразного «Другого», по отношению к которому оба автора конструировали свою концепцию просвещения и, как следствие, определяли в своих текстах принадлежность к «звездной группе», слиться с которой они стремились.
Оба подчеркнуто дистанцировались от того, что в иерархии имперской службы было как выше, так и ниже их собственного статуса. Так, Словцов часто жаловался на пороки светского общества, в особенности на карточные игры и «вольнодумство». Он внушал Калашникову, что человеку лучше держаться от них подальше, а начинать день следует с чтения Евангелия, нежели с обрызгивания себя одеколоном в духе тех самых «светских людей»[91 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 41. Письмо от 15 марта 1824 г.]. В свою очередь, Калашников на первых порах гордился своим вхождением в сообщество русских писателей, однако быстро разочаровался. «Это уже не собрание умных и просвещенных людей – писал он Словцову в 1838 г. – но подлейший рынок торговцев»[92 - Там же. Ед. хр. 37. Л. 25. Письмо написано в конце 1838 г.]. Словцов соглашался. После прочтения неблагожелательной для Калашникова рецензии Н.А. Полевого на роман «Камчадалка» Словцов адресовал своему другу утешительные слова: «Он показался мне несправедливым и колким, но чего ожидать от души мещанской (курсив наш. – М.С.)?»[93 - Там же. Ед. хр. 103. Л. 5. Письмо от 15 июля 1833 г.]. Один из первых вопросов, который он задал Калашникову по приезде последнего в Петербург в 1823 г., заключался в том, насколько государственные службы столицы изобилуют «людьми просвещенными, по крайне мере учившимися в высших учебных, или по полам с подьячими»[94 - Там же. Ед. хр. 101. Л. 25 об. Письмо от 14 июля 1823 г.]. Позднее, раздраженный промедлением в получении нужной ему копии архивного документа из Санкт-Петербурга, Словцов писал своему корреспонденту: «Дайте подъячему за переписку 50 и даже 100 р. Пусть он и пьется и напьется!»[95 - Там же. Ед. хр. 103. Л. 33 об. Письмо от 15 сент. 1839 г.]
Поскольку просвещение должно было, как полагали Калашников и Словцов, распространяться из столиц в Сибирь, сибирская идентичность не могла возобладать в структуре их личности над ощущением себя в качестве слуг империи. Так, Калашников отметил, что в обеспечении просвещенными чиновниками Сибирь полагалась на Россию, ибо в самой Сибири «туземные служаки все оставались, большею частию, в загоне, по известному изречению: несть пророк во отечествии своем». Именно по этой причине, добавляет Калашников, наиболее одаренные чиновники – как он сам – были вынуждены искать счастья «на чужбине»[96 - Калашников И.Т. Записки иркутского жителя. С. 385.]. В ранней редакции «Записок иркутского жителя» он снова подчеркнул свое отличие от непросвещенных сибиряков. Здесь уровень образованности иркутян показан в рассказе о Санге, обезьянке, содержавшейся на поводке во дворе генерал-губернаторского дома. Иркутяне, пишет Калашников, смотрели на этого «дивного зверя» с ужасом и судачили, что он может, сорвавшись со своей цепи, начать звонить в колокола Спасской башни и даже ворваться в их собственные жилища. Мемуарист сравнивает этот беспричинный страх с беззаботным отношением этих же иркутян к Мишке – громадному медведю, сидевшему на цепи в мясном ряду. Мишку не боялся никто несмотря на то, что все знали: «не редко» он раздирал в клочья дразнивших его. «Медведь был, видите, тоже Сибиряк, так его бояться было не для чего? Другое было ужасная санга (курсив И.Т. Калашникова. – М.С.)!»[97 - ОР РНБ. Ф. 4. Ед. хр. 84/II. Л. 3-6.] И это на том основании, что обезьяну никто раньше никогда не видел – она ужасала провинциалов-иркутян именно своей необычностью. Этой яркой бытовой зарисовкой Калашников характеризовал жителей Иркутска – тех, с кем его объединяла «родина», но никак не «звездная группа».
Успех в деле просвещения означал преодоление социальных и культурных границ, что на самом деле являлось чрезвычайно трудной задачей в условиях жестко иерархизованного имперского общества. В этой связи одним из излюбленных персонажей переписки Словцова и Калашникова был «наш Кривогорницын» – Василий Прокопьевич Кривогорницын, нижне-колымский казак, который помогал Словцову в его путешествиях по Иркутской губернии, а впоследствии сделался близким другом Калашникова в Иркутске. Во время своих путешествий Словцов пытался образовать Кривогорницына и, по словам Калашникова, «душа его (Кривогорницына. – М.С.) возвысилась и облагородилась». Позднее Кривогорницын руководил каторжанами в иркутском рабочем доме и на Тельминской суконной фабрике. Здесь служба неоднократно заставляла его становиться свидетелем жутких сцен, однако, как писал Калашников, ничто не могло испугать этого «неустрашимого потомка Хабаровых и Дежневых»[98 - Калашников И.Т. Записки иркутского жителя. С. 618, 625.]. Кривогорницын вел регулярную переписку со Словцовым и Калашниковым, относящуюся ко времени, когда оба покинули Иркутск[99 - За исключением одного письма (ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 240), судьба переписки Кривогорницына со Словцовым неизвестна. Его письма к Калашникову 1822-1841 гг. сохранились, см.: ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 78, 79.]. В этих письмах их многословный автор беспрестанно благодарит своих «благодетелей» за то, что при их поддержке он расстался со своей прежней жизнью. «Благодетели», в свою очередь, гордились его продвижением по службе, видя в нем плод собственных просветительских усилий. В 1830 г. Калашников писал Словцову: «Посреди большею частию черных людей Сибири, он перло, которым должны дорожить таможные начальники»[100 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 35 об. Письмо от 25 апр. 1830 г.].
Если история Кривогорницына была более или менее случайным успехом, то главным путем, на котором Словцов и Калашников могли участвовать в священной имперской миссии распространения просвещения, была служба. Эта идея четко отражена в их переписке. Так, по Словцову, исполнение этой миссии не оставляет времени для развлечений. «Увеселений общественных, если не восходят к уму и духу, быть не может, кроме двух периодов, когда бы народ находился в состоянии или равномерно диком, или равномерно умственном»[101 - Словцов П.А. Прогулки вокруг Тобольска. С. 73.]. В то время как основой престижа империи оставались ее военные успехи, оба корреспондента пытались выделить для себя нишу подвига на гражданской службе. Характерным образом Калашников трансформирует известную метафору: «Военные умирают на поле чести, а мы умрем на стуле чести»[102 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 34 об. Письмо от 25 апр. 1830 г.].
Служба воспринималась как битва, приготовление к которой нужно было начинать в домашних условиях. Поощряя решимость Калашникова в службе и в воспитании детей, Словцов отмечает, что образование, получаемое ребенком дома, чрезвычайно важно для будущей государственной деятельности, ибо «университет делает ученого, а человека родители»[103 - Там же. Ед. хр. 104. Л. 31-31 об. Письмо от 1 дек. 1842 г.]. В 1824 г., месяц спустя после рождения сына Владимира, Калашников был награжден орденом Св. Владимира. По этому случаю Словцов писал ему: «Искренно поздравляя вас, почтеннейший кавалер Иван Тимофеевич, с Владимиром, а более с рожденным Владимиром, желаю вам быть достойным отцом своему семейству и благодарным сыном отечеству. Государь или, что все равно, отечество, еще не дождавшись конца вашему ученью, спешат отличить уже вас от прочих ваших сверстников»[104 - Там же. Ед. хр. 101. Л. 44. Письмо от 3 янв. 1825 г.]. Этот пассаж свидетельствует о том, насколько глубоко идеалы службы проникали в личную жизнь семейства. Кроме того, можно заподозрить Калашникова в том, что выбор имени его сына был связан с ожидавшейся наградой.
Словцов не уставал напоминать Калашникову, что службу нельзя воспринимать легкомысленно или использовать для достижения личных целей. Так, он был весьма обеспокоен частыми переходами его ученика с места на место после того, как он перебрался в Петербург. Узнав однажды, что Калашников недоволен занимаемой им должностью, Словцов не преминул послать ему настоящий выговор: «Да, молодой человек, надобно исполнять всё повеленное, и думать о себе как о ничтожном человеке»[105 - Там же. Ед. хр. 102. Л. 7-7 об. Письмо от 27 марта 1826 г.]. А когда Калашников сообщил Словцову о своем намерении жениться, тот посоветовал прежде прочно обосноваться на службе, поскольку «по русским законам тот, кто не имеет аттестата на чины, есть точный школьник или вечный подьячий»[106 - Там же. Ед. хр. 101. Л. 32 об. Письмо от 3 ноя. 1823 г.]. Вместо стремления к наградам Словцов наставляет Калашникова «свою службу украсить посильными подвигами», исполняя поручения начальников без ропота – даже если они «командировали тебя в Камчатку»[107 - Там же. Ед. хр. 100. Л. 49. Письмо от 19 окт. 1821 г.; Ед. хр. 100. Л. 58. Письмо от 28 дек. 1821 г.]. В пример он привел тобольского гражданского губернатора А.С. Осипова: «Здешний Губернатор, посвятив всего себя на службы, не имеет даже пары лошадей собственных. <…> Не прекрасно ли смотреть на сего чиновника, когда он на ямской смиренной парочке спешит в Губернское Правление?»[108 - Там же. Л. 56-58. Письмо от 28 дек. 1821 г.].
Если мы будем иметь в виду, что, по существу, с 1808 по 1828 гг. Словцов был ссыльным, его неоднократно высказанная преданность службе и трону будет выглядеть весьма знаменательно. В этом отношении давнее учреждение Тобольского наместничества было важным опытом лично для Словцова, событием, которое сообщило высокие цели всей его жизни. На роскошной церемонии открытия наместничества 30 августа 1782 г. 15-летний Словцов удостоился чести прочесть свою оду «К Сибири»[109 - Беспалова Л. Сибирский просветитель. С. 14-17.]. В тобольской истории не было более торжественного дня, чем этот, особенно если учесть, что печальные времена были уже не за горами – скоро пожары и наводнения нанесут большой ущерб городу[110 - Описание церемонии открытия, а также перечень тобольских пожаров и наводнений см. в работе: Голодников К. Альбом тобольских видов. Тобольск, 1864. С. 1-6.]. Событие знаменовало собой, как позднее писал Словцов, начало «благодатн[ой] эпох[и]», когда «всякому нравственному существу даны право и сила действовать в общей жизни человечества». Все эти щедроты, естественно, были дарованы властью: учреждение наместничества, как указал Словцов, «слава Богу, сделало Сибирь недалеко от царя и верховного правительства»[111 - Словцов П.А. Прогулки вокруг Тобольска. С. 129.]. На себя он смотрел как на орудие в этом процессе и в течение всей своей многолетней жизни ни разу не усомнился в справедливости этого убеждения. «Сибирская Минерва, – как он писал Калашникову в 1825 г. о своей визитаторской должности, – вряд ли увидит так усердного ей служителя, каков я был; умнее и ученее меня многие будут, но усерднее едва ли!»[112 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 50 об. Письмо от 17 апр. 1825 г.].
Помимо того, что служба явилась главным путем к просветительской деятельности, она также обеспечивала Калашникову и Словцову стабильный доход и жизненный уровень, значительно превышающий обычные сибирские стандарты. Так, несмотря на то, что Калашников был вынужден регулярно брать деньги в долг, его жалованье, вместе с «милостями» высоких лиц, вполне обеспечивало его огромную семью и, кроме того, делало доступными некоторые излишества столичной жизни для него самого. В свою очередь, Словцов, хотя и не вернулся в Петербург, предпочтя провести свои последние годы в Тобольске, жил отнюдь не бедно. Он получал ежегодный пенсион в 3000 рублей, которого хватало, чтобы платить двум слугам и посвятить последние 15 лет земного существования творчеству и созерцанию. Его письма к Калашникову наполнены просьбами прислать не только дорогие книги, но, например, еще и шоколад. На последний Словцов тратил буквально сотни рублей – больше, чем большинство жителей империи могло заработать в течение всей жизни. Писатель был убежден, что это «единственное средство, которое может поддержать мое здоровье»[113 - Там же. Л. 23. Письмо от 8 июня 1823 г.]. Наряду с жалованьем Калашников и Словцов получали ордена, кольца с бриллиантами и другие подарки в признание их службы. Иметь наружность, пристойную просвещенному чиновнику, было также важной задачей для обоих. Так, являясь визитатором сибирских училищ, Словцов не раз просил попечителя Казанского учебного округа позволить ему сшить особый мундир. Он подчеркивал, что как «начальник училищ сей страны» он не может довольствоваться тем же мундиром, что и у директора гимназии, и по крайней мере должен носить мундир «с некоторою в шитье переменою». Положительного ответа на эти запросы не последовало, однако Словцов получил разрешение носить мундир ординарного профессора Казанского университета[114 - НАРТ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 1879. Л. 1, 3; НАРТ. Ф. 902. Оп. 1. Ед. хр. 2685. Л. 1-1 об.; РГИА. Ф. 733. Оп. 39. Ед. хр. 295. Л. 121-123 об. О роли чинов и мундиров в имперском обществе см.: Шепелев Л.Е. Чиновный мир России, ХVIII-начало XX вв. СПб, 1999.]. А позднее Словцов написал в министерство, чтобы ему разрешили носить мундир и по выходе в отставку[115 - ОР РНБ. Ф. 702. Оп. 1. Ед. хр.14. Л. 20-21.]. Подобные символические атрибуты играли критически важную роль в жизни служивших и не служивших русских подданных: они воочию демонстрировали их подлинный статус в государственной иерархии, сообщая материальный облик высоким идеалам, лежащим в основе имперского правления[116 - Мы ориентируемся здесь на истолкование подобных реалий в кн.: Cannandine, David. Ornamentalism: How the British Saw Their Empire. L., 2002.].
От Калашникова и Словцова можно было ожидать, что, проявляя неподдельное беспокойство в деле просвещения Сибири, нуждавшейся в образованных чиновниках, они оба сделали все возможное для того, чтобы облегчить это непростое положение вещей. На самом деле главной задачей сибирских учебных заведений было обеспечение местных правительственных служб квалифицированными чиновниками. По этой причине Словцов в качестве директора училищ Иркутской губернии, а затем визитатора сибирских училищ большую часть своего рабочего времени уделял поиску подготовленных учителей для сибирских школ и изысканию такого жалованья для них, которое бы позволяло им оставаться на их должностях[117 - См., например: РГИА. Ф. 733. Оп. 39. Ед. хр. 205.]. Однако несмотря на то, что сам Словцов, получив в 1828 г. разрешение покинуть Сибирь, предпочел остаться в Тобольске, он регулярно помогал своим друзьям обосноваться в Санкт-Петербурге и никогда серьезно не предполагал, что, например, Калашников мог вернуться назад. Так, когда его спросили, сможет ли Калашников быть достойным кандидатом на освободившуюся должность директора Иркутских училищ, он в ответ промолчал. При этом сам Калашников еще находился в это время (в 1821 г.) в Иркутске и мог с легкостью занять эту должность. Словцов же явно готовил своему ученику иное поприще и, как он написал Калашникову, «поберег вас, человека с надеждами, от лестной чести директорства», добавив при этом, что его молодой друг должен «отличиться на поприще гражданской службы, из которой я выброшен непогодою[118 - Здесь имеется в виду его высылка в Сибирь в 1808 г.], и по сие время не могу умудриться, чтобы вовсе забыть перспективу, какая мне открывалась во свое время»[119 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 45-45 об. Письмо от 8 сент. 1821 г.].
Итак, получив возможность устроить Калашникова на важную для Сибири должность, которая позволила бы решать традиционную для края проблему недостатка образованных чиновников, Словцов ею пренебрег. По его мнению, «человек с надеждами» должен служить в Петербурге. В самом деле, иногда восхваляя природу и ряд других черт своей «родины», в переписке Словцов и Калашников редко прибегают к этой романтизирующей установке и демонстрируют трезвое понимание дефектов сибирской жизни. Помогая Калашникову перебраться в столицу, Словцов вдобавок превозносит перед своим протеже щедроты Петербурга. Так, сразу по приезде Калашников получает от Словцова совет посмотреть в столице всё, что только возможно, поскольку «Сибиряку необходимо всё знать, дабы поскорее переменить физиономию неведения». «Оставляю вас, – резюмирует Словцов, – на новом приятном положении, в новом мире вещей, лиц и мыслей»[120 - Там же. Ед. хр. 101. Л. 18 об.-19. Письмо от 5 мая 1823 г.]. Обремененный огромным семейством, живя в дорогом столичном городе, Калашников часто сожалел об отъезде из Сибири, – тем не менее он не вернулся назад и вообще чаще хвалил Петербург, беспрестанно приглашая Словцова переехать к нему. «[Б]лагодарю Творца, – писал Калашников Словцову в 1832 г., – что мог перебраться из страны сна в страну жизни! Здесь невольно сделаешься человеком умным, потому что на каждом шагу встречаешь – если можно так выразиться – гостиницы ума»[121 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 5 об. Письмо от 10 марта 1832 г.]. И в самом деле, если Сибирь представляла для Калашникова «мрачной в физическом и нравственном отношении край, где медленные часы проводятся в одном грешном и суетном занятии: осуждении ближнего» (курсив И.Т. Калашникова. – М.С.), где «просвещенный» человек ощущал, что ему «невозможно» найти истинного друга[122 - Там же. Ед. хр. 35. Л. 30 об. Письмо от 6 дек. 1829 г.], почему же в таком случае не покинуть ее?
Действительно, если в печатных текстах обоих авторов похвалы Сибири встречаются регулярно, в переписке более или менее позитивные оценки появляются только со временем. Так, частично под влиянием Калашникова, регулярно сожалевшего о своей чрезмерной и суетной занятости в Петербурге, Словцов начинал писать о Сибири как о месте тихой, уединенной молитвы. «Жаль, – писал он Калашникову в 1834 г., – что хлопоты, на которые жалуетесь, не дозволят вам заниматься приготовлением себя к будущей жизни. Вы, как кажется, уверили себя, что будете жить всю вечность то на Карповке (речка в Петербурге. – М.С.), тo на Вас[ильевском] острове – плачевная уверенность!»[123 - Там же. Ед. хр. 103. Л. 12 об. Письмо от 17 марта 1834 г.]. Калашников развил подобное воззрение, охарактеризовав в особенности Ангару как место спокойствия и созерцания и противопоставив ей Петербург, превращающийся под его пером в суетный и противоестественно «немецкий» город. Тем не менее, словно в пику нередким у Калашникова словам о возможном возвращении в Сибирь, Словцов всякий раз довольно жестко отрезвлял своего корреспондента: «Выбросьте из головы химерическое намерение побывать в Сибири», – писал он в 1839 г., присоединив к этому призыву еще немало предостережений, чтобы убедить Калашникова довольствоваться его нынешним положением[124 - Там же. Л. 31 об.-32 об. Письмо от 2 июня 1839 г.].
Петербург делался привлекательным благодаря главному аргументу: наличию в нем просвещения даже несмотря на одновременное присутствие там же вредного «вольнодумства». Но как Калашникову и Словцову удавалось удовлетворительно осуществлять свою просвещенческую миссию при Николае I, этом «Чингисхане с телеграфами», как его назвал Герцен, царе, известном своими репрессиями в отношении интеллектуальной жизни? Николай Рязановский в своем классическом исследовании назвал Николая I «воплощением самодержавия», императором, который «сурово управлял и своими подданными, и всей страной». «По воле императора, – пишет Рязановский, – страна шла по болезненному пути православия, самодержавия, народности»[125 - Riasanovsky, Nicholas V. Nicholas I and Of?cial Nationality in Russia, 1825-1855. Berkeley, 1955. P. 3, 55.].
Словцов и Калашников оценивали деятельность Николая I очень высоко, воспринимая его как «мудрого» и энергичного правителя, который в чрезвычайно непростых обстоятельствах изо всех сил стремился просветить свою империю. Тот факт, что оба они, равным образом принадлежавшие и «государству», и «обществу», рассматривали в такой перспективе Николая I, часто ассоциирующегося только с «реакцией» и «реставрацией», свидетельствует о сложности николаевского периода, представление о котором нередко упрощается черно-белым противопоставлением понятий «общества» и «государства»[126 - Riasanovsky, Nicholas V. A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia, 1801-1855. Oxford, 1976. P. 105.]. Регулярные и благожелательные, порой близкие к стилистике официозного документа упоминания нашими авторами о Николае I подчеркивают, что в эпоху политической нестабильности, охватившей всю Европу, империя сохраняет способность сообщать своим образованным подданным ощущение единства с нею.
В числе наиболее важных источников восхваления Николая I были представления Словцова и Калашникова об историческом назначении XIX столетия. Оба смотрели на так называемого человека девятнадцатого века с недоумением и нередко с унынием. «Распространяющийся дух Антихриста ужасен», – писал Калашников Словцову в 1838 г.[127 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 37. Письмо, относящееся к окт.-ноябрю 1838 г.] На страницах их писем подобные высказывания повторяются столь часто, что это заставляет задуматься, каким образом человек, подобный им, мог находить удовлетворение в вере и службе в эпоху скептицизма. Восстание декабристов возмутило обоих. Словцов увидел в нем «плод ропота» людей, которые не поняли собственного предназначения[128 - Там же. Ед. хр. 104. Письмо от 4 июня 1841 г.]. Характерно, что если первые произведения Калашникова в основном знакомили его читателей с Сибирью, то в последнем своем романе «Автомат» писатель решает исследовать судьбу неверующего человека. «Боже мой, – пишет он в 1839 г. Словцову, – что ныне за народ: вольнодумство, безнравственность, гадость – повсюду. Везде порок с открытым лицем. Мой роман составляет антипод с веком: едва ли век не раздавит его»[129 - Там же. Ед. хр. 37. Л. 30 об. Письмо от 17 февр. 1839 г.]. И хотя Словцов оценил это итоговое произведение писателя как творческую неудачу, он полностью присоединился к его идеологической установке: «Сделайте одолжение, восстаньте против Антихриста в романе!»[130 - Там же. Ед. хр. 103. Л. 25 об. -26. Письмо от 20 сент. 1838 г.].
Именно в этом контексте Словцов и Калашников считали Николая I наиболее подходящим для эпохи нестабильности правителем. Так, подобно многим, Калашников был глубоко впечатлен реакцией царя на холерный бунт в Петербурге в 1831 г. Он писал Словцову, что «простой народ, которой везде одинаков, от Афин до Парижа и до Петербурга, взбесился, переломал больницы, убил некоторых лекарей и успокоился не прежде, как когда приехал на площадь сам Государь». С появлением Николая на Сенной площади «весь народ» повалился на колени, причем и у людей, и у императора на глазах были слезы. «Все удивлялись твердости духа в Монархе, – добавляет Калашников, – и каждый добрый Русской не мог не сокрушаться о том, сколько неприятностей переносит Его Высокая душа!»[131 - Там же. Ед. хр. 36. Л. 1об.-2. Письмо от 14 авг. 1831 г.].
Словцов и Калашников видели в Николае лидера, готового не просто реагировать, а действовать мудро и конструктивно. Незадолго до своей смерти в 1863 г. Калашников писал, что со времен войны с Наполеоном Россия изменилась настолько, что «ее уже узнать трудно», причем в основном оттого, что «Просвещение, более или менее, проникло во все слои общества»[132 - Калашников И.Т. Записки иркутского жителя. С. 391.]. Калашников указывает на важную роль в этом процессе самого царя, предпринявшего кодификацию законов и улучшившего положение государственных крестьян. Отмечая, что в предыдущее десятилетие у России не было Основного свода законов, он пишет Словцову в 1837 г., что «в России 10 лет – целой век»[133 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 9 об.-10. Письмо от 12 февр. 1837 г.]. Словцов согласился: «После Библии законы отечества первое изучение»[134 - Там же. Ед. хр. 103. Л. 6. Письмо от 15 июля 1833 г.]. Калашников, служивший в Министерстве государственных имуществ, написал учебник для министерских школ[135 - Книга для чтения воспитанников сельских училищ: В 3 т. СПб., 1847-1851.] и вообще считал предприятия его начальника министра П.Д. Киселева беспрецедентным по масштабу подвигом в борьбе за просвещение. В 1838 г. он писал по этому поводу Словцову: «Если Господь продлит царствование нынешнего ГОСУДАРЯ: то Россия далеко подвинется вперед. С его мудростию и твердою волею к благу народа, при его могуществе, чего нельзя сделать?»[136 - ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 21 об. Письмо от 25 авг. 1838 г.].
Симпатия Калашникова к Николаю I ярко отразилась в громадном труде, которому автор посвятил последнее десятилетие своей жизни, – «Историческом обозрении устройства Государственных Крестьян и Имуществ под непосредственным ведением Государя Императора Николая Перваго», насчитывающем 3496 страниц. Он считал, что эта работа является образцом «административной истории», нового вида историографии, в которой остро нуждалась Россия XIX в. Историки, писал Калашников, преимущественно имели дело с межгосударственными взаимоотношениями, редко затрагивая «административныя деяния ГОСУДАРЕЙ, их тяжкия сумы и заботы о благе народов, внутри своих кабинетов». Если бы они обратили внимание на подобные предметы, в таком случае было бы «менее ложных толков и более признательности в народах к их властителям»[137 - Судьба рукописи неизвестна. Приведенные цитаты взяты из переписки автора, которую он вел, тщетно стремясь найти издателя своей работы: ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 35-35 об.]. На первый взгляд, донкихотская задача создания 3500-страничной истории царских деяний, написанной накануне отмены крепостного права, выглядит замыслом, преисполненным сервильности. Однако если мы примем во внимание, что Калашников решил осуществить свой грандиозный проект самостоятельно, посвятив ему личный досуг и получив в награду за него всего лишь табакерку, это верноподданническое сочинение предстанет великолепным примером отношения русского чиновника к службе как к подобию некоего священнодействия, поистине важнейшему слагаемому его жизни.
Подведем итоги. Словцов и Калашников являлись сибиряками, считавшими имперское правление созидательной силой, которая не столько угнетала царских подданных, сколько улучшала их состояние, чего самостоятельно, вне этой опеки, они едва ли смогли бы достичь. Альтернативой империи, по их мнению, был хаос. Однажды Словцов, объединяя в присущем ему духе Россию и Древний Рим, сказал по этому поводу: «Брут последний Римлянин (курсив Словцова. – М.С.) – этот отголосок давно идет. Но лучше бы назвать его последним сумасбродом. Как можно было умному Римлянину не видеть, что обширная Империя скоро превратится в хаос без единодержавия?»[138 - Там же. Ед. хр. 101. Л. 4-4 oб. Письмо от 24 янв. 1822 г. Марк Юний Брут (85-42 до н.э.) – знаменитый защитник Римской республики, сыгравший решающую роль в убийстве Юлия Цезаря в 44 г. до н.э.]. Словцов и Калашников отождествляли себя с главными задачами имперского государства, так как служба не только обеспечивала их в материальном отношении, но и становилась поприщем для духовной и интеллектуальной деятельности. Будучи представителями как «государства» в узком смысле, так и «образованного общества», они демонстрируют исследователям убедительный пример тесной связи между образованием и непосредственной практикой имперского управления. Ключевой антитезой их социальной картины мира было противопоставление «просвещенных» и «непросвещенных» людей, нежели оппозиции «государства» и «общества», «России» и «Сибири» или «русских» и «нерусских». Быть образцовыми подданными подразумевало в их случае одновременное соединение сибирской идентичности с осознанием своей миссии как слуг империи, ибо «национальные» и «областные» интересы были, с их точки зрения, одними и теми же слагаемыми основного – имперского – направления русской истории.
МАРК А. СОДЕРСТРОМ
Специфика бытования «сибирского текста» в литературной ситуации последней трети XIX века
Современное состояние литературоведения диктует необходимость дальнейшего изучения и внедрения в научный оборот новых материалов, связанных с так называемым сибирским текстом. Разнообразные архивные источники, многочисленные статьи областников в центральной и региональной прессе, их дневники, письма, наряду с исследованием русско-европейских литературных процессов, дают возможность показать, как многие геополитические и геоэкономические обстоятельства второй половины XIX в. помогли становлению культурного регионализма в Сибири и формированию очередного локального мифа российской цивилизации.
Этому способствовал ряд благоприятных факторов, особенно ярко проявившихся в последние десятилетия XIX в.: явный поворот культуры в сторону собирания и обработки фольклора различных народов Российской империи, мощное развитие русской этнографии, следовавшей во многом западным, позитивистским образцам. Огромное значение в это время имели многочисленные экспедиции, предпринятые Русским Географическим обществом на далекие российские окраины, целью которых было не только открытие новых территорий, но и стремление запечатлеть обычаи, уклад, традиции и нравы практически не известных дотоле этносов.
Все это было связано с дальнейшим постижением «русской идеи», поисками национально-православной идентичности. Формирование писателей-регионалистов сопровождалось значимыми явлениями в русско-европейской литературе, где общими становились как народнические установки, выразившиеся в творчестве позднего Лескова, Успенского, Короленко, так и несомненный поворот их творческих интересов на Восток, в сторону Сибири, особенно ярко проявившийся в путешествии Чехова на остров Сахалин. Более того, некоторые писатели, вошедшие в большой литературный ряд, никогда не потеряли под собой так называемой региональной почвы, как это произошло, к примеру, с Короленко.
Начало эпохе 80-90-х гг. положили драматические политические и культурные события – убийство Александра II, Пушкинский праздник, речь Достоевского, – а ее финал отмечен возникновением в середине 90-х гг. символизма и этапным исследованием Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Общее в интонации этого времени – ощущение завершенности литературной эпохи классического реализма, исчерпанности прежних художественных форм и поиск новых средств художественной выразительности. К этому времени происходит и закономерное вытеснение прежних понятий «действительность», «среда», «общество», «тип» – понятием «художественный мир»[139 - См. об этом: Кондаков Б.В. Русский литературный процесс 1880-х годов: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1997.]. Связано это с всё более тесным сближением литературы с философией, культурологией, ориентированных на постижение сущности духовных процессов. Не случайно в означенную эпоху создаются первые литературно-философские работы В. Соловьева, К. Леонтьева, В. Розанова и др.
Мережковский предельно точно выявляет общую тенденцию, характерную для литературы этой поры, – «предчувствие божественного идеализма, возмущение против бездушного, позитивного метода, неутомимую потребность нового религиозного или философского примирения с непознаваемым»[140 - Мережковский Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной литературы // Мережков-ский Д.С. Полн. собр. соч. СПб.; М., 1912. Т. XV. С.289.]. Отмечая, что истинная религиозность на данном этапе сохранилась только в народе, критик видит возврат к религии в необходимом преодолении пропасти между интеллигенцией и народом. Такого рода установка связана и с общим кризисом западно-европейской культуры, при котором обыденное сознание, наука и прежняя философия начинают трактоваться как однозначное и пассивное отражение реальности, данной в преобладающем чувственном восприятии. Господство позитивистско-натуралистической философии и кризис европейских наук ведут к острой критике сциентизма и позитивизма и, как закономерное следствие, возникновению феноменологической философии.