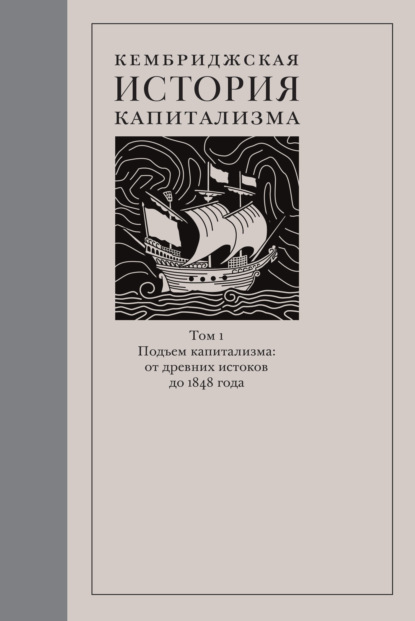По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кембриджская история капитализма. Том 1. Подъём капитализма: от древних истоков до 1848 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Четыре элемента, однако, являются общими для каждой разновидности капитализма, какими бы ни были ее характерные черты:
1. права частной собственности;
2. договоры, исполнение которых обеспечивается третьими сторонами;
3. рынки с чуткими ценами; и
4. оказывающее поддержку правительство.
Каждый из этих элементов должен взаимодействовать с капиталом, фактором производства, который каким-то образом воплощен физически или в зданиях и в оборудовании, или в мелиорации, или в людях со специальным знанием. Однако вне зависимости от того, какие формы он принимает, капитал должен быть долговечным и не эфемерным для того, чтобы иметь значимый экономический эффект. Это означает, что каждый из четырех перечисленных элементов должен иметь долговременную перспективу, длящуюся как минимум несколько лет, а предпочтительно несколько поколений. Капитал также должен быть производительным и, следовательно, использоваться в течение его экономического жизненного цикла, который может быть короче его физической жизни из-за морального износа. Владение производственным капиталом, в какой бы форме он ни находился, может быть отделено от управления им, что приводит к открытому рассмотрению организации и процедур, созданных для использования, обслуживания, расширения и модификации основных фондов.
Однако помимо этих технических терминов, которые используют современные экономисты, чтобы объективно определить «капитал» для целей академических исследований, «капитализм» должен также рассматриваться как система, внутри которой эффективно действуют рынки для выработки ценовых сигналов, которые могут воспринимать и на которые могут реагировать все действующие лица – потребители, производители и регуляторы. Эффективность движимой рынком капиталистической системы зависит от стимулов, которые ее институты создают для всех действующих лиц, а также от открытости, которую она обеспечивает участникам системы для реагирования. Дуглас Норт определил институты как:
правила игры общества, а следовательно, [они] обеспечивают систему стимулов, которые формируют экономические, политические и социальные организации. Институты состоят из формальных правил (законов, положений, инструкций), неформальных ограничений (обычаев, кодексов этики, норм поведения) и эффективности контроля их исполнения. Этот контроль их исполнения осуществляется третьими сторонами (правовое принуждение, общественный остракизм), вторыми сторонами (возмездие) или первыми сторонами (применение к самому себе этических норм). Институты влияют на экономическую эффективность, определяя совместно с используемыми технологиями транзакционные и трансформационные (производственные) издержки, которые составляют общие издержки производства (North 1997: 6).
Помимо базовых элементов экономической деятельности, которые могут наблюдаться физически, история капитализма должна также обращать внимание на такие организации, как цеха, корпорации, правительства и правовые системы, которые функционируют внутри и определяют «правила игры». Далее, такие менее заметные элементы, как неформальные институты и типы мышления, которые направляют индивидуальные реакции на внешние условия, могут определять эффективность рынков в создании и последующем поддержании экономического роста (North 2005). Непрерывное перераспределение ресурсов внутри экономики необходимо для поддержания экономического роста или для его возобновления после любого сбоя, вызванного такими внешними факторами, как война, голод, природная катастрофа, болезнь, или такими внутренними факторами, как финансовый кризис или ошибка руководства. Рыночные сигналы необходимы для того, чтобы перераспределить ресурсы и направить усилия, требуемые для продолжения или восстановления роста. Однако источник финансов для перехода к новому состоянию экономики может приводиться, а может и не приводиться в движение рыночными сигналами, в зависимости от существования рынков капитала и нужд командных экономик. Поэтому много внимания следует уделять источникам финансирования и их эффективному использованию в прошлом, особенно для финансирования дальней торговли и долговременных проектов, необходимых для поддержания экономического роста в условиях технологий того времени.
Более того, хотя настоящая рыночная система, с рынками труда, земли и капитала, а также потребительских товаров и услуг, имеет внутреннюю логику, она с неизбежностью встраивается в более широкие политические, культурные и социальные системы. Так что ценовые сигналы, генерируемые внутри капиталистической рыночной системы, должны воспринимать, и реагировать на них, политические, культурные и социальные группы, а также потребители и производители внутри экономики (Ogilvie 2007). Следовательно, капитализм может быть определен как сложная и адаптивная экономическая система, которая действует внутри более широких социальных, политических и культурных систем, которые в целом поддерживают ее.
Это функциональное определение капитализма приводит нас к поиску характеристик, которые могли существовать в других исторических условиях, когда экономический рост достигался на протяжении продолжительного периода (хотя бы пары веков, как в случае современного капитализма). Археологические свидетельства оседлого сельского хозяйства в сочетании с городскими комплексами устанавливают самый ранний предел для полезных исторических исследований сложных экономических систем, которые могут иметь или не иметь признаков зарождающихся капиталистических институтов. Например, современная археология может установить состав источников пищи жителей древних поселений, чтобы определить разнообразие выращивавшихся культур и домашних животных. Следы оливкового масла, вина и сухофруктов могут указывать на то, что участники экономической деятельности планировали свои действия как минимум на несколько лет, что требовалось для выращивания оливковых деревьев, виноградной лозы, финиковых пальм до зрелого возраста и регулярного сбора урожая. Наблюдения с воздуха, которые показывают нам остатки ирригационных сооружений и каналов, а также древних приподнятых или террасированных полей вблизи концентрации поселений, также дают вероятное свидетельство образования капитала с длительным сроком планирования и повышенной продуктивности. Если с должным вниманием относиться к документам, которые были сохранены по тем или иным причинам, можно также опереться на данные об источниках финансирования и о проблемах контроля исполнения договоров. Глиняные таблички с арифметическими упражнениями и сравнениями различных алфавитов, обнаруженные на всем Среднем Востоке, указывают на возможное обучение специалистов по делопроизводству и распространению рыночной информации – очень специфическом виде человеческого капитала, который обнаруживается только в городских условиях.
Вопрос о том, могли ли эти ранние попытки обеспечить поток экономической деятельности с помощью надежных платежных систем и быть основой для долговременных экономических проектов, остается открытым для обсуждения, в основном потому, что свидетельства, необходимые для подтверждения связи финансового капитала с реальным капиталом, остаются расплывчатыми. Европейские ученые имеют преимущество в виде торговых счетов, корреспонденции и даже газет после изобретения печатного станка, а также архивов правовых споров и решений по ним. Однако ученые в остальном мире получают возможность открыть все больше сравнимых свидетельств о своих торговых предпринимателях, особенно после контакта с Европой. Хотя итальянское изобретение иностранного коммерческого векселя долго рассматривалось в качестве важнейшего элемента, содействовавшего подъему европейского капитализма, ясно, что арабские империи, появившиеся вместе с началом ислама в VII веке, использовали такие же финансовые инструменты. И hawala (перевод кредита из одного места в одной валюте в другое место в другой валюте) и saftaja (перевод кредита из одного места в одной валюте в другое место в той же валюте) финансировали интенсивную торговлю арабских и других торговцев по всему Средиземноморью, в Центральной Азии и северной Индии (Памук, глава 8). В южной Индии задолго до контакта с европейцами, когда хлопковый текстиль без сомнения экспортировался в остальную Евразию, использовался такой же метод под названием hundi (Рой, глава 7). Китайские торговцы использовали в своей торговле fei-ch’ien («летающие», т. е. бумажные, деньги) или pien-huan (обмен кредитами) в качестве аналогичных финансовых инструментов (Thompson 2011: 98; Вонг, глава 6).
В случае Европы эти способы финансирования дальней торговли в итоге вступили во взаимодействие с технологиями финансирования войн, став финансовой основой европейского доминирования в мировой торговле в раннее Новое время (Neal 1990). Напротив, возникшие в более раннее время сравнимые империи, по всей видимости, финансировали военные действия своего рода налогом на капитал, что не только разрушало существовавшую платежную систему, но также расхищало прежние накопления торгового капитала. Хотя дальняя торговля поддерживала капитализм и экономический рост и поддерживалась ими, постоянные войны, восстания и набеги разрушали и капитализм, и экономический рост, делая конечный успех британской меркантилистской политики исключительным, как утверждает Патрик О’Брайен в главе 12.
Долгое время считалось, что современный экономический рост начался из-за индустриализации, проявившейся сначала в Великобритании, хотя предшественники индустриализации были известны на значительной части территории Европы, в цивилизациях Среднего Востока и особенно в Китае и Индии задолго до XVIII века. Поэтому большинство книг, содержащихся в каталогах в разделе «Капитализм, история», рассматривают достижения Западной Европы, начиная самое ранее с 1500 года (Appleby 2010; Beaud 2001), но обычно начиная с 1700 года (например, Broadberry and O’Rourke 2010). Затем, рассматривая XIX век и последующий период, они расширяют поле исследований, включая в основном Соединенные Штаты, Канаду, Австралию и, возможно, Японию и Россию.
Однако в последнее время ученые пытаются охватить намного больший временной (Graeber 2011; Гребер 2015; Jones 1988; Morris 2010) и географический диапазон (Partha-sarathi 2011; Pomeranz 2000; Rosenthal and Wong 2011).
В духе этих инициатив мы полагаем, что сегодняшняя мировая экономика начала создаваться уже давно, и мы ищем начало «подъема капитализма» настолько далеко в глубине веков, насколько археологи способны обнаружить осязаемые свидетельства человеческой деятельности, которая соответствовала практике современного капитализма, если не была полностью ей подобна. Организованная рыночная деятельность, которая распространялась на значительные расстояния и, следовательно, имела длительный временной горизонт и долговременные структуры, оставила археологические остатки и разрозненные исторические записи. Наиболее полезны знаки росшей плотности населения с параллельным увеличением потребления на душу населения, что Джонс (Jones 1988) назвал интенсивным экономическим ростом, который сопровождался экстенсивным экономическим ростом. Эти кажущиеся противоречия с классической мальтузианской теорией о том, что рост населения до появления современного экономического роста должен был уничтожать временные увеличения дохода на душу населения из любого источника, могут быть названы «мальтузианскими сингулярностями»[1 - Джеймс Хаттон (Hutton 1795) ввел термин «сингулярность» в современной геологии, когда заметил два совершенно отдельных каменных пласта, накладывавшихся друг на друга у берегов Шотландии. Исследование возможных случаев таких сингулярностей по всему миру положило начало геологии как современной, по-настоящему глобальной науки.].
Различные свидетельства, полученные с помощью инструментов современной науки, убедили археологов и многих историков древнего мира, что высокие уровни дохода на душу населения появлялись эпизодически задолго до начавшегося в капиталистических экономиках современного экономического роста. Что еще интереснее, эти эпизоды обычно сопровождались продолжительными периодами роста населения, а также техническими усовершенствованиями, которые, видимо, предвосхищали аспекты современных обществ с высоким доходом. Однако почему им в конечном итоге не удалось реализовать то, что могло стать гораздо более ранним достижением современного экономического роста и быстрого технологического прогресса, остается загадкой, однако такой загадкой, которая послужила причиной написания всевозможных предположительных версий истории.
Видимо, самые ранние свидетельства мальтузианских сингулярностей относятся к древним цивилизациям области, которая сейчас известна как Средний Восток, прежде всего к Вавилону и Египту. Наиболее интригующей в свете поздних исследований Средиземноморья является экономическая деятельность финикийцев (Aubet 2001; Moscati 2001). Финикийцы, несомненно, развивали города и рыночную структуру для обеспечения жителей продовольствием в обмен на специальные артефакты и защиту на протяжении очень длительных периодов – на порядки более длительных, чем эра современного капитализма, а их торговые пути покрывали все Средиземноморье и атлантическое побережье Африки. Например, археологи, изучающие Финикию, твердо верят в то, что около 425 года до н. э. финикийский адмирал Ханно первым обогнул Африку. Но они могут только догадываться об экономическом значении открытых ими артефактов и повседневной жизни обнаруженных ими финикийских городов, разбросанных по всему Средиземноморью.
В отличие от современных им цивилизаций в Месопотамии и Египте и более поздних – в Греции и Риме, имеется очень мало письменных свидетельств, которые могли бы просветить нас в отношении экономической организации финикийцев. Например, Обе (Aubet 2001) сделала вывод о том, что обширные финикийские поселения в Испании в основном были анклавами, созданными прежде всего для получения доступа к серебряным копям, расположенным вверх по реке от Кадиса, но как возникла и финансировалась оживленная торговля сначала из Тира, а потом из Карфагена, остается лишь догадываться. Обнаруженные археологами предметы роскоши, очевидно, привезенные в Испанию финикийцами, могут быть подарками местной племенной элите для инициирования выгодной финикийцам экспортной торговли, точно так же, как агенты Гудзонова залива дарили подарки ради торговли бобровыми шкурками в XVIII веке в Северной Америке (Карлос и Льюис, глава 15). Но остается неизвестным, как финикийцы организовывали, контролировали и поддерживали свою дальнюю торговлю.
В отношении более поздних цивилизаций современная археология располагает преимуществом, так как существуют классические тексты, которые являются богатой основой для оценки экономического значения вещественных источников, обнаруженных археологами в невероятных количествах. Постепенно расшифровываются огромные архивы глиняных табличек и булл, обнаруживаемые в раскопках древнего Вавилона с конца XIX века и хранимые сейчас в музеях по всему миру. Группы археологов собрали воедино умопомрачительные детали хозяйственных записей, как храмовых, так и принадлежавших частным торговцам, чтобы дать нам убедительную картину оживленной экономики, существовавшей веками, начиная с 1200 года до н. э. в начале железного века и заканчивая завоеванием Месопотамии Александром Македонским в 332 году до н. э.
Подъем капитализма в примерах
Михаэль Юрса (глава 2) представляет основанные на археологических источниках новые толкования экономического опыта древних экономик, опираясь на обширный анализ свидетельств о Вавилоне. В своей предыдущей работе (Jursa 2010) он сделал вывод о том, что Вавилон в VI веке до н. э. достиг более высоких уровней процветания, чем в более ранние периоды своей истории.
[Р]осла экономика, увеличивалась производительность (часто рыночно ориентированного) сельского хозяйства, существенная часть городского населения имела не связанные с сельским хозяйством профессии, наблюдалась высокая степень трудовой специализации, а экономика была в значительной степени монетизирована (Jursa 2010: 815).
Одним словом, то, что стало западным капитализмом, описанным в последующих главах, в своих основных чертах проявилось и было отражено в исторических документах задолго до возникновения греческих городов-государств или Римской империи. Тем не менее человеческая жизнь была ненадежна, многие оставались больными и голодными и даже представители элит могли быть произвольно подвергнуты смерти, их имущество – конфискации, а работников заставляли трудиться, не обеспечивая пищей и одеждой. Более того, обширные строительные проекты, осуществлявшиеся царскими властями, видимо, в основном финансировались за счет военной добычи, собранной во время постоянных набегов на окружающие территории, в особенности финикийские. Едва ли это было основой стабильного экономического роста и в еще меньшей степени внедряло в общество капиталистический образ мысли.
Экономическое процветание Вавилона сохранилось и в период господства Персии. Затем, в 331 году до н. э., оно было прервано завоеванием Александра Македонского и последующим делением бывшей империи на отдельные сатрапии. Тем не менее вплоть до возникновения ислама основные элементы экономического успеха Вавилона – ирригация полей с зерновыми культурами и рощи финиковых пальм в сочетании с отарами овец и стадами крупного рогатого скота, обеспечивавшие высокую продуктивность сельского хозяйства, – поддерживали высокие стандарты жизни в городах, созданных между двумя реками Месопотамии и вдоль них (Памук, глава 8).
Меж тем начали разрастаться греческие города-государства, доминировавшие в восточном Средиземноморье с 1000 года до н. э. и до подъема Римской империи. В процессе зарождения идеи республиканского правления и закладки интеллектуального фундамента западной философии они также смогли сочетать возраставшую плотность населения с ростом дохода на душу населения. Последние открытия современных археологов демонстрируют, что в Древней Греции наблюдался значительный интенсивный экономический рост, основанный на технических новшествах, разделении труда, обширной торговле и радикальных улучшениях в финансовой и договорной сферах, происходивший на фоне благоприятных институциональных рамок, как показано Аленом Брессоном в главе 3. Однако римские легионы произвели еще одну военную революцию, образовав постоянную профессиональную армию вместо наемных пехотных частей, которые предпочитали разрозненные греческие города-государства, сочетавшие легионы с поддержкой военным флотом в той форме, которая была хорошо отработана Афинами на пике их классической славы (Hale 2009). Распространяя греческие принципы в финансах, праве и исполнении договоров до самых дальних уголков растущей империи, римляне довели греческие прецеденты до еще более активного роста населения и уровня жизни. Как показал Виллем Йонгман в главе 4, в Западной империи и население, и доход на душу населения во II веке уменьшила Антонинова чума, а в Восточной империи прогресс остановила Юстинианова чума VII века.
Легендарный Шелковый путь, который веками пересекали ищущие выгоды торговцы, демонстрировал, что даже народы, ограниченные внутренним пространством Евразии, могли заниматься дальней торговлей и создавать независимые технические новшества. Более всего известны согдийские торговцы, благодаря которым европейцы задолго до Марко Поло узнали о существовании Шелкового пути и о невероятном богатстве хана Хубилая в XIII веке. И здесь современные археологи нашли удивительные свидетельства процветания, сконцентрированного на торговых рынках Самарканда и Бухары, которые не только продолжительное время соединяли различные китайские государства с Черным морем и восточным Средиземноморьем, но и продлевали торговые пути на юг в Индию и на север до самой Балтики. Вся эта торговля, однако, велась под надзором воевавших друг с другом правителей, от чьей благожелательности зависела судьба разных торговцев, что, как показал Этьен де ла Весьер в главе 5, не являлось благоприятным фоном для подъема капитализма.
Все эти ранние эксперименты сочетания интенсивного экономического роста с экстенсивными торговыми связями в пределах Евразии и расширявшимися до Северной Африки, временами внезапно прекращались, но самым общим и глубоко проникающим был удар, нанесенный в середине XIV века «черной смертью». В то время вся Евразия и большая часть Северной Африки были активно вовлечены в дальнюю торговлю, и это стало причиной столь быстрого и полного распространения бубонной чумы по всему континенту (Abu-Lughod 1989). В главах с 6 по 8 рассказывается о великих цивилизациях, участвовавших в евразийской торговле до «черной смерти» и затем по-разному реагировавших на разрушение торговли и гибель населения до наступления Нового времени.
Императорский Китай в то время занял ведущую позицию самой развитой и густонаселенной страны в мире. Рой Бин Вонг в главе 6 прослеживает сложность политического и экономического устройства Китая в условиях последовательных эпидемий чумы, голода и варварских нашествий, усугубленных морскими варварами, от их первоначального контакта до восстания тайпинов, длившегося с 1850 до 1864 год. Вместо того чтобы рассматривать длинный путь истории Китая как абсолютный восточный деспотизм, основанный на контроле и поддержании крупномасштабных ирригационных систем, он находит, что масштаб империи накладывал ограничения на командные возможности центрального правительства и оно было вынуждено договариваться со своими подданными, особенно с местными элитами, для создания желательных для них условий. Это означало поддержку рынков земли, труда, товаров первой необходимости и предметов роскоши, а также институциональные установления, которые развивались в течение длительного времени и доказали свою жизнеспособность на протяжении последовательной смены династий. Проблема ограниченности ресурсов, с которой столкнулось общество, имевшее по европейским стандартам высокую плотность населения, была сложна, однако нашла свое решение, в мягкости налогообложения при отсутствии долгосрочных займов центрального правительства и частных корпораций, в противоположность европейскому стилю капитализма.
Тиртханкар Рой в главе 7 исследует индийский субконтинент, где различные военные государства стремились установить и устанавливали господство во внутренних районах страны, а ряд торговых портов пытались извлечь выгоду из торговых связей как с остальной Азией, так и с соперничающими империями на западе, пока динамичная деятельность Английской Ост-Индской компании не подчинила себе и конкурирующих военных вождей и морских торговцев. Коммерческие центры все больше ориентировались на запросы европейских рынков, но за счет традиционной промышленности, особенно изделий из хлопка. Индийский хлопковый текстиль стал первой жертвой деиндустриализации, которая столь широко охватила мир в XIX веке. Военные вожди в глубине страны отступили на свои первоначальные территории, где они могли сохранить приносящие ренту привилегии. Разрушительные экономические последствия политического правления ищущих выгоду корпораций, которые Адам Смит высмеивал на примере правления Голландской Ост-Индской компании на Островах пряностей и на Индонезийском архипелаге в XVIII веке, стали еще более очевидными во времена правления Английской Ост-Индской компании в Индии XIX века.
Шевкет Памук в главе 8 прослеживает поучительную историю возникшей после «черной смерти» Османской империи и сопровождавшей ее экономической практики от самых истоков в возникновении ислама в VII веке. Хотя Средний Восток претерпел значительные институциональные изменения в века, предшествовавшие «черной смерти», а также и после, элита независимых торговых городов не играла такой важной роли, как в Западной Европе (и ранее в финикийских и греческих городах-государствах). Города часто находились под управлением центральных властей и их приоритеты определяли экономическую реакцию местных ремесленников и торговцев. И не география, которая была вполне благоприятна для торгового взаимодействия, и не религия, которая оказалась вполне приспосабливаемой под воздействием экономических факторов, а заинтересованность центральных властей в установлении стабильных иерархий ограничила реакцию Османской империи на проблемы, возникшие в XIX веке в результате экономического подъема западноевропейских стран.
Карл Гуннар Перссон в главе 9 анализирует, как конкурировавшие государства, образовавшиеся из остатков Западной Римской империи, пытались отстоять свою независимость от захватчиков-грабителей, какого бы происхождения они ни были, и некоторую степень экономической самодостаточности в свете распада традиционных торговых связей. Выдвинутая Евсеем Домаром трилемма (Domar 1970) о том, что свободный труд, свободная земля и ищущие ренты землевладельцы не могут сосуществовать долго, оказалась верной в отношении средневековой Европы. Но все возможные решения трилеммы – принудительный труд, ограниченный доступ к земле или поиск внешней защиты от отбирающих ренту землевладельцев – были опробованы по всей средневековой Европе. Новые модели торговли между сотнями появившихся независимых государств создавали почву для подъема капитализма в Западной Европе. Объяснение крепостничества в России, которое дал Домар, оказывается, применимо только к России, так как только там землевладельцы могли призывать высшую власть для реализации крепостного права. Во всей остальной Европе распространялся свободный и мобильный труд, особенно в городах, возникших вдоль традиционных торговых путей.
Разнообразные эксперименты внутри Европы вели к подъему капитализма в том виде, в каком он возник в последующие века. Лучано Пеццоло в главе 10 сравнивает восстанавливавшиеся после опустошения «черной смертью» города-государства Геную, Венецию и Флоренцию, каждый со своей особенной политической системой. Все три в значительной мере опирались на семейные связи, что было характерно для поздних капиталистических подражателей после 1850 года, однако каждый делал это своим особым способом. Захват Генуэзской республики постоянной корпорацией Дом святого Георгия оказался весьма успешным, возможно, потому, что влиятельные семейства Генуи признавали важность сменяемости друг друга в руководстве корпорации. Венецианские семейства закрыли доступ к политике для новых семейств и с помощью контроля над системой конвоев препятствовали также появлению новых конкурентов. Флорентийские семейства, разделенные жестоким противоборством, призывали чужаков для поддержки одной или другой стороны до тех пор, пока не было растрачено состояние города. Экономическая удача всех трех городов в конечном счете перешла к новым торговым городам, образовавшимся на атлантическом побережье Европы.
Голландцы, которые вышли из Тридцатилетней войны с относительно небольшими потерями, позволили себе небольшой спекулятивный вираж с экзотическими разновидностями тюльпанов, но в основном они были сосредоточены на перекачивании продуктов Ост-Индии через свои порты, объединенные в рамках Голландской Ост-Индской компании (VOC–Vereenigde Oost-indische Compag-nie). Оскар Гельдерблом и Йост Йонкер в главе 11 проанализировали, почему самая большая в мире акционерная компания во время своего создания в 1607 году смогла создать так много богатства и процветания для экономики Нидерландов в период своего золотого века, но не смогла выдержать конкуренции чужаков, вторгшихся в их прибыльную торговлю. Попытки разделить рынок с Английской Ост-Индской компанией и подавить конкуренцию других европейских государств, включая Францию, Данию, Швецию и даже Австрию (после Вены Габсбурги получили контроль над южными Нидерландами в 1715 году) в конце концов провалились из-за политических ограничений, наложенных на корпорацию, которая после 1620 года никогда больше не смогла расширить исходный капитал. Восстановились и прежние торговые пути вдоль древнего Шелкового пути и через Индийский океан, как отмечено в предшествующих главах о Китае, Индии и арабском халифате.
Тем не менее в пору своего расцвета в качестве независимой суверенной республики Соединенные Провинции представляли собой завидный пример возможностей, высвобождаемых торговым капитализмом даже без создания капитализма промышленного. Мирная конкуренция между портовыми городами в Нижних Землях и позднее между провинциями Нидерландов на севере привела к специализации продукции. Легкость транспортировки товаров и людей по широкой сети водных путей обеспечивала обширные рынки для особых продуктов каждого города или провинции, приводя к повышению производительности во всех Нижних Землях. Успешное восстание в северных провинциях, в конечном счете признанное Вестфальским миром 1648 года, создало ситуацию, в которой торговые элиты, правившие городами Соединенных Провинций, могли вводить более высокие налоги и привлекать займы под более низкие проценты, чем их коллеги в южных провинциях. С городов, остававшихся в испанских (позднее австрийских) Нидерландах, по-прежнему взимались налоги в пользу далеких монархов или в Мадриде, или в Вене.
Европейский меркантилизм был соревнованием между атлантическими портовыми городами, которое требовало наиболее эффективной комбинации ресурсов с тем, чтобы пожинать прибыли, ожидавшиеся от новых рынков, созданных благодаря европейским географическим открытиям. Новые рынки включали области, открытые европейцами по другую сторону Атлантики, и морской путь к сказочным Индиям и Островам пряностей. Патрик О’Брайен в главе 12 убедительно утверждает, что только Британии удалось мобилизовать свои военно-морские и торговые организации для того, чтобы добиться окончательного превосходства над конкурирующими державами Испании, Франции и Нидерландов. Тридцатилетняя война (1618–1648) принесла населению Центральной Европы опустошение, сравнимое с «черной смертью». Тридцать лет постоянных боев создали новые военные технологии и новые средства государственного финансирования, направленные прежде всего на оплату военных расходов и установившие основу для полутора веков государственного строительства по всей Западной Европе. Когда Оливер Кромвель одержал победу в Гражданской войне, постоянно направляя свою Армию нового образца в походы и используя дешевые чугунные пушки для разрушения стен средневековых замков в Ирландии, Уэльсе и Шотландии, он также создал налоговую базу для содержания постоянного военного флота в будущем. По мнению О’Брайена, начиная с этого времени были заложены важнейшие основы британского капитализма и последующие монархи оставили без изменений новую налоговую систему, которая генерировала возраставшие поступления, пропорциональные торговле, проходившей через британские порты и расширявшейся по следам морских побед.
Когда торговые государства конкурировали, испытывая различные подходы к капитализму для эксплуатации возможностей поселения и торговли с Азией и Америками, различные европейские страны сталкивались с прежде изолированными народами в Африке южнее Сахары, во внутренних областях Северной Америки и, о чем известно больше всего, в Латинской Америке. Контакты европейцев с этими прежде неизвестными обществами имели долговременные последствия и для населения, с которым происходил контакт, и для будущего капитализма. Уничтожение коренного населения и его практическое порабощение конкистадорами из Испании под предводительством Кортеса в Мексике и Писарро в Перу навсегда останется пятном на истории капитализма. Но, как показал в главе 13 Ричард Сальвуччи, испанские, а потом и португальские предприятия сначала едва ли имели протокапиталистический характер. Только когда последующие поколения колониальных правителей адаптировались к радикально изменившемуся соотношению земли и труда, вызванного истреблением коренных американцев, они стали способны эксплуатировать регион экономически, что привело к колониальной экспансии по всей Латинской Америке. Серебро, добываемое и экспортируемое в больших и растущих количествах и в Европу, и в Индию и завершавшее свой путь в основном в Китае, хотя оно и служило на протяжении около двух веков испанским монархам для финансирования их военных предприятий, на деле играло незначительную роль в налоговой поддержке вице-королей Мексики и Перу. Табачные и сахарные монополии были гораздо важнее с точки зрения налогов, и государственная эксплуатация значительно больше соответствовала докапиталистическим тенденциям, вплоть до создания обрахе, или текстильных фабрик, которые копировали предприятия, появившиеся в XVIII веке в Англии.
Так как европейские рынки этих товаров продолжали расширяться, эти монополии, основанные на плантациях, в больших количествах использовали рабский труд, что вело к работорговле. Это также отождествляется с подъемом капитализма, даже до такой степени, что продвижение капитализма в британской промышленности отождествляется с прибылями, которые получали британские рабовладельцы от экспорта рабов с западных берегов Африки в британскую, испанскую и португальскую Америку.
Мортен Джервен в главе 14 обращается к сложной системе торговых отношений, которая развилась на западном побережье Африки для обеспечения трансатлантической работорговли. Африканские вожди с готовностью предоставляли рабов, нужных британским работорговцам, прибывавшим из Бристоля или Ливерпуля, но только после того, как они устанавливали цены на рабов относительно европейских и азиатских товаров, поставлявшихся европейскими торговцами. В результате со временем цены на рабов выросли и африканцы расширили области, откуда поставлялись рабы, глубже внутрь континента. Перед закатом работорговли развилась дополнительная торговля и другими товарами, такими как перец, пальмовое масло и красное дерево, которые стали основой торговли между Старым Калабаром и Бристолем после 1807 года и конца британской работорговли. Поддержание дальних коммуникаций и финансирования для того, чтобы качественный индийский текстиль мог доставляться из Англии, а самый прибыльный состав рабов, в свою очередь, мог поставляться из Африки на сахарные плантации Карибских островов, для постоянной деятельности потребовало установления личных отношений между африканскими вождями, такими как Антера Дьюк в дельте Нигера, и британскими капитанами кораблей, такими как Томас Джонс из Бристоля.
Энн Карлос и Фрэнк Льюис в главе 15 показывают, что похожая реакция на европейских торговцев возникала среди североамериканских индейцев, которые, уже ведя активную дальнюю и местную торговлю, быстро превратили связи с европейцами в широкую торговую деятельность на североамериканском континенте. Хотя дарение, входившее долгое время в наблюдавшиеся антропологами индейские традиции, стало частью регулярных взаимоотношений компании Гудзонова залива с коренными американцами, оно было лишь знаком вежливости для начала серьезной торговли товарами, которая происходила на ежегодных рынках. Количество и разнообразие товаров, которые индейские племена покупали у европейских торговцев, продолжало возрастать, особенно когда за бобровые шкурки стали предлагаться более высокие цены. Таким образом, первые контакты представителей европейских капиталистов с коренным населением и в Латинской Америке, и в Африке, и на диких просторах Северной Америки могли вызывать гибкую реакцию, ведущую к взаимовыгодному обмену, и часто так и происходило.
Ник Харли в главе 16 разгадывает непрерывную головоломку о том, как европейский меркантилизм в результате развился в европейскую индустриализацию. Хотя в своей работе он показал, что британская промышленная революция имела место, ее развитие в современный экономический рост было более постепенным и в меньшей степени продвигалось простым введением фабричной системы в текстильную отрасль, какими бы яркими ни были и по сей день эти символы раннего капитализма. В конечном итоге британский промышленный опыт легко мог быть повторен почти во всей расположенной рядом Европе, но этого, как правило, не случалось. Отсутствие такой имитации было обусловлено неэкономичностью цен на факторы производства в Европе для принятия британской технологии, которая отличалась интенсивностью использования энергии, использованием капитала и экономией труда. Движущая сила такого различия, скорее всего, происходила из сельского хозяйства, производительность труда в котором в Англии была заметно выше, чем в континентальной Европе, за исключением Нидерландов.
И Нидерландам, и Англии удалось организовать экономически эффективную систему сельского хозяйства, создав стимулирующие договоры между пользователями и владельцами земли для поддержания и попыток нового увеличения высоких уровней продуктивности ориентированного на рынок производства. По мере того как продолжала развиваться британская промышленность и расти расширившаяся за моря торговля, особенно во время продолжительных войн с Францией, которые достигли кульминации в 1815 году, европейцы искали различные пути для повторения британского успеха, достаточно часто защищая отечественного производителя от британской продукции. Только после 1850 года благодаря политическим изменениям в большинстве европейских стран стала возможна успешная конкуренция, начиная с увеличившейся продуктивности сельского хозяйства. Принятие вариантов британских институциональных установлений, особенно в отношении представительного правительства, которое поддерживало капиталистические предприятия на транспорте, в сельском хозяйстве, в промышленности, оказалось в результате ключом к успеху, но в большинстве случаев даже в Европе это реализовалось не раньше середины XIX века (Cardoso and Lains 2010).
Джереми Атак в главе 17 анализирует образцовый случай процветающего капитализма – Соединенные Штаты Америки, – отмечая важность английской формы акционерной корпорации и управления британскими монархами с самого начала движения колонизации. Столкнувшись с практически бесконечными пространствами земли и стремясь получить выгоду от экспорта всего, что можно было вырастить или собрать, колонисты в этой tabula rasa делали все, чтобы извлечь как можно больше прибыли. Экспансия населения, численность которого быстро росла, но которое всегда оставалось высокооплачиваемым, как в сельском хозяйстве, так и в центрах торговли, остается одним из чудес экономического развития, которое продолжилось и в XXI веке. Атак определяет корпорацию с ее ориентированностью на прибыль (это верно даже для правительств городов и государств) в качестве определяющего капиталистического института для экономического успеха Америки и создания постоянных препятствий для гегемонии государства.
Американский Юг с его все более своеобразным институтом плантаторского рабства создавал активные трения с северными штатами, где сельское хозяйство, основанное на семейных фермах, пожалуй, также было коммерческим, хотя, возможно, это было не так ярко выражено. Эта нарастающая напряженность десятилетиями сдерживалась политическими компромиссами, соединенными с экспансией на запад, – пока не было достигнуто западное побережье. К началу Гражданской войны Соединенные Штаты уже были самой большой капиталистической экономикой в мире, а к ее концу их армия стала самой крупной и мощной военной силой в мире. Крупномасштабные промышленные корпорации, которым долгое время предшествовали десятки тысяч мелких предприятий, особенно на севере, теперь обрели свое лицо, и по сей день двигая американский экономический рост и политические конфликты.
Подъем капитализма и проблемы, которые он поставил перед существовавшими экономическими, коммерческими, политическими и даже религиозными структурами, были особенно очевидны современным европейским наблюдателям, начиная с возраставшего количества серебра, поступавшего на европейский рынок во второй половине XVI века, и его влияния на торговые связи и военные возможности конкурировавших государств. Хосе Луис Кардозо в главе 18 утверждает, что современники, анализируя примеры и следствия подъема капитализма, создали новую науку политической экономии, которая повлекла за собой важные политические последствия. Magnum opus Адама Смита был построен на долгой традиции размышлений его предшественников о выгодах многосторонней торговли, но явственно пытался предписать разумную экономическую политику государственной власти (см. книгу V Богатства народов). Его оптимизм по поводу возможностей взаимовыгодной торговли, ведущей к накоплению богатства и счастью все более цивилизованных обществ, не имел немедленных политических последствий, но он, несомненно, оказал большое влияние на переход Британии к свободной торговле после 1848 года.
В тот же год Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали свой «Манифест Коммунистической партии», предсказывая коллапс капитализма из-за его внутренних противоречий, так как он требовал растущих рынков одновременно с растущей эксплуатацией рабочих. Однако в этот же год Джон Стюарт Милль опубликовал свою книгу «Основы политической экономии» – вершину классической экономики, превозносившую цивилизационные возможности грядущего устойчивого состояния, скорого наступления которого он ожидал. Оба этих противоречащих друг другу взгляда на будущее капитализма были полностью опровергнуты распространением капитализма, который обошел весь мир в следующие полтора столетия, что делает еще более странным то, что в XXI веке по-прежнему звучат отголоски обоих этих взглядов.
* * *
Принимая неизбежность постоянного изменения экономической эффективности различных экономик прошлого, создатели этой истории подъема капитализма составили новую метатеорию, контрастирующую с существующими трактовками истории капитализма. В первых теориях, созданных в начале XX века, до ужасов Первой мировой войны, проступало ощущение триумфальности. После травмы, нанесенной Великой депрессией, следующее поколение историй представляло собой поиск альтернативных форм экономической организации. Разделение мира после Второй мировой войны на западный капитализм в различных формах, конкурирующий с экономиками, управляемыми центральным планированием, привело к следующему набору метатеорий, часто с целью оправдания альтернативных экспериментов в экономиках так называемого третьего мира. Современное поколение в исторической науке, владея обновленным опытом глобализации приблизительно с 1980-х годов, ищет новую убедительную метатеорию, которая позволила бы использовать опыт прошлого для преодоления проблем настоящего.
Разнообразие политических реакций на коллапс экономик с центральным планированием в 1990-х годах выявило трудности выбора правильных действий для достижения современного экономического роста. Если некоторые версии современного капитализма для стран с переходной экономикой конца XX века выглядели более привлекательными, чем другие, то требуемые для их успешного воспроизведения институты оказалось трудно создать и впоследствии поддерживать (см. главу 16 Нила и Уильямсона, завершающую второй том). Проблемы изменения традиционных политических структур для эффективно – го применения возможностей материальных улучшений, становившиеся все более очевидными в различные периоды, в прошлом не были легко преодолимы, но иногда это удавалось. Какие именно черты были важнейшими в успешных изменениях политических установлений, дополнявших динамичные изменения в успешных экономиках, можно только предполагать, но экономисты, политологи и историки прилагают огромные усилия для того, чтобы вскрыть критически важные элементы в немногих поддающихся исследованиям успешных примерах.
Интенсивнее всего изучается случай Британии, при этом политическим установлениям, неразрывно связанным с великой Славной революцией 1688–1689 годов, обычно отводится почетное место. Асемоглу и Робинсон (Acemoglu and Robinson 2012) утверждают, что парламент, который низложил Якова II, был открыт для широкого диапазона экономических интересов, от наследственных землевладельцев до международных торговцев различных религиозных и географических ориентаций. Норт и Уэйнгаст (North and Weingast 1989) утверждают, что парламент ограничил хищнические наклонности монарха, заставив его принять установленные парламентом условия создания новых налогов, привлечения новых займов и основания новых предприятий. Созданные таким образом механизмы «заслуживающего доверия обязательства» были важными аспектами британской конституции (все еще, однако, не зафиксированными в письменной форме), которые позволили впоследствии процветать предпринимателям и в результате привели к промышленной революции. Однако большинство исследователей этого эпизода истории считают, что события были гораздо более сложными и что требовалось большое разнообразие механизмов обязательств, некоторые из них предшествовали изменению режима 1689 года, а другим потребовалось намного больше времени, чтобы прочно закрепиться (Coffman, Leonard, and Neal 2012). Независимо от этого все прочие случаи зарождающегося капитализма должны сравниваться с примером Британии по различным параметрам помимо собственно экономических, но особенно в отношении политических и правовых институтов.