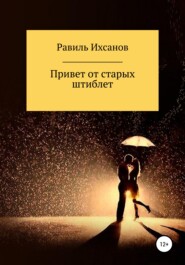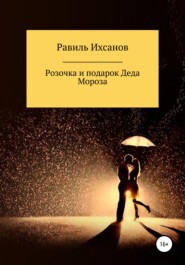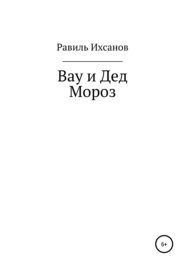По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фаина Ивановна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не родился на свете хитрец,
Пусть в золото и багрец он одет —
Смерть вышибет под ним алмазный табурет…
Она привыкала к одиночеству,
Души и тела скопчеству.
Пусть это иллюзия,
Последствия артистической контузии:
"Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит – …".
Но сладко за Пушкиным повторять,
Себя, любимую, умиротворять.
Жизнь, конечно, остановится,
Но куда ей торопиться – перловице:
Новый жемчуг она не родит,
Не смотрит на неё завлит.
Тем паче – режиссер-постановщик,
Ну, разве же он виновник:
Строками Льва Ошанина
Судьба актрисы решена:
"Она стареет. Дряблому лицу
Не помогают больше притиранья,
Как новой ручки медное сиянье
Усталому от времени крыльцу.
А взгляд её не сдался, не потух.
Пусть не девчонок, не красавиц хлестких, —
Она ещё выводит на подмостки
Своих эпизодических старух".
А ведь когда-то
Всё начиналось с хохотка.
Он вырос до крещендо
Разместившегося в фойе диксиленда.
Он вторил зрителям —
Спектакля благотворителям.
В театре МГУ.
Нанес он ей тамгу
"Моя навеки…".
На обнаженный локоток.
И закрутились Судьбы шнеки,
Заторопились дровосеки,
Убирая засеки
С тропинки в счастливую Жизнь
С ароматом спелых дынь.
Однако. Откуда у студента мехмата
Взялась тамга с эффектом сфумато?
Картофель был разрезан пополам,
А затем острым ножом
На его половинке как чертежом
Вырезаны отчаянные слова.
Оставляющие раны, как меч-трава…
Шрифт обмакнули в тушь,