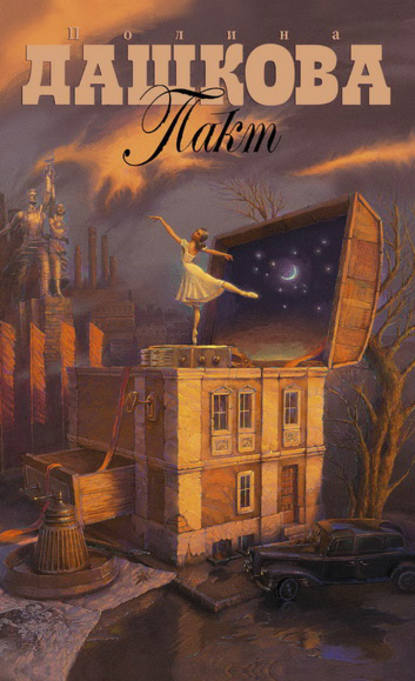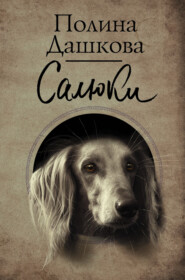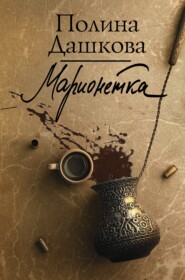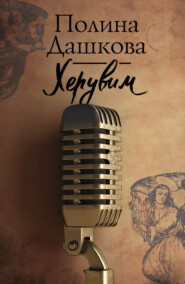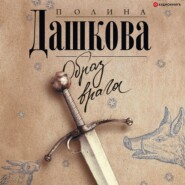По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пакт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Маю Суздальцеву досталась партия злого Петуха. Он был ленинградец, учился в классе самой Вагановой. В Московское училище попал в тридцать пятом. Его родителей посадили после убийства Кирова. Мая взяла к себе в Москву бабушка, они жили в подвальной коммуналке недалеко от Маши, в Банном переулке, в шестиметровой комнатке. Подвал был сырой, без водопровода и отопления. Бабушка болела, Май часто простужался, к тому же не высыпался. Соседи устраивали ночами пьяные драки.
«Вот ведь Мая не разбирали на собрании, не заставляли отрекаться от родителей, разрешили жить в Москве, взяли в училище, потом в Большой, – думала Маша, опускаясь в глубокое плие. – Дали танцевать злого Петуха. Почему же с Лидой так?»
Пасизо подходила к каждому, делала замечания, поправляла руки, ноги, хлопала по спинам, по коленям. Только к Лиде не прикоснулась, не взглянула на нее. Маша вдруг вспомнила, что муж Ады Павловны, балетмейстер Сизов, исчез куда-то. Еще недавно ставил балеты, входил в приемную комиссию, в профком, в партбюро, а теперь нет его, и никто не удивляется, не спрашивает, куда делся, будто вовсе не существовало на свете балетмейстера Сизова.
«Люди не исчезают просто так, не растворяются в воздухе, – думала Маша. – Если бы заболел, навещали бы в больнице или дома, если бы умер, висел бы некролог, были бы похороны. Значит, арестован. Пасизо продолжает преподавать как ни в чем не бывало, не трогают, не выгоняют».
– Ну что, Акимова, ты рада? – шепотом спросила Лида.
– Лидка, перестань, – Маша вытянула ногу в батмане. – Все обойдется, там разберутся, папу твоего отпустят.
– Издеваешься? – в шепоте ее было столько ненависти, что у Маши похолодело в животе.
– Лида, нет, пожалуйста, не говори так, разве я виновата?
– Акимова, хватит болтать! Колено гнешь, висишь на палке, как мокрая тряпка!
Пасизо крикнула ужасно громко. Старенькая аккомпаниаторша Надежда Семеновна перестала играть. Все уставились на Машу. Тишина длилась не больше минуты, но как будто вечность прошла. Наконец Пасизо хлопнула в ладоши:
– Не спим! Работаем!
Надежда Семеновна, опомнившись, бодро застучала по клавишам. После общей разминки Пасизо занялась Машей, заставила ее повторить все сольные партии Аистенка, орала, больно била по спине, называла кувалдой, мешком с картошкой, мокрой тряпкой, параличной бабкой. Остальные сидели на полу, смотрели и слушали. Маша зависала в прыжках, крутила фуэте, глаза заволокло слезами, но это не имело значения. Расплывались лица девочек, мальчиков, расплывалась тонкая, прямая Пасизо. Седая голова Надежды Семеновны парила, как ущербная луна, над сверкающей чернотой рояля.
– Стоп! – Пасизо хлопнула в ладоши. – Репетиция через полчаса. Все свободны, кроме Акимовой.
Маша бессильно опустилась на пол, уронила голову на колени, вытянула руки, закрыла глаза. Когда стихли шаги и никого не осталось в зале, Пасизо уселась рядом на пол, произнесла чуть слышно:
– Успокойся, это решение приняли две недели назад. Семейная ситуация Русаковой тут совершенно ни при чем.
Маша увидела прямо перед собой худое, пепельное под слоем пудры и румян лицо Пасизо. Вблизи серые узкие глаза оказались не пронзительными, а воспаленными, как бывает после долгих слез и бессонных ночей.
– Почему ничего не сказали? Почему новый список появился только сегодня, в день собрания, рядом с объявлением? – спросила Маша.
– Тебе какая разница? – Пасизо резко поднялась, подняла Машу.
Оставшиеся полчаса она повторяла с Машей ключевые комбинации, шлифовала повороты, ракурсы, толчок, приземление на пальцы и полупальцы. Пасизо мгновенно определяла ее слабые места, чуть-чуть меняла положение рук, головы, и танец преображался, каждое па точненько, удобно приспосабливалось к телу.
На репетицию Маша явилась разогретая, спокойная, собранная. В зале сидели композитор, балетмейстеры, авторы либретто, завтруппой, репетиторы, еще какое-то театральное начальство. Маша чувствовала, что танцует отлично и Пасизо правильно сделала, что не дала ей передышки. В сцене, где пионерка Оля и пионер Вася учат Аистенка летать, Маше удалось создать контрастный образ. Птенец-неумеха, беспомощный, слабенький, превращался в сильную, свободную птицу. После забавного па-де-труа с пионерами Аистенок солировал, крутил фуэте, летал, зависая в воздухе. В зале прозвучали аплодисменты, что бывает крайне редко на репетициях.
Глава третья
Доктор психиатрии Карл Штерн скоро забыл ефрейтора Гитлера. Медовый месяц они с Эльзой провели в Швейцарских Альпах. Когда вернулись в Берлин, Карл продолжил работу в клинике. В декабре 1919-го Эльза родила крепенького белокурого мальчика, его назвали Отто в честь родного брата Эльзы, погибшего на войне.
Все складывалось именно так, как мечтал Карл, сражаясь с психозами и психопатиями в прифронтовых госпиталях. Уют, чистота, покой, румяный улыбчивый младенец в кроватке, Эльза в ночной сорочке расчесывает перед зеркалом длинные светло-рыжие волосы. Такие счастливые картинки он видел во сне на войне и только ими спасался от кровавого абсурда войны. Теперь картинки стали реальностью.
Доктор Штерн радовался каждому новому дню и считал, что самое страшное позади. Война закончилось, невозможно представить, что этот ужас когда-нибудь повторится.
Революции, военные перевороты, митинги, демонстрации, истерический тон газет и листовок, облепивших стены домов, заборы и афишные тумбы Берлина, – все это казалось доктору Штерну отрыжкой войны, массовым посттравматическим психозом, но ни в коем случае не предвестником новой вспышки общественного безумия.
По Германии катилась волна политических убийств и уличных потасовок. Курс марки падал, безработных становилось все больше. Газеты смаковали кровавые подробности ужасающих сексуальных преступлений, совершаемых евреями. Это наглядно иллюстрировалось антисемитскими карикатурами и преподносилось в качестве криминальной хроники.
Правительство приняло специальный закон об охране республики от терроризма и экстремизма правых и левых партий. В ответ крайние правые призвали к маршу протеста из Мюнхена в Берлин и устроили путч в Мюнхене. Крайние левые разжигали беспорядки в Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и Руре. В Берлине началась всеобщая забастовка. Президент Эберт ввел в Германии чрезвычайное положение.
Жалованья, которое доктор получал в клинике, не хватало на жизнь, приходилось заниматься частной практикой. Карл успешно лечил психоневрозы, алкоголизм и наркоманию, редко прибегая к жестоким средствам, используя в основном психотерапию и гипноз. Скоро он стал популярен, к нему обращались отпрыски богатых семейств, высокопоставленные военные.
Среди военных было много алкоголиков, морфинистов и просто психопатов. Аристократы нюхали кокаин, курили опиум, страдали сексуальными расстройствами.
Одним из первых частных пациентов Карла стал пехотный полковник Густав Шамке. Высокий широкоплечий красавец с благородной сединой, мужественным лицом, он казался воплощением здоровья, уверенности, спокойствия. Из-за контузии у него случались приступы ярости.
К доктору он обратился после того, как избил свою жену. У них было трое детей, никто не хотел скандала, родственники жены поставили условие: если Шамке станет лечиться, его простят. В противном случае – огласка, позор, увольнение из армии.
На первом же сеансе гипноза доктор выяснил, что приступы ярости связаны с фобией, красавец полковник до смерти боится случайно выболтать секреты «Черного рейхсвера». Страх замещался агрессией.
Все в Германии знали, что «Черный рейхсвер» был создан генералом фон Сектом, чтобы втайне от стран-победительниц увеличить численность германской армии. Для конспирации войска «Черного рейхсвера» называли «Трудовыми отрядами», они насчитывали около двадцати тысяч человек.
Под гипнозом полковник рассказал, что внутри армии действует тайное общество «Организация Консул», сокращенно «ОК». Это «ОК» возродило традиции средневековых судов феме. В глубокой тайне группа посвященных выносит смертные приговоры и организует убийства, обставляя банальную уголовщину жуткими старинными ритуалами. Жертвы боевиков «ОК» – коммунисты, социал-демократы, политики Веймарской республики, которые не придерживаются радикально-националистических взглядов, обычные люди, случайно оказавшиеся свидетелями тайной деятельности «ОК», сами посвященные, в чем-то провинившиеся перед своими товарищами, заподозренные в предательстве, или просто те, кого сочли ненадежными.
Шамке монотонным голосом рассказывал готические ужасы в духе Гёте и Вальтера Скотта с пещерами, замками, масками, кинжалами, кровавыми клятвами. Доктору хотелось думать, что все это болезненные фантазии контуженого полковника. Шамке называл фамилии реальных жертв политических убийств, случившихся за последние два года, и фамилии известных генералов, офицеров, членов «ОК».
Иногда во время этих сеансов доктору приходила мысль обратиться в полицию, но он тут же одергивал себя. Если Шамке говорит правду, получается, половина офицеров германской армии параноики, уголовные убийцы. Тогда обращаться в полицию бессмысленно и опасно для жизни. Если Шамке бредит, то можно попасть в глупейшее положение, лишиться не только частной практики, но и работы в клинике. В любом случае доносить на доверившегося ему пациента доктор считал подлым делом.
За несколько сеансов он научил полковника расслабляться, снимать внутреннее напряжение, внушил уверенность, что Шамке вполне способен контролировать себя, сдерживать ярость и хранить «военные тайны». Полковник оказался легким пациентом. На самом деле ему просто надо было выговориться, поделиться своими страхами.
Прощаясь, Шамке обаятельно улыбнулся и сказал: «Вы, герр доктор, некоторым образом прошли посвящение, вам теперь известно то, что знать опасно». Это прозвучало как угроза, впрочем сдобренная щедрым гонораром.
Доктор хотел бы забыть все, что слышал от Шамке, но не получалось. Мир вывернулся наизнанку. Душевнобольные в клинике казались более адекватными и здоровыми, чем люди за стенами клиники, – на улицах, в учреждениях, магазинах и пивных. Послевоенный Берлин напоминал гигантскую палату буйных психопатов, лишенных медицинской помощи и охраны. На митингах и демонстрациях орали, трясли кулаками, дрались, размахивали транспарантами.
Врачи, коллеги Карла, вчера еще разумные, здравые люди, сегодня возбужденно повторяли паранойяльный бред о всемирном еврейском заговоре, неполноценности славянской расы и сверхполноценности арийцев. Многие стали активными членами «Евгенического общества», намеревались улучшать человеческую природу с помощью искусственного отбора.
Мода на евгенику выплеснулась за стены университетов и клиник, превратилась в повальное помешательство. Каждый проповедник идей искусственной селекции считал себя высшим существом, к людям относился, как к домашним животным, которых можно кастрировать или скрещивать по своему усмотрению. Мания величия, мессианский бред, сверхценные идеи всемирного заговора и собственной избранности, нравственная идиотия – все эти патологии становились нормой, заражали атмосферу германских городов. По мере размягчения мозгов твердели кулаки, закалялись орущие глотки, глаза стекленели, теряли способность видеть объективную реальность, если таковая существовала в послевоенной Германии.
Карл старался не читать газет. Эльза жадно читала газеты. Она была убеждена, что взрослый образованный человек обязан разбираться в политике и понимать, что происходит в стране, какие существуют партии, чем нацисты отличаются от коммунистов.
– Одни разжигают расовую ненависть, другие классовую, вот и вся разница, и те и другие считают себя элитой, сверхлюдьми. Чтобы это выяснить, не надо поглощать их пропагандистский бред в таком количестве, – говорил Карл.
– Ты ничем не интересуешься, кроме своих сумасшедших! – злилась Эльза. – Если все будут такими равнодушными и безучастными, начнутся ужас, революция и гражданская война, как в России.
– Эльза, дорогая, ты правда веришь, что, как только доктор психиатрии Карл Штерн станет читать газеты и трепаться о политике, наступят всеобщее примирение и благоденствие?
– Карл, ты невозможный человек! Надо хотя бы знать, что происходит!
– Эльза, мне все рассказывают мои пациенты. Поверь, я в курсе всех нынешних помешательств, от социал-дарвинизма до оккультизма.
Карл не любил спорить, работа с душевнобольными изматывала, сжирала силы. Дома хотелось покоя и тишины. Он добродушно отшучивался, когда Эльза выплескивала на него все прочитанное в газетах и требовала ответных эмоций. Он понимал, что за ее болезненным интересом к политике прячется страх. Она тяжело пережила гибель брата, четыре года ждала Карла с войны и боялась, что его тоже убьют. Ей хотелось жить в безопасном мире, а вокруг творилось черт знает что.
Отто исполнилось четыре года. Однажды Карл увидел среди его игрушек флажок со свастикой. Отто рассказал, что флажок ему дал большой мальчик, когда они гуляли с няней в парке. У кого есть такой флажок, тот против евреев. Евреи – страшные подземные чудовища, они убивают немецких детей и пьют их кровь.
– Вот! Скоро тебе придется лечить от паранойи собственного сына! – крикнула Эльза.
«Вот ведь Мая не разбирали на собрании, не заставляли отрекаться от родителей, разрешили жить в Москве, взяли в училище, потом в Большой, – думала Маша, опускаясь в глубокое плие. – Дали танцевать злого Петуха. Почему же с Лидой так?»
Пасизо подходила к каждому, делала замечания, поправляла руки, ноги, хлопала по спинам, по коленям. Только к Лиде не прикоснулась, не взглянула на нее. Маша вдруг вспомнила, что муж Ады Павловны, балетмейстер Сизов, исчез куда-то. Еще недавно ставил балеты, входил в приемную комиссию, в профком, в партбюро, а теперь нет его, и никто не удивляется, не спрашивает, куда делся, будто вовсе не существовало на свете балетмейстера Сизова.
«Люди не исчезают просто так, не растворяются в воздухе, – думала Маша. – Если бы заболел, навещали бы в больнице или дома, если бы умер, висел бы некролог, были бы похороны. Значит, арестован. Пасизо продолжает преподавать как ни в чем не бывало, не трогают, не выгоняют».
– Ну что, Акимова, ты рада? – шепотом спросила Лида.
– Лидка, перестань, – Маша вытянула ногу в батмане. – Все обойдется, там разберутся, папу твоего отпустят.
– Издеваешься? – в шепоте ее было столько ненависти, что у Маши похолодело в животе.
– Лида, нет, пожалуйста, не говори так, разве я виновата?
– Акимова, хватит болтать! Колено гнешь, висишь на палке, как мокрая тряпка!
Пасизо крикнула ужасно громко. Старенькая аккомпаниаторша Надежда Семеновна перестала играть. Все уставились на Машу. Тишина длилась не больше минуты, но как будто вечность прошла. Наконец Пасизо хлопнула в ладоши:
– Не спим! Работаем!
Надежда Семеновна, опомнившись, бодро застучала по клавишам. После общей разминки Пасизо занялась Машей, заставила ее повторить все сольные партии Аистенка, орала, больно била по спине, называла кувалдой, мешком с картошкой, мокрой тряпкой, параличной бабкой. Остальные сидели на полу, смотрели и слушали. Маша зависала в прыжках, крутила фуэте, глаза заволокло слезами, но это не имело значения. Расплывались лица девочек, мальчиков, расплывалась тонкая, прямая Пасизо. Седая голова Надежды Семеновны парила, как ущербная луна, над сверкающей чернотой рояля.
– Стоп! – Пасизо хлопнула в ладоши. – Репетиция через полчаса. Все свободны, кроме Акимовой.
Маша бессильно опустилась на пол, уронила голову на колени, вытянула руки, закрыла глаза. Когда стихли шаги и никого не осталось в зале, Пасизо уселась рядом на пол, произнесла чуть слышно:
– Успокойся, это решение приняли две недели назад. Семейная ситуация Русаковой тут совершенно ни при чем.
Маша увидела прямо перед собой худое, пепельное под слоем пудры и румян лицо Пасизо. Вблизи серые узкие глаза оказались не пронзительными, а воспаленными, как бывает после долгих слез и бессонных ночей.
– Почему ничего не сказали? Почему новый список появился только сегодня, в день собрания, рядом с объявлением? – спросила Маша.
– Тебе какая разница? – Пасизо резко поднялась, подняла Машу.
Оставшиеся полчаса она повторяла с Машей ключевые комбинации, шлифовала повороты, ракурсы, толчок, приземление на пальцы и полупальцы. Пасизо мгновенно определяла ее слабые места, чуть-чуть меняла положение рук, головы, и танец преображался, каждое па точненько, удобно приспосабливалось к телу.
На репетицию Маша явилась разогретая, спокойная, собранная. В зале сидели композитор, балетмейстеры, авторы либретто, завтруппой, репетиторы, еще какое-то театральное начальство. Маша чувствовала, что танцует отлично и Пасизо правильно сделала, что не дала ей передышки. В сцене, где пионерка Оля и пионер Вася учат Аистенка летать, Маше удалось создать контрастный образ. Птенец-неумеха, беспомощный, слабенький, превращался в сильную, свободную птицу. После забавного па-де-труа с пионерами Аистенок солировал, крутил фуэте, летал, зависая в воздухе. В зале прозвучали аплодисменты, что бывает крайне редко на репетициях.
Глава третья
Доктор психиатрии Карл Штерн скоро забыл ефрейтора Гитлера. Медовый месяц они с Эльзой провели в Швейцарских Альпах. Когда вернулись в Берлин, Карл продолжил работу в клинике. В декабре 1919-го Эльза родила крепенького белокурого мальчика, его назвали Отто в честь родного брата Эльзы, погибшего на войне.
Все складывалось именно так, как мечтал Карл, сражаясь с психозами и психопатиями в прифронтовых госпиталях. Уют, чистота, покой, румяный улыбчивый младенец в кроватке, Эльза в ночной сорочке расчесывает перед зеркалом длинные светло-рыжие волосы. Такие счастливые картинки он видел во сне на войне и только ими спасался от кровавого абсурда войны. Теперь картинки стали реальностью.
Доктор Штерн радовался каждому новому дню и считал, что самое страшное позади. Война закончилось, невозможно представить, что этот ужас когда-нибудь повторится.
Революции, военные перевороты, митинги, демонстрации, истерический тон газет и листовок, облепивших стены домов, заборы и афишные тумбы Берлина, – все это казалось доктору Штерну отрыжкой войны, массовым посттравматическим психозом, но ни в коем случае не предвестником новой вспышки общественного безумия.
По Германии катилась волна политических убийств и уличных потасовок. Курс марки падал, безработных становилось все больше. Газеты смаковали кровавые подробности ужасающих сексуальных преступлений, совершаемых евреями. Это наглядно иллюстрировалось антисемитскими карикатурами и преподносилось в качестве криминальной хроники.
Правительство приняло специальный закон об охране республики от терроризма и экстремизма правых и левых партий. В ответ крайние правые призвали к маршу протеста из Мюнхена в Берлин и устроили путч в Мюнхене. Крайние левые разжигали беспорядки в Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и Руре. В Берлине началась всеобщая забастовка. Президент Эберт ввел в Германии чрезвычайное положение.
Жалованья, которое доктор получал в клинике, не хватало на жизнь, приходилось заниматься частной практикой. Карл успешно лечил психоневрозы, алкоголизм и наркоманию, редко прибегая к жестоким средствам, используя в основном психотерапию и гипноз. Скоро он стал популярен, к нему обращались отпрыски богатых семейств, высокопоставленные военные.
Среди военных было много алкоголиков, морфинистов и просто психопатов. Аристократы нюхали кокаин, курили опиум, страдали сексуальными расстройствами.
Одним из первых частных пациентов Карла стал пехотный полковник Густав Шамке. Высокий широкоплечий красавец с благородной сединой, мужественным лицом, он казался воплощением здоровья, уверенности, спокойствия. Из-за контузии у него случались приступы ярости.
К доктору он обратился после того, как избил свою жену. У них было трое детей, никто не хотел скандала, родственники жены поставили условие: если Шамке станет лечиться, его простят. В противном случае – огласка, позор, увольнение из армии.
На первом же сеансе гипноза доктор выяснил, что приступы ярости связаны с фобией, красавец полковник до смерти боится случайно выболтать секреты «Черного рейхсвера». Страх замещался агрессией.
Все в Германии знали, что «Черный рейхсвер» был создан генералом фон Сектом, чтобы втайне от стран-победительниц увеличить численность германской армии. Для конспирации войска «Черного рейхсвера» называли «Трудовыми отрядами», они насчитывали около двадцати тысяч человек.
Под гипнозом полковник рассказал, что внутри армии действует тайное общество «Организация Консул», сокращенно «ОК». Это «ОК» возродило традиции средневековых судов феме. В глубокой тайне группа посвященных выносит смертные приговоры и организует убийства, обставляя банальную уголовщину жуткими старинными ритуалами. Жертвы боевиков «ОК» – коммунисты, социал-демократы, политики Веймарской республики, которые не придерживаются радикально-националистических взглядов, обычные люди, случайно оказавшиеся свидетелями тайной деятельности «ОК», сами посвященные, в чем-то провинившиеся перед своими товарищами, заподозренные в предательстве, или просто те, кого сочли ненадежными.
Шамке монотонным голосом рассказывал готические ужасы в духе Гёте и Вальтера Скотта с пещерами, замками, масками, кинжалами, кровавыми клятвами. Доктору хотелось думать, что все это болезненные фантазии контуженого полковника. Шамке называл фамилии реальных жертв политических убийств, случившихся за последние два года, и фамилии известных генералов, офицеров, членов «ОК».
Иногда во время этих сеансов доктору приходила мысль обратиться в полицию, но он тут же одергивал себя. Если Шамке говорит правду, получается, половина офицеров германской армии параноики, уголовные убийцы. Тогда обращаться в полицию бессмысленно и опасно для жизни. Если Шамке бредит, то можно попасть в глупейшее положение, лишиться не только частной практики, но и работы в клинике. В любом случае доносить на доверившегося ему пациента доктор считал подлым делом.
За несколько сеансов он научил полковника расслабляться, снимать внутреннее напряжение, внушил уверенность, что Шамке вполне способен контролировать себя, сдерживать ярость и хранить «военные тайны». Полковник оказался легким пациентом. На самом деле ему просто надо было выговориться, поделиться своими страхами.
Прощаясь, Шамке обаятельно улыбнулся и сказал: «Вы, герр доктор, некоторым образом прошли посвящение, вам теперь известно то, что знать опасно». Это прозвучало как угроза, впрочем сдобренная щедрым гонораром.
Доктор хотел бы забыть все, что слышал от Шамке, но не получалось. Мир вывернулся наизнанку. Душевнобольные в клинике казались более адекватными и здоровыми, чем люди за стенами клиники, – на улицах, в учреждениях, магазинах и пивных. Послевоенный Берлин напоминал гигантскую палату буйных психопатов, лишенных медицинской помощи и охраны. На митингах и демонстрациях орали, трясли кулаками, дрались, размахивали транспарантами.
Врачи, коллеги Карла, вчера еще разумные, здравые люди, сегодня возбужденно повторяли паранойяльный бред о всемирном еврейском заговоре, неполноценности славянской расы и сверхполноценности арийцев. Многие стали активными членами «Евгенического общества», намеревались улучшать человеческую природу с помощью искусственного отбора.
Мода на евгенику выплеснулась за стены университетов и клиник, превратилась в повальное помешательство. Каждый проповедник идей искусственной селекции считал себя высшим существом, к людям относился, как к домашним животным, которых можно кастрировать или скрещивать по своему усмотрению. Мания величия, мессианский бред, сверхценные идеи всемирного заговора и собственной избранности, нравственная идиотия – все эти патологии становились нормой, заражали атмосферу германских городов. По мере размягчения мозгов твердели кулаки, закалялись орущие глотки, глаза стекленели, теряли способность видеть объективную реальность, если таковая существовала в послевоенной Германии.
Карл старался не читать газет. Эльза жадно читала газеты. Она была убеждена, что взрослый образованный человек обязан разбираться в политике и понимать, что происходит в стране, какие существуют партии, чем нацисты отличаются от коммунистов.
– Одни разжигают расовую ненависть, другие классовую, вот и вся разница, и те и другие считают себя элитой, сверхлюдьми. Чтобы это выяснить, не надо поглощать их пропагандистский бред в таком количестве, – говорил Карл.
– Ты ничем не интересуешься, кроме своих сумасшедших! – злилась Эльза. – Если все будут такими равнодушными и безучастными, начнутся ужас, революция и гражданская война, как в России.
– Эльза, дорогая, ты правда веришь, что, как только доктор психиатрии Карл Штерн станет читать газеты и трепаться о политике, наступят всеобщее примирение и благоденствие?
– Карл, ты невозможный человек! Надо хотя бы знать, что происходит!
– Эльза, мне все рассказывают мои пациенты. Поверь, я в курсе всех нынешних помешательств, от социал-дарвинизма до оккультизма.
Карл не любил спорить, работа с душевнобольными изматывала, сжирала силы. Дома хотелось покоя и тишины. Он добродушно отшучивался, когда Эльза выплескивала на него все прочитанное в газетах и требовала ответных эмоций. Он понимал, что за ее болезненным интересом к политике прячется страх. Она тяжело пережила гибель брата, четыре года ждала Карла с войны и боялась, что его тоже убьют. Ей хотелось жить в безопасном мире, а вокруг творилось черт знает что.
Отто исполнилось четыре года. Однажды Карл увидел среди его игрушек флажок со свастикой. Отто рассказал, что флажок ему дал большой мальчик, когда они гуляли с няней в парке. У кого есть такой флажок, тот против евреев. Евреи – страшные подземные чудовища, они убивают немецких детей и пьют их кровь.
– Вот! Скоро тебе придется лечить от паранойи собственного сына! – крикнула Эльза.