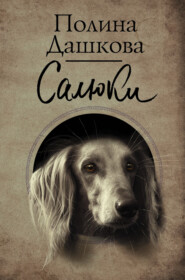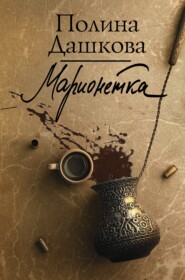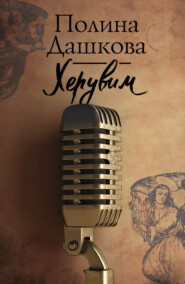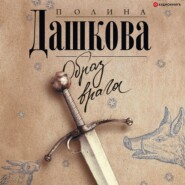По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Приз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В ящике ее письменного стола лежало круглое двустороннее зеркальце, одна его сторона была с пятикратным увеличением. Василиса могла часами разглядывать свое лицо во всех подробностях, и подробности эти ее ужасали, особенно когда она сравнивала собственную физиономию с гладкими, вылизанными компьютерным способом личиками журнальных моделей.
«Господи, ну почему я такая страшная? Зачем мне жить, если я уродина? Зачем учиться, поступать в институт?».
Она находила где-нибудь на подбородке едва заметный прыщик и с яростью набрасывалась на него. Через пятнадцать минут он превращался в большую, воспаленную гадость, с которой нельзя выйти на улицу и тем более идти в школу.
Если совсем нечего было расковырять на лице, агрессия саморазрушения направлялась на килограммы веса. Василиса целеустремленно голодала, доводила себя до голодных обмороков. Но вдруг хотелось чего-нибудь вкусненького. Она украдкой от самой себя съедала булочку, шоколадку, мороженое, сначала немного, потом больше, и уже не могла остановиться. Килограммы возвращались на место. Впрочем, никто, кроме нее, этого не замечал, их было всего полтора-два, не больше, этих килограммов.
Когда она плясала на ночных дискотеках, сидела на уроках или в кафе в компании друзей, невозможно было представить, сколько шума, визга и суеты происходит в ее душе. Тоненькая, ладная, большеглазая девочка, с густыми тяжелыми волосами до пояса. Какие у нее могут быть комплексы?
«Правда, какие комплексы? Ну, их к черту!» – говорила себе Василиса, возвращаясь домой на рассвете после очередной безумной вечеринки, обещая себе, что перепишет, наконец, сочинение, исправит пару по физике. Вместе с учебниками и тетрадями на столе само собой появлялось увеличительное зеркало. Все начиналось сначала. Устав от борьбы, лежа на коврике в своей комнате, Василиса виновато шептала: «Я посплю капельку».
Она засыпала крепко, видела счастливые детские сны и просыпалась другим человеком. Умывшись, глядела в зеркало в ванной и вдруг жутко себе нравилась, начинала громко петь, прыгать, танцевать. Вдохновенно наряжалась, причесывалась, рвалась вон из дома, чтобы срочно кто-нибудь ее, такую красивую, увидел и оценил по достоинству.
Ценители всегда находились. Главным из них в последнее время был некто Герман, шикарный молодой человек, почти вдвое старше нее.
Когда Василиса училась в восьмом классе, он преподавал в ее школе физкультуру. Проработал всего год. Девочки сохли по нему, учительницы приходили в школу надушенные и накрашенные, со свежими парикмахерскими укладками. Он был вкрадчиво любезен с учительницами и благоразумно не обращал ни на кого из учениц внимания. И все-таки Василиса могла поклясться, что уже тогда, в восьмом, он выделял ее, худющую, слегка дикую, из общей стаи вполне зрелых одноклассниц. Он чуть дольше, чем следовало, задерживал на ней взгляд своих узких голубых глаз и, когда страховал ее при прыжке с брусьев или через «козла», обязательно ловил, прикасался сухими горячими лапами, хотя она отлично прыгала и совершенно безопасно приземлялась.
Однажды он застал ее у зеркала в вестибюле. Вокруг никого не было, шел третий урок, Василису отпустили домой, у нее поднялась температура. Физкультурник Герман Борисович внезапно возник у нее за спиной, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга в зеркале, а потом он тихо спросил:
– Нравишься себе?
– Естественно! – Василиса щелкнула заколкой и красиво тряхнула волосами.
– Умница, – он склонился чуть ближе и, почти касаясь губами ее уха, прошептал: – Еще пара лет, и по тебе начнут сходить с ума мужики. А тетки при твоем появлении будут хвататься за своих мужей, как в рыночной толпе хватаются за сумки и карманы, опасаясь воровства.
– Это вы к чему, Герман Борисович? – Василиса развернулась, так резко, что ее тяжелые длинные волосы хлестнули его по лицу.
Он отступил и, улыбнувшись по-дурацки, промычал в ответ нечто невнятное.
Ухо и часть щеки, то место, куда он подышал, потом еще долго пылало. Она кожей вспоминала его теплое дыхание, у нее сладко ныло солнечное сплетение и щекотало в носу, как от цветочной пыльцы. Но тогда, у зеркала, в пустом гулком вестибюле, она ничем себя не выдала. Она чувствовала, что стоит поплыть, как плывут от его роскошной мужественной морды и потрясающей фигуры все остальные особи женского пола, и он перестанет выделять ее из общей массы. И еще, она понимала, что Герман, как таковой, не особенно ее интересует. Просто это отличный способ самоутверждения и лекарство от комплексов.
В девятом он уже не преподавал. Он исчез из школы, и никто не знал, куда. Василиса легко и быстро о нем забыла. Но однажды случайно столкнулась с ним на улице.
Был ноябрь, шел мокрый крупный снег, у Василисы промокли ноги и от жестокого насморка болели барабанные перепонки. Ветряные мельницы внутренней борьбы крутили крыльями с невероятной силой.
Герман увидел ее из машины, остановился, предложил подвезти. Машина у него была шикарная: перламутровый, как нутро ракушки, новенький «Ауди», волшебно чистый, несмотря на глубокую слякоть.
С тех пор они стали встречаться довольно часто. Она не могла точно ответить себе на вопрос, зачем. Ей нравилось собираться на эти свидания, носиться по квартире, примерять кофточки, крутиться перед зеркалом, красить губы липким розовым блеском с запахом клубничной жвачки. Нравилось впархивать в его шикарную машину. Нравилось сидеть с ним в каком-нибудь эстетском кафе, где весь дизайн сводится к извивам водопроводных труб и авангардным калякам-малякам на стенах, где орет музыка, взмыленные официанты носятся, обмотанные длинными фартуками цвета хаки. Тут же, в центре зала, повара в колпаках жонглируют пиццей и толстыми лоскутами кровавого мяса, все вокруг шипит, дымит, вопит и пахнет, так же оглушительно, как у нее в душе, когда крутят крыльями бессмысленные ветряные мельницы.
Ей не нравилось, когда он опрокидывал в машине спинки сидений и мокро целовал ее в шею и трогал, трогал своими горячими быстрыми лапами. Ей не нравилось бывать в крошечной квартире, которую он называл офисом.
Однажды, когда они кувыркались в этом самом офисе на кожаном диване, он вдруг вскочил, бросился к балкону и завопил, как сумасшедший: «Быстро, вставай, одевайся!».
Через три минуты Василиса опомнилась на лестничной площадке, двумя этажами выше. Было четыре утра. Она услышала, как внизу открылась дверь, как женский голос произнес: «Привет. Ты здесь? А почему не позвонил?» Дверь быстро захлопнулась, Василиса побежала вниз, чтобы поскорей убраться вон отсюда, домой, но вспомнила, что ее сумочка с деньгами, ключами и мобильным телефоном осталась в квартире.
Пока она размышляла, что делать, дверь опять хлопнула. Явился Герман с ее сумочкой. Заикаясь и не глядя в глаза, сообщил, что сейчас ей нужно ехать домой. Протянул сто рублей на такси. Она не взяла. Он спустился с ней вниз, по дороге бормоча грустную историю о свирепой начальнице, пожилой даме, с которой ему приходится спать, иначе она его выгонит с работы, и он умрет с голоду. Внизу, рядом с его «Ауди», стоял красный спортивный «Пежо».
– Она забыла пакет с продуктами в машине, – объяснил Герман, глядя вверх, на окно офиса, – она сейчас в ванной, так что ты быстренько… Прости, я не могу поймать для тебя машину, не успею, но здесь нормально, не опасно. – Он даже попытался поцеловать ее и прошептал, что завтра позвонит.
Василиса еле сдержалась, чтобы не врезать ему по физиономии, и потом долго жалела, что не врезала.
Это было совсем недавно. Всего лишь неделю назад. А еще неделей раньше она завалила экзамены в университет. Самое обидное, что даже не завалила. Просто ее мама легкомысленно мало заплатила нужному человеку. Человек этот даже намекнул Василисе по телефону, накануне последнего экзамена, что следует дать еще. Однако мама улетела в Испанию. Она служила гувернанткой в богатом семействе, воспитывала двенадцатилетнюю чужую девочку. Папа со своей новенькой женой и двумя новенькими маленькими детками отдыхал в Греции.
Что противней, провал экзаменов или Герман с его пожилой начальницей, Василиса не знала. Да это и не важно. Дня три она не вылезала из дома, под орущий телевизор валялась на своем коврике, смотрелась в кривое зеркало, пыталась читать, но строчки расплывались. Пыталась плакать, но тут же засыпала.
Наконец, проснувшись в очередной раз, вымыла голову, причесалась, оделась и отправилась шляться по душной смутной Москве, не просто так, а с конкретной целью. Ей вдруг безумно захотелось купить себе на последние полторы тысячи рублей коричневые джинсы-клеш. Но именно таких джинсов не нашла, устала, забрела в маленькое подвальное кафе на Гоголевском бульваре и познакомилась там с Гришей, а потом он познакомил ее со своими друзьями и пригласил к одному из них на дачу, в итоге они оказались в этом страшном Бермудском треугольнике.
«Я посплю капельку».
Она была уверена, что произнесла это вслух, но собственного голоса не услышала. Рядом ревел мотор. Катер возвращался. Это был последний шанс позвать на помощь. Но шевельнуться и крикнуть казалось невозможно. Она вспомнила, как Гриша пугал всех симптомами отравления угарным газом. Слабость, тошнота, головная боль. Иногда потеря сознания, вплоть до глубокой комы.
«Я капельку посплю».
Во сне она увидела Гришу. Он смотрел на нее живыми ясными глазами. Во сне она решила, что выкинет свое увеличительное зеркало. Она вполне четко увидела, как открывает ящик, достает зеркало в красивой золотистой рамке, смотрится в последний раз, и там возникает ее лицо, вернее то, что осталось от лица. Черные дыры глазниц, оскаленный рот, клочья обугленной кожи…
Василиса сначала вскочила на ноги, а потом уж проснулась и почувствовала жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Секунду назад она дернулась во сне, вскинула руку с воображаемым зеркалом, чтобы отбросить его подальше, и задела тлеющий сучок мертвой, давно рухнувшей елки.
Наверное, она кричала. Но никакого звука не вылетело из ее горла. От этого стало совсем страшно. Надо было бежать, идти, ползти, как можно скорей и как можно дальше отсюда, пока хватит сил.
* * *
Оказавшись в крошечном гостиничном номере, Андрей Евгеньевич Григорьев скинул ботинки и рухнул на целомудренно узкую койку.
«Надо встать, открыть чемодан, принять душ, почистить зубы. Хотя бы просто раздеться и залезть под одеяло», – подумал он.
И тут же уснул.
В номере было тихо, как в пещере. Единственное окно выходило в глухой бетонный колодец. Григорьеву приснилась московская квартира, в которой четверть века назад он, молодой офицер КГБ, жил с женой и дочерью. Дочь Маша, сегодняшняя, взрослая Маша, стопроцентная американка Мери Григ, сидела на диване, поглаживая белого кота Христофора Первого. Покойный кот уютно свернулся у нее на коленях и урчал, как деревенский мотороллер.
Обстановка квартиры была воссоздана довольно точно, но тени расходились неправильно, в разные стороны, независимо от направления света. Зеркало стенного шкафа отражало не книжные полки и угол дивана, а почему-то кухонный стол и разноцветные шарики люстры, которая висела за стеной, в соседней комнате. Ни один из предметов не выдерживал долгого внимательного взгляда, подтекал, оплывал и терял форму, как пластилиновая фигурка на горячей батарее. Когда явилась Катя, жена Григорьева, мать Маши, погибшая в восемьдесят пятом году, подвох стал очевиден. Катя была непомерно большая, в глухом розовом платье до пят. Ткань зыбилась медленными крупными волнами, предательски подчеркивая, что там, под ней, пустота вместо тела. Катя курила толстую сигару, чего никогда не делала при жизни. Аккуратные столбики пепла падали на клетчатый черно-белый ковер, но не рассыпались, а превращались в шахматные фигуры и выстраивались в исходную позицию для игры.
Андрей Евгеньевич чувствовал, что им с Машей надо поскорей покинуть это мертвое прошлое, грубую подделку под воспоминание. Как часто случается в сновидениях, он хотел крикнуть, но из горла вылетала тишина.
Он проснулся в холодном липком поту, уставился в потолок и несколько минут лежал, не в силах шевельнуться, не понимая, где он, удивляясь, что рядом нет белого кота Христофора Второго, кровать слишком узкая, подушка маленькая и плоская, и вообще, все чужое, непривычное.
За окном сияло солнце, такое яркое, что даже каменный колодец был наполнен светом. Часы показывали девять. Сначала он подумал, что девять вечера. Но этого не могло быть. Солнечный свет вечером имеет совсем другие оттенки.
Андрей Евгеньевич прилетел в шесть, в гостиницу попал в восемь, рухнул в койку в половине девятого. Сколько же он проспал?
Во рту было противно, перед сном он не почистил зубы. Из коридора слышался гул пылесоса. Горничные громко переговаривались по-испански. Голоса приближались, наконец постучали в дверь. Не ожидая ответа, появилась темнокожая пожилая толстуха в сине-розовой униформе и на чудовищном немецком сообщила, что ей необходимо срочно проверить содержимое мини-бара.
– Позже! – невежливо рявкнул Григорьев и понял наконец, что на самом деле сейчас девять утра, то есть он проспал больше двенадцати часов.
Такого с ним не случалось лет сто. Он был старый. Старики мало спят. Он привык к своей бессоннице, привык думать ночами, а не видеть многозначительные странные сны.
Горничная сердито хлопнула дверью. Андрей Евгеньевич снял с себя мятую, влажную рубашку, джинсы и прошлепал босиком в ослепительную маленькую ванную. Вид собственной опухшей бледной физиономии в зеркале заставил вздрогнуть. За ночь щеки поросли седой щетиной, остатки волос торчали короткими пегими перышками. Глаза отекли и покраснели. Минут пятнадцать, стоя в стерильной душевой кабинке, он поливался то кипятком, то ледяной водой, мыл голову миндальным гостиничным шампунем из пакетика, чистил зубы. Побрившись после душа, он почувствовал себя вполне живым, бодрым, уже не так хмуро глядел на собственное отражение.
Спохватившись, что гостиничный завтрак заканчивается через десять минут, Григорьев отправился в ресторан. По дороге его окликнул портье. Вместо вчерашней девушки за стойкой дежурил добротный пожилой толстяк, тоже сине-розовый. Лысина его напоминала шарик земляничного мороженого.