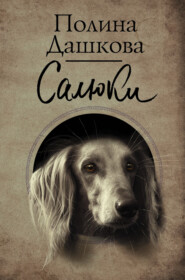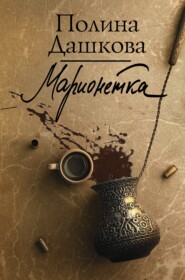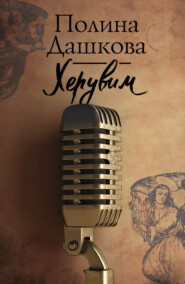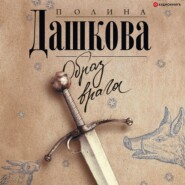По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Место под солнцем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нет, только не домой! Без десяти одиннадцать, до Нового года семьдесят минут. Катя завела мотор, помчалась сквозь крупный пушистый снег по расцвеченному огнями Калининскому проспекту. Она не плакала. Еще не хватало плакать за рулем в такую метель! Она поняла, куда едет, только у Кольцевой дороги.
В Переделкине «жигуленок» застрял в сугробе. Катя, вся в снегу, румяная, со сверкающими огромными глазами, влетела в ярко освещенную теплую гостиную калашниковской дачи.
– Катюха! Радость моя! – Пьяненький, разгоряченный Глеб закружил ее, расцеловал и совсем не удивился, не задал ни единого вопроса.
Было много народу, стол ломился от вкусной еды, девочки смеялись, кто-то отправился вытаскивать из сугроба Катину машину. Глеб Калашников стянул с ее ног промокшие, полные снега сапоги. Он знал, как важно держать в тепле драгоценные узенькие ступни прима-балерины, и стал растирать их ладонями, согревать своим дыханием, потом принес огромные отцовские валенки.
– С ума сошли! – закричал кто-то. – Без пяти двенадцать!
В экране телевизора лицо Горбачева сменилось башней с курантами. Бабахнуло шампанское. Все стали чокаться, Глеб поцеловал Катю в губы. Наступил восемьдесят девятый год. Все побежали во двор хлопать хлопушками, кричать «ура». В сонном полупустом поселке отчаянно лаяли собаки.
Наоравшись, набегавшись по глубокому снегу, усыпав сад и окрестные улицы разноцветным хлопушечным конфетти, вернулись в дом, погасили свет, зажгли свечи. Катя так и не поняла, сколько же здесь народу. Мелькали знакомые и незнакомые лица. Под лирическую композицию Фредди Меркьюри медленно качались пары. Катя обнаружила, что танцует с Глебом в огромных валенках, в шелковом вечернем платье. Его губы щекотно шептали ей на ухо что-то смешное и ласковое, его руки, такие знакомые, теплые, прикасались к ней бережно, держали надежно, согревали и заставляли забыть обо всем плохом, холодном, грязном. Ничего страшного не произошло. Ничего страшного…
Пары стали постепенно разбредаться по огромному трехэтажному дому. На калашниковской даче было газовое отопление, дом прогревался весь целиком, всем хватило места, чтобы уединиться. Какая-то очередная девочка ушла плакать по Глебу на заснеженное крыльцо, но кто-то одинокий и великодушный бросился ее согревать, утирать горькие слезы.
Катя и Глеб заметили, что стоят одни, уже не в гостиной, а в маленькой спальне родителей Глеба, давно нет никакой музыки, они стоят, обнявшись, прижавшись друг к другу, и за окном падает медленный, крупный снег. Они не успели опомниться, как уже целовались, и ловкие пальцы Глеба вытаскивали шпильки из Катиных волос, расстегивали «молнию» шелкового платья, и мягкие губы жарко скользили по длинной Катиной шее, по тонким ключицам.
Платье упало на пол, в другой конец комнаты полетели джинсы, свитер и все прочее. Высокие валенки народного артиста Константина Калашникова застыли, как солдаты на посту, у старой потертой тахты.
Когда Катя открыла глаза, за окном был солнечный морозный день. Кто-то из гостей уже уехал, кто-то отправился гулять. В доме стояла тишина. Катя хотела встать, умыться, сварить кофе, но Глеб притянул ее к себе, и все повторилось, уже без лихорадочной ночной спешки, без страха и сомнений.
– Какие мы с тобой были глупые, – прошептал Глеб, – хорошо, что не успели состариться…
…Сейчас, восемь лет спустя, сидя в зыбком рассветном свете в чистой холодной кухне, Катя поймала себя на том, что ту первую их ночь, тот Новый год, она помнит отчетливей, чем все последующие годы сложной семейной жизни. И пусть все грязное, ужасное, что было потом между ними, исчезнет, забудется.
Катя встала, накинула поверх халата огромную вязаную шаль. Глеба больше нет и не будет никогда. Вот его любимая чашка, он привез ее из Англии, с Беккер-стрит, пил чай только из нее. В прихожей, в зеркальном шкафу, висят его вещи. Жанночка недавно убрала все летнее на антресоли, достала плащи, куртки, осенние ботинки… А подушка в спальне хранит его запах, и короткие жесткие волоски остались в сетке электробритвы. Господи, сколько всяких теплых мелочей, сколько обыденной ерунды остается после человека, и все это согревает, заставляет больно сжиматься сердце – если, конечно, человека любили, если простили ему плохое и помнят только хорошее.
Катя вдруг подумала, что прощать и любить мертвого куда легче, чем живого.
Глава 3
Ляля Рыкова тихонько выскользнула из-под одеяла, поеживаясь от утреннего холода, прошлепала босиком в ванную. Мало того, что этот Князек-браток храпит, он еще и окна распахивает на всю ночь. Свежий воздух ему подавай для здорового сна. А уже сентябрь, и к утру комната так выстужается, что у бедной Лялечки зубы стучат.
Князь Нодарик причмокивал во сне и издавал жалобные, хриплые рулады. Княжеский громкий храп был слышен даже в ванной, перекрывал звук бьющей из крана горячей воды. Ляля брезгливо поморщилась, заперла дверь на задвижку, потянулась перед огромным, от пола до потолка зеркалом, которое стало уже слегка запотевать от пара. Сквозь тонкую дымку Ляля выглядела еще красивей, еще соблазнительней.
Возбуждает не откровенность, не голая правда, а загадка, нежный флер. Настоящий стриптиз отличается от порнухи именно загадкой и флером. Но кому это объяснишь? Грубым жадным мужикам, которые пускают слюни, глядя на вкусное Лялечкино тело? Да что они понимают? Им за их деньги надо все, прямо сейчас, в полном объеме. Что им тонкая, изысканная красота древней, как мир, эротической игры? Двигай бедрами, тряси бюстом, голову запрокидывай, изображая грубый кайф, – и порядок, все довольны, готовы платить, карманы готовы вывернуть.
Ляля залезла в горячую ванну с пеной и тяжело вздохнула. Жизнь устроена несправедливо. Кругом столько пошлости! Ну почему она, Лялечка, с ее красотой, с ее тонкой возвышенной душой, каждый вечер должна раздеваться перед грубыми братками? Чем она хуже всяких там мисс, супермоделей и кинозвезд? Да ничем. И ноги у нее длинней, и талия тоньше, и форма груди совершенней. А уж о лице и говорить нечего. Все эти супермодели, если приглядеться внимательней, рядом с Лялечкой просто кикиморы болотные, крокодилицы. Однако сейчас время пошлости, никто не ценит настоящую красоту.
Она любила представлять себя на балу, в платье от Диора, и чтобы вокруг миллиардеры, дипломаты, президенты, голливудские актеры и прочие знаменитости. Лялечка идет мимо с хрустальным бокалом на тонкой ножке в одной руке, с длинной сигаретой – в другой. Корпус чуть изогнут, плечи отведены назад, подбородок вверх, нога вперед от бедра, на нежной шее – старинное бриллиантовое колье в платиновой оправе. Она ни на кого не смотрит, думает о своем, о возвышенном, а все вокруг бледнеют и падают, сраженные любовью.
Или вот хорошо бы белую яхту с цветными огоньками, с черными молчаливыми лакеями в ливреях. Яхта причаливает к острову, на острове – вилла. Нет, почему вилла? Замок – старинный, родовой, с каминами и портретной галереей мрачных царственных предков.
Ох, все это было бы Лялечке так к лицу, и замок, и яхта, и бал со знаменитостями. Всякие звезды, фотомодели – просто наглые самозванки. Они пользуются незаслуженно тем, что по праву должно принадлежать ей, скромной стриптизерке Лялечке Рыковой, самой красивой женщине в мире.
Нет, не для того родилась Ляля на свет, такая совершенная, изысканная, нежная, чтобы раздеваться каждую ночь перед поддатыми мужиками. Однако ничего другого она не умеет. А стриптиз танцует отлично. И платят ей неплохо, и мальчики из охраны зорко следят, чтобы руками Лялю просто так, бесплатно и несанкционированно, никто не трогал.
Однако мечты мечтами, а жить на что-то надо. Нельзя витать в облаках. Ночной клуб, конечно, не самое лучшее место, но и не худшее. Если хозяин и подкладывает ее иногда под нужных людей, так тоже ведь не бесплатно. И не как простую подстилку, а обязательно с каким-нибудь хитрым заданием. Ляле это нравится. Она чувствует себя не только красивой, но и умной.
С Князем Нодариком ей пришлось повозиться. Он готов был с самого начала жизнь за нее отдать, демонстрировал восточный княжеский размах, в ногах валялся, песни пел старинные грузинские под гитару, но деньги при этом считал очень аккуратно.
Калашников сразу предупредил: одной любовью Князя за жабры не удержишь. Крючок должен быть надежный, денежный. И Ляля справилась, раскрутила Нодарика на «блэк джек», хотя он поначалу от зеленого сукна шарахался как от чумы. Рассказывал, что прадедушка, грузинский князь, офицер, проиграл казенные деньги и застрелился. А в предсмертной записке завещал всем своим благородным потомкам не прикасаться к картам. Кто прикоснется, тот сразу будет проклят.
Ляля выключила воду и услышала, что Князь проснулся. Он уже не храпел, разговаривал с кем-то. Сначала Ляля решила, что по телефону. Слов она разобрать не могла, но интонация и голос Нодарика ей не понравились. Что-то случилось. Князь говорил быстро, возбужденно, с сильным акцентом. Она давно заметила: грузинский акцент у него появлялся в минуты волнения и страха. Потом раздался тихий грохот и короткий сдавленный стон. Лялю как током шарахнуло. Нодарик был не один в квартире.
– Нэ-эт! – вопил он. – Нычэго нэ знаю! В натурэ, мужикы, ничэго!
В спальне происходила крутая разборка. Совсем крутая. Ляля поняла это не только по грохоту, стону и ужасу, который дрожал в осипшем голосе Князя, но и по вкрадчивым, совсем тихим голосам незваных гостей. Кто они? Сколько их? Чего хотят? Лялю от них отделяла всего лишь тонкая дверь ванной комнаты, пока что запертая на задвижку, но в любую минуту ее вышибут ногой. Может, это люди Лунька? Однако с чего бы Лунек прислал своих быков к Ляле домой ранним утром? Князь и так прочно сидит на крючке… А если это Голубь? Он ведь запросто мог узнать, что его человека подсадили на крючок с Лялиной помощью.
Ляля нервно вбивала кончиками пальцев нежный крем в распаренную кожу. Пальцы дрожали. Если это люди Голубя, тогда плохо. Хуже некуда. И что теперь делать?
Она едва успела закутаться в белый махровый халат, туго затянуть поясок, а по двери уже кто-то шарахнул ногой. Задвижка отлетела. Ляля вздохнула с облегчением. На пороге ванной стоял Митяй, один из боевиков Валеры Лунька.
– Привет, – сказала Ляля, – что за базар в моей квартире? И зачем дверь ломать? Постучать нельзя?
Митяй ничего не ответил. Ляля, надменно вскинув подбородок, прошла в спальню. Голый Нодарик валялся на полу. В кресле сидел сам Лунек. Его жесткие, холодные, прищуренные глаза смотрели прямо на Лялю. Тонкие губы были неприятно поджаты.
– Здравствуй, Валерочка. – Ляля попыталась улыбнуться. – Что случилось?
– Где этот козел был ночью? – тихо спросил Лунек, продолжая сверлить Лялю колючими прищуренными глазами.
Глаза у него были какого-то неопределенного цвета, то ли серые, то ли желтые.
– Как где? У меня. – Ляля уселась в кресло напротив Лунька. – Слушай, ты, может, объяснишь, в чем дело?
– Ты точно знаешь, что он всю ночь был с тобой?
Нодар что-то невнятное простонал с пола. Ляля не поняла, когда они успели его так отделать. Спасибо, крови нет, ковер в спальне дорогой, светлый, потом никакими чистящими средствами пятна не выведешь. Но Митяй поработал аккуратно, бил по внутренним органам. Один-два удара, никаких следов, даже синяков не видно, а человек уже лежит скрюченный, готовый на все.
– Ну, я, конечно, не стерегла его, – пожала плечами Ляля, – я спала.
– Крепко?
– Будто не знаешь, что я сплю как сурок? – усмехнулась Ляля и сверкнула на Лунька своими синими ясными глазами.
Полгода назад у них с Луньком была короткая любовь. Из всех девочек в клубе Валера выбрал ее одну, и не просто для забавы, а потому, что понравилась она ему всерьез. Больше ни на кого не глядел. Он вообще отличался от прочей блатной братии благородством и строгостью. А главное, было в нем нечто мужское, рыцарское. Его, например, волновало, нравится он Ляле как мужик или она так, по долгу службы… Он сказал ей прямым текстом: если ты против, так я не настаиваю и не обижусь. Ляля знала: это не пустые слова, и была Валере Луньку искренне признательна. Даже и не притворялась с ним, не играла в любовь, а почти любила. Еще немного, и осталась бы с ним надолго, бросила свой клуб, была бы ему верна, ему одному… Он, правда, так и не предложил. Но она была готова…
– Хозяина твоего сегодня ночью замочили, – сообщил Лунек и закурил.
Ляля не выносила табачного дыма по утрам, на голодный желудок.
– Как? – спросила она хрипло, поперхнувшись кашлем. – Кто?
– Значит, спала, говоришь… А вот если бы он, козел-лаврушник, смылся из-под твоего одеяла куда-нибудь на пару часов, ты бы заметила?
– Валер, ты думаешь, он? – испуганно прошептала Ляля и покосилась на скорченного, постанывающего Князька. – Да брось, – она покачала головой, – зачем ему?
Валера не счел нужным отвечать, только усмехнулся.