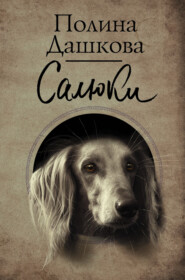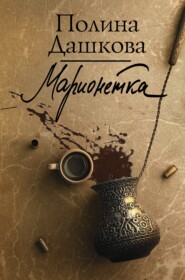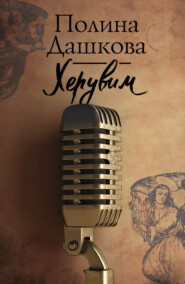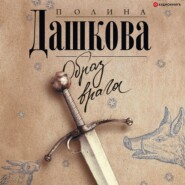По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Небо над бездной
Серия
Год написания книги
2009
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет. Я думаю, вы этого не сделаете.
– Спасибо на добром слове. Чтобы ты окончательно успокоился и мог соображать, я тебе гарантирую: Таню твою никто не тронет, во всяком случае, пока ты не вернешься из Германии.
– Откуда? – Федору показалось, что он ослышался.
– Ты отправляешься в субботу. Надеюсь, немецкий не забыл? Паспорт твой уже готов, все формальности улажены. Теперь замри и слушай меня очень внимательно.
* * *
Москва, 2007
Федор Федорович открыл глаза, увидел высокий белый потолок, матовый шар люстры. Темно-синяя штора покачивалась от легкого ветра. В открытую форточку влетали обычные утренние звуки. Гул машин, скрип качелей на детской площадке, голоса, смех, воробьиный щебет. Пахло мокрым снегом, бензином, лимоном и ванилью. Осторожно повернув голову, он увидел на прикроватной тумбочке банку крема, градусник, раскрытую, перевернутую обложкой вверх, книгу. Названия прочитать не удалось, на глянец обложки падали блики. Дальше, за тумбочкой, параллельно кровати, стояла раскладушка, застеленная пледом. Сверху валялся алый шелковый халат.
Что-то произошло. Впервые он проснулся не от боли, а просто так, потому что наступило утро. Ломота, жар, озноб, омерзительная влажность и грубость белья, все это осталось, но уже не мешало воспринимать реальность. Вернулись краски, звуки, запахи. Он не понимал, рад ли этому.
«Из чистилища назад, в жизнь. Сколько раз повторяется все тот же мучительный маршрут? Почему я не могу уйти совсем? Что держит меня?» – думал он, разглядывая свою сморщенную костлявую руку.
Кожа потрескалась, слегка лоснилась, пахла лимоном и ванилью. Кто-то постоянно смазывал все его тело кремом. Кормил его с ложки жидкой кашей и фруктовым пюре. Выносил из-под него судно. Менял белье. Измерял температуру. Аккуратно подстригал слоящиеся ногти. Гладил по голове. Иногда он слышал ласковый шепот, или музыку где-то в глубине квартиры, или приглушенные голоса, мужской и женский.
Сквозь запахи чистого белья, крема, овсянки, мятых печеных яблок иногда проступал слабый аромат меда и лаванды. Так пахли волосы и кожа Тани.
Он не знал, сколько прошло времени, и не хотел знать. Рука медленно опустилась, скользнула с края кровати вниз. Шевельнулись пальцы, по старой привычке пытаясь зарыться в жиденькую мягкую шерсть, почесать за ухом, проверить, не сух ли собачий нос, почувствовать волну радости, быстрое виляние хвоста, мокрые теплые касания языка, тактичное тихое тявканье. Но рука встретила пустоту.
«Адам, где ты? Животные лишены бессмертной души, но столько любви не может совсем исчезнуть, стать пустотой. Закон сохранения энергии. Я слишком долго живу, чтобы сомневаться в универсальности этого закона. Где ты, Адам? Придет время, узнаю. Или нет. Не так. Узнаю, когда время уйдет, разомкнет свои свинцовые объятья, отпустит меня на свободу. Почему не сейчас? Долги, старые долги не заплачены».
Федор Федорович удивился, что опять думает словами, а не первобытными образами. Дни и ночи, проведенные в постели, были наполнены призраками, мутными вихрями чувств, всеми оттенками физического мучения. Боль, острая и тупая. Ломота, зуд, жар, дрожь. Он был бессловесной тварью, стонал и мычал. Теперь опять стал человеком.
К набору звуков прибавился скрип кровати. Федор Федорович заметил, что одеяло движется, и тихо вскрикнул. Оказывается, он чесал левой пяткой правую голень. Десять лет ноги его были парализованы и вот теперь вдруг ожили.
В дверном проеме возник женский силуэт. Таня в потертых джинсах, в сером свитере с высоким воротом, с короткими, как тогда, после тифа, волосами, неслышно подошла, поправила одеяло, приложила ладонь ко лбу. Аромат меда и лаванды окутал его теплой волной.
– Ну, слава богу, жара нет, – она присела на край кровати, – доброе утро, Федор Федорович. Кажется, оно действительное доброе. Ночью вы дали мне поспать. Сейчас у вас нормальная температура, и вы открыли глаза. Узнаете меня?
Они были поразительно похожи, даже природный запах тот же. В горле у него заклокотало, словно перекатывались два слова, два имени спорили между собой.
– Соня, – произнес он сипло, едва шевеля губами.
– Спасибо, – она улыбнулась и слегка пожала ему руку, – наконец вы вернулись. Все эти дни вы путали меня с моей прабабушкой, называли Таней.
– Я разве говорил?
– Да, вы говорили, много и выразительно, только не со мной. В основном с Таней. Вы умоляли ее никогда больше не встречаться с некой Элизабет. Потом сказали, что пора уезжать из Германии, скоро они возьмут власть. Вероятно, вы имели в виду нацистов?
– Да, вероятно. Что еще ты запомнила?
– Вы кричали: Валька, беги! Кто такая Валька?
– Валентин Редькин, психиатр, талантливый гипнотизер.
– Он убежал?
– Нет. Он остался и погиб. Потом расскажу тебе о нем. Ну, продолжай.
– Вы несколько раз упоминали князя Нижерадзе, так, кажется.
– Я сказал Нижерадзе?
– По-моему, да. Было еще одно кавказское имя, я, кажется, где-то уже слышала его. Гурджиев. Кто это?
– Георгий Иванович Гурджиев. Конечно, ты о нем слышала. Мистик. Однокашник Сталина по тифлисской Духовной семинарии. Глава секты. Ты не догадалась записать на диктофон?
– Нет. А нужно было?
– Не знаю. Кто-нибудь, кроме тебя, слышал мой бред? Кто вообще тут, в квартире?
– Дима Савельев, он мне помогает. Часто заходят Зубов и Кольт, но вы говорили только глубокой ночью, кроме меня, никто не слышал. Ой! Погодите, Федор Федорович, ноги! Они двигаются, ваши ноги, неужели вы не чувствуете?
– Еще бы не чувствовать. Зуд нестерпимый, чешусь о самого себя, как свинья о ствол. Скажи, сколько прошло дней с тех пор, как ты ввела мне препарат?
– Две недели. Федор Федорович, вы скоро сможете ходить сами, вы это понимаете? – Соня откинула одеяло, стала щупать его ступни, голени. – У вас нет паралича! Мышцы почти атрофированы, но вы начнете делать упражнения. Я еще вчера заметила, как вы согнули коленку, но думала, мне кажется! Дима! Иди сюда, смотри!
Она выскочила из спальни. Она была так возбуждена, что разговаривать с ней о чем-то важном сейчас не имело смысла. Явился Савельев, заставил Федора Федоровича шевелить пальцами. Это было трудно, к зуду прибавилось ощущение тысячи мелких иголок, впивающихся в ступни.
– Нужно вызвать какого-нибудь хорошего врача, – сказала Соня, – о препарате мы, разумеется, говорить не станем. Просто человек умирал, но вдруг передумал, начал выздоравливать. Такое ведь бывает? Врач может посоветовать массаж, специальные упражнения, витамины.
– Не сходи с ума, ни один врач нам не поверит, – сказал Савельев.
– Не нам! Собственным глазам!
– Ого, Соня, ты даже в рифму заговорила, никогда тебя такой не видел. Федор Федорович, посмотрите, какая она красивая, – Савельев обнял Соню и поцеловал.
Они смеялись, резвились, как два щенка, и были настолько заняты друг другом, что Федору Федоровичу показалось, они вовсе забыли о нем.
– Не понимаю, что вас обоих так развеселило, – обиженно проворчал старик, – если я немножко подвигал ногами, это не значит, что я сейчас встану, приму душ, потом приготовлю завтрак, себе и вам заодно.
– Надеюсь, очень скоро будет именно так, – сказал Савельев.
– Мечтаю съесть приготовленный вами завтрак, – добавила Соня.
– Мечтай, мечтай, – Агапкин, кряхтя и постанывая, принялся ставить на место свои челюсти.
Руки дрожали, но помочь себе он не дал, локтем оттолкнул Савельева, сердито стрельнул глазами на Соню.
Через сорок минут, чистый, сытый, в новой сине-красной клетчатой пижаме, старик сидел в кресле и слушал подробный рассказ Сони о том, как оказался у нее препарат.
– ДДФН, – повторил он несколько раз, когда она закончила, – биохимический эквивалент эмоций. Сегодня это называется нейропептиды. Доказательство для Фомы неверующего. Только ведь он все равно не поверит, этот Фома. Никогда не поверит.
– Апостол Фома поверил, – заметила Соня, – я нашла тут у вас Новый Завет, перечитала Евангелие от Иоанна.
– Спасибо на добром слове. Чтобы ты окончательно успокоился и мог соображать, я тебе гарантирую: Таню твою никто не тронет, во всяком случае, пока ты не вернешься из Германии.
– Откуда? – Федору показалось, что он ослышался.
– Ты отправляешься в субботу. Надеюсь, немецкий не забыл? Паспорт твой уже готов, все формальности улажены. Теперь замри и слушай меня очень внимательно.
* * *
Москва, 2007
Федор Федорович открыл глаза, увидел высокий белый потолок, матовый шар люстры. Темно-синяя штора покачивалась от легкого ветра. В открытую форточку влетали обычные утренние звуки. Гул машин, скрип качелей на детской площадке, голоса, смех, воробьиный щебет. Пахло мокрым снегом, бензином, лимоном и ванилью. Осторожно повернув голову, он увидел на прикроватной тумбочке банку крема, градусник, раскрытую, перевернутую обложкой вверх, книгу. Названия прочитать не удалось, на глянец обложки падали блики. Дальше, за тумбочкой, параллельно кровати, стояла раскладушка, застеленная пледом. Сверху валялся алый шелковый халат.
Что-то произошло. Впервые он проснулся не от боли, а просто так, потому что наступило утро. Ломота, жар, озноб, омерзительная влажность и грубость белья, все это осталось, но уже не мешало воспринимать реальность. Вернулись краски, звуки, запахи. Он не понимал, рад ли этому.
«Из чистилища назад, в жизнь. Сколько раз повторяется все тот же мучительный маршрут? Почему я не могу уйти совсем? Что держит меня?» – думал он, разглядывая свою сморщенную костлявую руку.
Кожа потрескалась, слегка лоснилась, пахла лимоном и ванилью. Кто-то постоянно смазывал все его тело кремом. Кормил его с ложки жидкой кашей и фруктовым пюре. Выносил из-под него судно. Менял белье. Измерял температуру. Аккуратно подстригал слоящиеся ногти. Гладил по голове. Иногда он слышал ласковый шепот, или музыку где-то в глубине квартиры, или приглушенные голоса, мужской и женский.
Сквозь запахи чистого белья, крема, овсянки, мятых печеных яблок иногда проступал слабый аромат меда и лаванды. Так пахли волосы и кожа Тани.
Он не знал, сколько прошло времени, и не хотел знать. Рука медленно опустилась, скользнула с края кровати вниз. Шевельнулись пальцы, по старой привычке пытаясь зарыться в жиденькую мягкую шерсть, почесать за ухом, проверить, не сух ли собачий нос, почувствовать волну радости, быстрое виляние хвоста, мокрые теплые касания языка, тактичное тихое тявканье. Но рука встретила пустоту.
«Адам, где ты? Животные лишены бессмертной души, но столько любви не может совсем исчезнуть, стать пустотой. Закон сохранения энергии. Я слишком долго живу, чтобы сомневаться в универсальности этого закона. Где ты, Адам? Придет время, узнаю. Или нет. Не так. Узнаю, когда время уйдет, разомкнет свои свинцовые объятья, отпустит меня на свободу. Почему не сейчас? Долги, старые долги не заплачены».
Федор Федорович удивился, что опять думает словами, а не первобытными образами. Дни и ночи, проведенные в постели, были наполнены призраками, мутными вихрями чувств, всеми оттенками физического мучения. Боль, острая и тупая. Ломота, зуд, жар, дрожь. Он был бессловесной тварью, стонал и мычал. Теперь опять стал человеком.
К набору звуков прибавился скрип кровати. Федор Федорович заметил, что одеяло движется, и тихо вскрикнул. Оказывается, он чесал левой пяткой правую голень. Десять лет ноги его были парализованы и вот теперь вдруг ожили.
В дверном проеме возник женский силуэт. Таня в потертых джинсах, в сером свитере с высоким воротом, с короткими, как тогда, после тифа, волосами, неслышно подошла, поправила одеяло, приложила ладонь ко лбу. Аромат меда и лаванды окутал его теплой волной.
– Ну, слава богу, жара нет, – она присела на край кровати, – доброе утро, Федор Федорович. Кажется, оно действительное доброе. Ночью вы дали мне поспать. Сейчас у вас нормальная температура, и вы открыли глаза. Узнаете меня?
Они были поразительно похожи, даже природный запах тот же. В горле у него заклокотало, словно перекатывались два слова, два имени спорили между собой.
– Соня, – произнес он сипло, едва шевеля губами.
– Спасибо, – она улыбнулась и слегка пожала ему руку, – наконец вы вернулись. Все эти дни вы путали меня с моей прабабушкой, называли Таней.
– Я разве говорил?
– Да, вы говорили, много и выразительно, только не со мной. В основном с Таней. Вы умоляли ее никогда больше не встречаться с некой Элизабет. Потом сказали, что пора уезжать из Германии, скоро они возьмут власть. Вероятно, вы имели в виду нацистов?
– Да, вероятно. Что еще ты запомнила?
– Вы кричали: Валька, беги! Кто такая Валька?
– Валентин Редькин, психиатр, талантливый гипнотизер.
– Он убежал?
– Нет. Он остался и погиб. Потом расскажу тебе о нем. Ну, продолжай.
– Вы несколько раз упоминали князя Нижерадзе, так, кажется.
– Я сказал Нижерадзе?
– По-моему, да. Было еще одно кавказское имя, я, кажется, где-то уже слышала его. Гурджиев. Кто это?
– Георгий Иванович Гурджиев. Конечно, ты о нем слышала. Мистик. Однокашник Сталина по тифлисской Духовной семинарии. Глава секты. Ты не догадалась записать на диктофон?
– Нет. А нужно было?
– Не знаю. Кто-нибудь, кроме тебя, слышал мой бред? Кто вообще тут, в квартире?
– Дима Савельев, он мне помогает. Часто заходят Зубов и Кольт, но вы говорили только глубокой ночью, кроме меня, никто не слышал. Ой! Погодите, Федор Федорович, ноги! Они двигаются, ваши ноги, неужели вы не чувствуете?
– Еще бы не чувствовать. Зуд нестерпимый, чешусь о самого себя, как свинья о ствол. Скажи, сколько прошло дней с тех пор, как ты ввела мне препарат?
– Две недели. Федор Федорович, вы скоро сможете ходить сами, вы это понимаете? – Соня откинула одеяло, стала щупать его ступни, голени. – У вас нет паралича! Мышцы почти атрофированы, но вы начнете делать упражнения. Я еще вчера заметила, как вы согнули коленку, но думала, мне кажется! Дима! Иди сюда, смотри!
Она выскочила из спальни. Она была так возбуждена, что разговаривать с ней о чем-то важном сейчас не имело смысла. Явился Савельев, заставил Федора Федоровича шевелить пальцами. Это было трудно, к зуду прибавилось ощущение тысячи мелких иголок, впивающихся в ступни.
– Нужно вызвать какого-нибудь хорошего врача, – сказала Соня, – о препарате мы, разумеется, говорить не станем. Просто человек умирал, но вдруг передумал, начал выздоравливать. Такое ведь бывает? Врач может посоветовать массаж, специальные упражнения, витамины.
– Не сходи с ума, ни один врач нам не поверит, – сказал Савельев.
– Не нам! Собственным глазам!
– Ого, Соня, ты даже в рифму заговорила, никогда тебя такой не видел. Федор Федорович, посмотрите, какая она красивая, – Савельев обнял Соню и поцеловал.
Они смеялись, резвились, как два щенка, и были настолько заняты друг другом, что Федору Федоровичу показалось, они вовсе забыли о нем.
– Не понимаю, что вас обоих так развеселило, – обиженно проворчал старик, – если я немножко подвигал ногами, это не значит, что я сейчас встану, приму душ, потом приготовлю завтрак, себе и вам заодно.
– Надеюсь, очень скоро будет именно так, – сказал Савельев.
– Мечтаю съесть приготовленный вами завтрак, – добавила Соня.
– Мечтай, мечтай, – Агапкин, кряхтя и постанывая, принялся ставить на место свои челюсти.
Руки дрожали, но помочь себе он не дал, локтем оттолкнул Савельева, сердито стрельнул глазами на Соню.
Через сорок минут, чистый, сытый, в новой сине-красной клетчатой пижаме, старик сидел в кресле и слушал подробный рассказ Сони о том, как оказался у нее препарат.
– ДДФН, – повторил он несколько раз, когда она закончила, – биохимический эквивалент эмоций. Сегодня это называется нейропептиды. Доказательство для Фомы неверующего. Только ведь он все равно не поверит, этот Фома. Никогда не поверит.
– Апостол Фома поверил, – заметила Соня, – я нашла тут у вас Новый Завет, перечитала Евангелие от Иоанна.