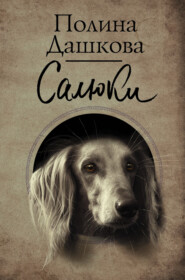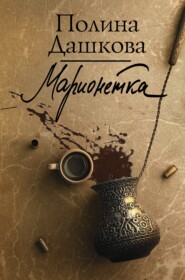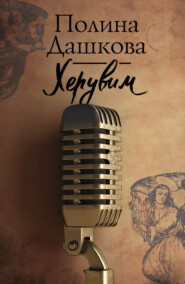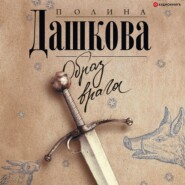По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легкие шаги безумия
Серия
Год написания книги
1997
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, – Ольга отрицательно замотала головой, – нет, не могу я ничего есть. И пить не могу. Окошко приоткрой, покурим, пока Лизавета спит. Как было на самом деле, никто не видел, – Ольга нервно передернула плечами и глубоко затянулась, – все известно только с ее слов, а она ничего не помнит. Так вот, она сама вытащила Митю из петли…
– Подожди, – перебила Лена, – но ведь у Мити рост сто девяносто, и весит он порядочно, не худенький. А Катя, насколько я помню, девочка-дюймовочка, она его в два раза легче и ниже на три головы.
– Да, она говорит, это было очень трудно. Но она не могла оставить его так, надеялась, вдруг еще жив… Нет, ты не думай, я сейчас нормально соображаю. Я понимаю, в жизни бывает всякое, но вот так, ни с того ни с сего, даже записки никакой… А главное, Митя всегда считал, что самоубийство – страшный грех, искренне считал. Это, конечно, для милиции не довод, но Митюша крещеный, православный, к исповеди ходил, причащался. Редко, правда, но все-таки… А теперь я даже заочно отпеть его не могу, самоубийц не отпевают. Любой грех можно замолить – только не этот.
У Ольги были темные круги под глазами, рука с потухшей сигаретой мелко дрожала.
– Он забегал ко мне около месяца назад, – тихо сказала Лена, – у него было столько планов, рассказывал, что написал пять новых песен, вышел на какого-то известного продюсера, теперь, мол, у него пойдет один клип за другим… Я не очень хорошо помню, о чем мы говорили, но у меня осталось ощущение, что все у Мити отлично. Он был немного возбужден, но радостно возбужден. Может, рухнули какие-нибудь его надежды, связанные с этим продюсером?
– Эти надежды рождались и рушились у него по десять раз в месяц, – грустно усмехнулась Ольга, – он привык, относился к этому вполне спокойно. И всякие продюсеры, мелкие и крупные, без конца мелькали в его жизни. Нет, если уж говорить о том, что его действительно волновало, так это собственное творчество, не в смысле популярности и денег, а в смысле пишется – не пишется. В последний месяц ему писалось как никогда, и это для него было главным.
– То есть ты не исключаешь, что Митя не сам?.. – осторожно спросила Лена.
– Милиция уверяет, что сам. – Ольга закурила еще одну сигарету.
– Ты вообще ела сегодня что-нибудь? Ты куришь, как паровоз, на голодный желудок. Хочешь, я кофе сварю?
– Свари, – равнодушно кивнула Ольга, – и, если можно, я приму душ у тебя. Я ведь даже не умывалась сегодня и в морге успела побывать… Ты прости, что я с этим кошмаром к тебе заявилась, но дома сейчас очень тяжко, мне надо немного опомниться, а потом уж родителей и бабушку приводить в чувство.
– Оставь эти расшаркивания для своих японцев. Пойдем, я дам тебе чистое полотенце.
– Лен, я не верю, что он сам, – тихо сказала Ольга, стоя на пороге ванной комнаты, – очень уж все это странно. Телефон у них весь день не работал. Я выяснила на станции – с линией там все в порядке. Что-то случилось с аппаратом, сосед сегодня утром починил за минуту. А «Скорую» и милицию жена от соседей вызывала в пять утра. Эти соседи мне и позвонили. Я приехала, а Митю уже увезли. Видишь ли, его жена этой ночью находилась в состоянии… в общем, наркотиками накачалась. Мне сказали, Митя тоже. Сказали, чистый суицид на почве наркотического психоза. Ампулы и шприцы нашли в квартире, и на руке у него следы уколов… Так что милиция особо и не старалась, мол, наркоман был ваш братец, уважаемая Ольга Михайловна. И жена у него наркоманка. Все же ясно!
– Митя не был наркоманом, – медленно произнесла Лена, – он даже не пил. И Катя…
– Она кололась уже полтора года. А Митя – нет. Никогда.
– Ты видела его в морге?
– Нет. Я не смогла, испугалась, что не выдержу, хлопнусь в обморок, чего доброго. Он был уже в холодильнике. Там очередь на вскрытие, сказали, трупов очень много. Если я напишу заявление в прокуратуру, он так и будет там лежать – ждать своей очереди.
– И что ты решила?
– Не знаю. Но, если он там будет лежать, в холодильнике, у мамы с папой и у бабушки по инфаркту на брата случится. А от заявления, как мне успели объяснить, толку будет мало. Дадут это дело какой-нибудь девочке, которая московскую прописку отрабатывает в райпрокуратуре, у них ведь следователей не хватает. А она и копать ничего не станет, ясно ведь, суицид. Сейчас столько нераскрытых убийств висит годами, а тут – какой-то наркоман…
Ольга безнадежно махнула рукой и закрыла дверь ванной.
Пока она принимала душ и приводила себя в порядок, Лена стояла у окна с гудящей электрической кофемолкой в руках и думала о Мите Синицыне. О чем они говорили тогда? Он ведь просидел здесь часа два. Рассказывал, что написал пять новых песен, кажется, даже кассету оставил. Надо будет найти, послушать. Лена так и не удосужилась до сих пор…
Да, появился на его горизонте какой-то очередной суперпродюсер… Но фамилии Митя не назвал, сказал: «Жутко известный, ты не поверишь! И вообще, я боюсь сглазить!»
Потом он пообедал с аппетитом и о чем-то еще они долго говорили. Кажется, просто вспоминали что-то из юности, из студенческих лет.
Сам Митя закончил Институт культуры, учился на режиссера народных театров. Странная специальность, особенно в наше время. Впрочем, он никогда по специальности не работал, писал свои песни, пел их в узком кругу, в конце восьмидесятых даже какие-то концерты у него проходили по клубам, и вечно велись переговоры о пластинке, потом о компакт-диске, о клипе на телевидении.
Никогда эти переговоры ничем не кончались, но Митя не унывал. Он верил, что песни у него талантливые, просто не «попсовые». Но ведь спрос есть не только на «попсу». Митя не собирался лезть в звезды, но хотел пробиться к своему слушателю, причем не через концерты в подземных переходах, а более респектабельным и достойным путем – через радио, телевидение. Но для этого надо было не только хорошо сочинять и исполнять песни, но еще и обрастать нужными знакомствами, связями, общаться с продюсерами, предлагать себя как выгодный товар. А этого Митя делать не умел.
Работал он в последнее время преподавателем игры на гитаре в детской театральной студии. Деньги были крошечные, зато дети его любили. Это было важно для Мити – своих детей они с Катей завести не могли. Но очень хотели.
Если предположить, что Митю все-таки убили таким изощренным способом, то сразу возникает вопрос: кому это понадобилось? Кому мог помешать человек, обучавший детей игре на классической гитаре и писавший песни?..
Надо обязательно найти и послушать кассету, только не сейчас, не при Ольге. Ей это может быть больно, она и так держится из последних сил, она очень любила своего младшего брата.
За окном сыпал мокрый снег. Глядя во двор, Лена машинально отметила, что Ольга не совсем удачно припарковала свой маленький серый «фольксваген» – трудно будет выезжать, завязнет в сугробе. И также машинально взгляд ее скользнул по темно-синему «вольво», стоявшему в нескольких метрах от Ольгиной машины и уже слегка припорошенному снегом…
* * *
– Вот видишь, – тихо сказала женщина, сидевшая за рулем «вольво», своему спутнику, – я не сомневалась, они продолжают общаться, и довольно тесно. Настолько тесно, что после случившегося она помчалась не куда-нибудь, а сюда.
– Мне страшно, – прошелестел мужчина пересохшими губами.
– Ничего, – женщина ласково погладила его по щеке короткими холеными пальцами, – ты у меня молодец. Ты успокоишься и поймешь, что это – последний рывок, последнее усилие. А потом – все. Я знаю, как тебе сейчас страшно. Страх идет из самой глубины, поднимается от живота к груди. Но ты не дашь ему подняться выше, ты не пустишь его в голову, в подсознание. У тебя много раз получалось останавливать этот густой, горячий, невыносимый страх. Ты очень сильный сейчас и станешь еще сильней, когда мы сделаем это усилие – тяжелое, необходимое, но последнее. Я с тобой, и мы справимся.
Короткие крепкие пальцы медленно и нежно скользили по гладко выбритой щеке. Длинные ногти были покрыты матово-алым лаком. На фоне очень бледной щеки этот цвет казался неприятно ярким. Продолжая говорить тихие, баюкающие слова, женщина думала о том, что надо не забыть сегодня вечером стереть этот лак и покрыть ногти чем-то более приглушенным и изысканным.
Мужчина закрыл глаза, ноздри его медленно и ритмично раздувались. Он дышал глубоко и спокойно. Когда женщина почувствовала, что мышцы его лица совсем расслабились, она завела мотор, и темно-синий «вольво» не спеша покинул магистраль и затерялся в толпе разноцветных машин, несущихся под медленным мокрым снегом.
* * *
В университете, на журфаке, Ольга Синицына была лучшей подругой Лены Полянской, с первого по пятый курс. Потом на какое-то время они потеряли друг друга и встретились только через восемь лет после окончания университета, совершенно случайно, в самолете.
Лена летела в Нью-Йорк. Колумбийский университет пригласил ее прочитать курс лекций о современной русской литературе и журналистике. В отсеке для курящих к ней подсела элегантная, холеная бизнес-леди в строгом дорогом костюме.
Шел всего лишь 1990 год, такие деловые дамы в России были еще редкостью. Мельком взглянув на нее, Лена удивилась, почему богатая американка летит «Аэрофлотом», а не «Панамой» или «Дельтой». Но тут дама грустно покачала ярко-белокурой головой и произнесла по-русски:
– Ну ты даешь, Полянская! Я все жду, узнаешь или нет.
– Господи, Ольга! Олюша Синицына! – обрадовалась Лена.
Казалось невероятным, что преуспевающая деловая дама вылупилась из эфемерного, возвышенного создания в джинсах и свитере; из типичной интеллигентной московской девочки конца семидесятых, которая могла ночь напролет вести жаркие кухонные споры о судьбе и жертвенной миссии России, о превратностях экзистенциального сознания, могла выстаивать многочасовые очереди, но не в ГУМе за сапогами, а в подвальный выставочный зал на Малой Грузинской или за билетами в консерваторию на концерт Рихтера.
Ольга Синицына, известная на весь факультет журналистики своей рассеянностью, непрактичностью, бестолковыми роковыми романами, и эта холодноватая надменная дама, сверкающая американской вежливой улыбкой, уверенная в себе и в своем благополучии, казались существами с разных планет.
– Получилось так, – рассказала Ольга, – что я осталась одна с двумя мальчишками-погодками. Я ведь вышла замуж за Гиви Киладзе. Помнишь его?
Гиви Киладзе учился с ними на журфаке и был беззаветно влюблен в Ольгу с первого по пятый курс. Московский грузин во втором поколении, он вспоминал родной язык только тогда, когда хотел кого-нибудь зарезать. А зарезать он хотел, как правило, либо Ольгу, либо того, кто смел подойти к ней ближе, чем на три метра.
– Понимаешь, страсть-то кончилась быстро. Начался тухлый, полуголодный быт. Гиви не мог устроиться на работу, стал пить, притаскивал в дом толпы каких-то бродяг, после которых исчезали полотенца и чайные ложки. Всех надо было кормить, укладывать спать. У него душа широкая, а я – с пузом, с токсикозом… Когда Глебушка родился, он выписал свою двоюродную бабушку с гор, как бы помогать мне с ребенком. За бабушкой из горного села приехал дедушка, потом дядя, тетя. В конце концов я взяла Глеба и сбежала к родителям. Тут начался театр, вернее, драмкружок: «Себя убью, тебя убью!..» В общем, помирились. Я тогда твердо верила, что ребенку нужен отец, пусть даже сумасшедший, но родной.
Глеб у меня черноволосый, черноглазый, а младший, Гошенька, родился белокурый, глазки голубые… Этот идиот чего-то там подсчитал и стал вопить, мол, Гоша – не его сын. Знаешь, чем я занялась, чтобы не свихнуться? Стала учить японский язык! Вот и представь картинку: кормящая мамаша с младенцем у груди громко читает иероглифы, папаша бегает с выпученными глазами, с фамильным кинжалом, кричит: «Зарежу!» – а Глеб двух с половиной лет сидит на горшке и говорит по-грузински: «Папа, не убивай маму, она хорошая!» – это его бабушки-дедушки с гор успели научить немного.
А в доме между тем ни копейки. Жили на то, что давали родители, много они дать не могли, от себя последнее отрывали. Да еще посылки приходили с гор, домашнее вино, инжир, орехи. В общем, я опять ушла к родителям, взяла детей – и ушла. Окончательно. Так Гиви заявился среди ночи, пьяный в дым. Хорошо, у нас тогда Митя ночевал, успел вмешаться. А то убил бы, глазом не моргнул. Ревновал ведь, придурок, даже к родному брату.
– Ты бы хоть позвонила, – вздохнула Лена, – что же ты исчезла совсем?
– А ты? – Ольга усмехнулась. – Ты чего исчезла?
– Да так как-то, – пожала плечами Лена, – у меня свой скелет в шкафу… А ты японский все-таки выучила?
– Подожди, – перебила Лена, – но ведь у Мити рост сто девяносто, и весит он порядочно, не худенький. А Катя, насколько я помню, девочка-дюймовочка, она его в два раза легче и ниже на три головы.
– Да, она говорит, это было очень трудно. Но она не могла оставить его так, надеялась, вдруг еще жив… Нет, ты не думай, я сейчас нормально соображаю. Я понимаю, в жизни бывает всякое, но вот так, ни с того ни с сего, даже записки никакой… А главное, Митя всегда считал, что самоубийство – страшный грех, искренне считал. Это, конечно, для милиции не довод, но Митюша крещеный, православный, к исповеди ходил, причащался. Редко, правда, но все-таки… А теперь я даже заочно отпеть его не могу, самоубийц не отпевают. Любой грех можно замолить – только не этот.
У Ольги были темные круги под глазами, рука с потухшей сигаретой мелко дрожала.
– Он забегал ко мне около месяца назад, – тихо сказала Лена, – у него было столько планов, рассказывал, что написал пять новых песен, вышел на какого-то известного продюсера, теперь, мол, у него пойдет один клип за другим… Я не очень хорошо помню, о чем мы говорили, но у меня осталось ощущение, что все у Мити отлично. Он был немного возбужден, но радостно возбужден. Может, рухнули какие-нибудь его надежды, связанные с этим продюсером?
– Эти надежды рождались и рушились у него по десять раз в месяц, – грустно усмехнулась Ольга, – он привык, относился к этому вполне спокойно. И всякие продюсеры, мелкие и крупные, без конца мелькали в его жизни. Нет, если уж говорить о том, что его действительно волновало, так это собственное творчество, не в смысле популярности и денег, а в смысле пишется – не пишется. В последний месяц ему писалось как никогда, и это для него было главным.
– То есть ты не исключаешь, что Митя не сам?.. – осторожно спросила Лена.
– Милиция уверяет, что сам. – Ольга закурила еще одну сигарету.
– Ты вообще ела сегодня что-нибудь? Ты куришь, как паровоз, на голодный желудок. Хочешь, я кофе сварю?
– Свари, – равнодушно кивнула Ольга, – и, если можно, я приму душ у тебя. Я ведь даже не умывалась сегодня и в морге успела побывать… Ты прости, что я с этим кошмаром к тебе заявилась, но дома сейчас очень тяжко, мне надо немного опомниться, а потом уж родителей и бабушку приводить в чувство.
– Оставь эти расшаркивания для своих японцев. Пойдем, я дам тебе чистое полотенце.
– Лен, я не верю, что он сам, – тихо сказала Ольга, стоя на пороге ванной комнаты, – очень уж все это странно. Телефон у них весь день не работал. Я выяснила на станции – с линией там все в порядке. Что-то случилось с аппаратом, сосед сегодня утром починил за минуту. А «Скорую» и милицию жена от соседей вызывала в пять утра. Эти соседи мне и позвонили. Я приехала, а Митю уже увезли. Видишь ли, его жена этой ночью находилась в состоянии… в общем, наркотиками накачалась. Мне сказали, Митя тоже. Сказали, чистый суицид на почве наркотического психоза. Ампулы и шприцы нашли в квартире, и на руке у него следы уколов… Так что милиция особо и не старалась, мол, наркоман был ваш братец, уважаемая Ольга Михайловна. И жена у него наркоманка. Все же ясно!
– Митя не был наркоманом, – медленно произнесла Лена, – он даже не пил. И Катя…
– Она кололась уже полтора года. А Митя – нет. Никогда.
– Ты видела его в морге?
– Нет. Я не смогла, испугалась, что не выдержу, хлопнусь в обморок, чего доброго. Он был уже в холодильнике. Там очередь на вскрытие, сказали, трупов очень много. Если я напишу заявление в прокуратуру, он так и будет там лежать – ждать своей очереди.
– И что ты решила?
– Не знаю. Но, если он там будет лежать, в холодильнике, у мамы с папой и у бабушки по инфаркту на брата случится. А от заявления, как мне успели объяснить, толку будет мало. Дадут это дело какой-нибудь девочке, которая московскую прописку отрабатывает в райпрокуратуре, у них ведь следователей не хватает. А она и копать ничего не станет, ясно ведь, суицид. Сейчас столько нераскрытых убийств висит годами, а тут – какой-то наркоман…
Ольга безнадежно махнула рукой и закрыла дверь ванной.
Пока она принимала душ и приводила себя в порядок, Лена стояла у окна с гудящей электрической кофемолкой в руках и думала о Мите Синицыне. О чем они говорили тогда? Он ведь просидел здесь часа два. Рассказывал, что написал пять новых песен, кажется, даже кассету оставил. Надо будет найти, послушать. Лена так и не удосужилась до сих пор…
Да, появился на его горизонте какой-то очередной суперпродюсер… Но фамилии Митя не назвал, сказал: «Жутко известный, ты не поверишь! И вообще, я боюсь сглазить!»
Потом он пообедал с аппетитом и о чем-то еще они долго говорили. Кажется, просто вспоминали что-то из юности, из студенческих лет.
Сам Митя закончил Институт культуры, учился на режиссера народных театров. Странная специальность, особенно в наше время. Впрочем, он никогда по специальности не работал, писал свои песни, пел их в узком кругу, в конце восьмидесятых даже какие-то концерты у него проходили по клубам, и вечно велись переговоры о пластинке, потом о компакт-диске, о клипе на телевидении.
Никогда эти переговоры ничем не кончались, но Митя не унывал. Он верил, что песни у него талантливые, просто не «попсовые». Но ведь спрос есть не только на «попсу». Митя не собирался лезть в звезды, но хотел пробиться к своему слушателю, причем не через концерты в подземных переходах, а более респектабельным и достойным путем – через радио, телевидение. Но для этого надо было не только хорошо сочинять и исполнять песни, но еще и обрастать нужными знакомствами, связями, общаться с продюсерами, предлагать себя как выгодный товар. А этого Митя делать не умел.
Работал он в последнее время преподавателем игры на гитаре в детской театральной студии. Деньги были крошечные, зато дети его любили. Это было важно для Мити – своих детей они с Катей завести не могли. Но очень хотели.
Если предположить, что Митю все-таки убили таким изощренным способом, то сразу возникает вопрос: кому это понадобилось? Кому мог помешать человек, обучавший детей игре на классической гитаре и писавший песни?..
Надо обязательно найти и послушать кассету, только не сейчас, не при Ольге. Ей это может быть больно, она и так держится из последних сил, она очень любила своего младшего брата.
За окном сыпал мокрый снег. Глядя во двор, Лена машинально отметила, что Ольга не совсем удачно припарковала свой маленький серый «фольксваген» – трудно будет выезжать, завязнет в сугробе. И также машинально взгляд ее скользнул по темно-синему «вольво», стоявшему в нескольких метрах от Ольгиной машины и уже слегка припорошенному снегом…
* * *
– Вот видишь, – тихо сказала женщина, сидевшая за рулем «вольво», своему спутнику, – я не сомневалась, они продолжают общаться, и довольно тесно. Настолько тесно, что после случившегося она помчалась не куда-нибудь, а сюда.
– Мне страшно, – прошелестел мужчина пересохшими губами.
– Ничего, – женщина ласково погладила его по щеке короткими холеными пальцами, – ты у меня молодец. Ты успокоишься и поймешь, что это – последний рывок, последнее усилие. А потом – все. Я знаю, как тебе сейчас страшно. Страх идет из самой глубины, поднимается от живота к груди. Но ты не дашь ему подняться выше, ты не пустишь его в голову, в подсознание. У тебя много раз получалось останавливать этот густой, горячий, невыносимый страх. Ты очень сильный сейчас и станешь еще сильней, когда мы сделаем это усилие – тяжелое, необходимое, но последнее. Я с тобой, и мы справимся.
Короткие крепкие пальцы медленно и нежно скользили по гладко выбритой щеке. Длинные ногти были покрыты матово-алым лаком. На фоне очень бледной щеки этот цвет казался неприятно ярким. Продолжая говорить тихие, баюкающие слова, женщина думала о том, что надо не забыть сегодня вечером стереть этот лак и покрыть ногти чем-то более приглушенным и изысканным.
Мужчина закрыл глаза, ноздри его медленно и ритмично раздувались. Он дышал глубоко и спокойно. Когда женщина почувствовала, что мышцы его лица совсем расслабились, она завела мотор, и темно-синий «вольво» не спеша покинул магистраль и затерялся в толпе разноцветных машин, несущихся под медленным мокрым снегом.
* * *
В университете, на журфаке, Ольга Синицына была лучшей подругой Лены Полянской, с первого по пятый курс. Потом на какое-то время они потеряли друг друга и встретились только через восемь лет после окончания университета, совершенно случайно, в самолете.
Лена летела в Нью-Йорк. Колумбийский университет пригласил ее прочитать курс лекций о современной русской литературе и журналистике. В отсеке для курящих к ней подсела элегантная, холеная бизнес-леди в строгом дорогом костюме.
Шел всего лишь 1990 год, такие деловые дамы в России были еще редкостью. Мельком взглянув на нее, Лена удивилась, почему богатая американка летит «Аэрофлотом», а не «Панамой» или «Дельтой». Но тут дама грустно покачала ярко-белокурой головой и произнесла по-русски:
– Ну ты даешь, Полянская! Я все жду, узнаешь или нет.
– Господи, Ольга! Олюша Синицына! – обрадовалась Лена.
Казалось невероятным, что преуспевающая деловая дама вылупилась из эфемерного, возвышенного создания в джинсах и свитере; из типичной интеллигентной московской девочки конца семидесятых, которая могла ночь напролет вести жаркие кухонные споры о судьбе и жертвенной миссии России, о превратностях экзистенциального сознания, могла выстаивать многочасовые очереди, но не в ГУМе за сапогами, а в подвальный выставочный зал на Малой Грузинской или за билетами в консерваторию на концерт Рихтера.
Ольга Синицына, известная на весь факультет журналистики своей рассеянностью, непрактичностью, бестолковыми роковыми романами, и эта холодноватая надменная дама, сверкающая американской вежливой улыбкой, уверенная в себе и в своем благополучии, казались существами с разных планет.
– Получилось так, – рассказала Ольга, – что я осталась одна с двумя мальчишками-погодками. Я ведь вышла замуж за Гиви Киладзе. Помнишь его?
Гиви Киладзе учился с ними на журфаке и был беззаветно влюблен в Ольгу с первого по пятый курс. Московский грузин во втором поколении, он вспоминал родной язык только тогда, когда хотел кого-нибудь зарезать. А зарезать он хотел, как правило, либо Ольгу, либо того, кто смел подойти к ней ближе, чем на три метра.
– Понимаешь, страсть-то кончилась быстро. Начался тухлый, полуголодный быт. Гиви не мог устроиться на работу, стал пить, притаскивал в дом толпы каких-то бродяг, после которых исчезали полотенца и чайные ложки. Всех надо было кормить, укладывать спать. У него душа широкая, а я – с пузом, с токсикозом… Когда Глебушка родился, он выписал свою двоюродную бабушку с гор, как бы помогать мне с ребенком. За бабушкой из горного села приехал дедушка, потом дядя, тетя. В конце концов я взяла Глеба и сбежала к родителям. Тут начался театр, вернее, драмкружок: «Себя убью, тебя убью!..» В общем, помирились. Я тогда твердо верила, что ребенку нужен отец, пусть даже сумасшедший, но родной.
Глеб у меня черноволосый, черноглазый, а младший, Гошенька, родился белокурый, глазки голубые… Этот идиот чего-то там подсчитал и стал вопить, мол, Гоша – не его сын. Знаешь, чем я занялась, чтобы не свихнуться? Стала учить японский язык! Вот и представь картинку: кормящая мамаша с младенцем у груди громко читает иероглифы, папаша бегает с выпученными глазами, с фамильным кинжалом, кричит: «Зарежу!» – а Глеб двух с половиной лет сидит на горшке и говорит по-грузински: «Папа, не убивай маму, она хорошая!» – это его бабушки-дедушки с гор успели научить немного.
А в доме между тем ни копейки. Жили на то, что давали родители, много они дать не могли, от себя последнее отрывали. Да еще посылки приходили с гор, домашнее вино, инжир, орехи. В общем, я опять ушла к родителям, взяла детей – и ушла. Окончательно. Так Гиви заявился среди ночи, пьяный в дым. Хорошо, у нас тогда Митя ночевал, успел вмешаться. А то убил бы, глазом не моргнул. Ревновал ведь, придурок, даже к родному брату.
– Ты бы хоть позвонила, – вздохнула Лена, – что же ты исчезла совсем?
– А ты? – Ольга усмехнулась. – Ты чего исчезла?
– Да так как-то, – пожала плечами Лена, – у меня свой скелет в шкафу… А ты японский все-таки выучила?