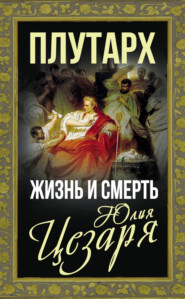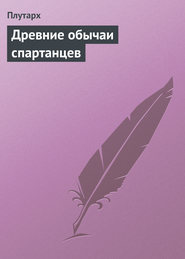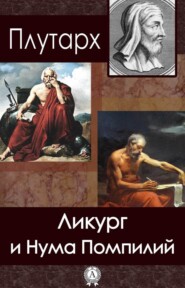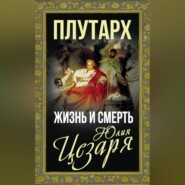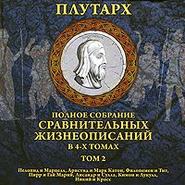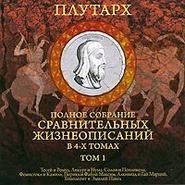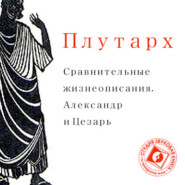По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сравнительные жизнеописания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дай ночи глас, совет, дай ночи ты победу!*
Фемистокл после этого предался сну. Ему привиделось, что змей обвивался вокруг его утробы и приполз к его шее, потом, коснувшись лица его, превратился в орла, который поднял и унес в дальнее место; вдруг явился золотой жезл, на который поставил его безопасно, и он освободился от великого страха и смятения, которым был объят. Вскоре Никоген отправил его от себя, употребив следующую хитрость. Все варварские народы, особенно же персы, весьма свирепы и злы в ревности своей к женщинам; не только жен своих, но рабынь и наложниц содержат они строго, чтобы никто из посторонних не видал их. Они живут в домах взаперти, а в дороге возят их на колесницах под закрытыми отовсюду завесами. Никоген сделал такую колесницу для Фемистокла, в которую он и сел; провожавшие его говорили тем, кто попадался им навстречу и спрашивали, кто в колеснице, что они везут из Ионии молодую гречанку к одному из вельмож царских дверей*.
Фукидид и Харон из Лампсака* повествуют, что в то время умер Ксеркс и Фемистокл представился сыну его Артаксерксу*. Но Эфор, Динон, Клитарх, Гераклид и многие другие уверяют, что Фемистокл прибыл к самому Ксерксу. Кажется, что Фукидид более всех согласен с летосчислением, хотя и оно не составлено с точностью.
Фемистокл наконец в самый решительный момент явился сперва к Артабану*, тысяченачальнику, сказал ему, что он грек и хочет говорить с царем о весьма важных делах, о которых сам царь наиболее заботится. «Чужестранец! – сказал ему Артабан. – Законы и обычаи народов различны, что прекрасно у одних, то у других таковым не признается. Прилично лишь всем хранить и чтить отечественные обычаи. Вы, как говорят, более всего уважаете вольность и равенство; напротив того, у нас среди множества прекрасных постановлений самое лучшее то, которое нам повелевает чтить царя и поклоняться в нем образу бога, все сохраняющего. Если ты согласно с нашими обыкновениями хочешь пасть пред царем, то позволено тебе будет видеть его и говорить с ним. Если же мыслишь иначе, то должно будет тебе отнестись к нему через других. Царь не может слушать того, который не падет пред ним». Фемистокл, услышав это, сказал: «Артабан! Я для того сюда прибыл, чтобы умножить славу и силу великого царя. Не только сам я буду повиноваться вашим законам, поскольку такова есть воля бога, вознесшего царство персидское; но через меня более, чем теперь, народов будут покланяться царю. Итак, да не будет это мне препятствием говорить с ним». – «Но кто ты и как тебя назвать? – спросил Артабан. – По-видимому, ты человек необыкновенный». – «Никто прежде царя самого этого не узнает», – отвечал ему Фемистокл.
Так повествует Фаний. Но Эратосфен в книге «О богатстве» добавляет, что Фемистоклу, чтобы быть представленным Артабану, помогла женщина родом из Эретрии, с которой тысяченачальник жил.
Фемистокл был введен к царю, поклонился ему по персидскому обычаю и стоял в молчании. Царь повелел переводчику спросить его, кто он таков. На этот вопрос он отвечал: «Государь! Я прибыл к тебе – Фемистокл, афинянин, изгнанник, греками преследуемый. Я причинил много зла персам, но еще более добра, удержав греков от преследования тогда, когда Греция была уже безопасна и спасенное отечество позволяло оказать и вам некоторую услугу. Прилично все теперешнему моему несчастью, и я здесь готов принять твои благодеяния, если великодушно со мною примиришься или укротишь гнев твой, если еще он продолжается. Но ты прими самих врагов моих во свидетели того, какие персам оказал я услуги, и воспользуйся бедствиями моими более к изъявлению твоей добродетели, нежели к удовлетворению гнева твоего. Спасая меня, спасешь человека, прибегавшего под защиту твою; губя, ты погубишь неприятеля греков». После этих слов Фемистокл, дабы более убедить царя свидетельством свыше, рассказал сон, виденный им у Никогена и оракула Зевса Додонского, который повелел ему искать защиты у соименного ему бога, что подало ему мысль отправиться к царю, ибо тот и другой могущественны и оба называются царями. Царь на это не отвечал ни слова, хотя удивился духу его и великой смелости. Он поздравил себя перед своими приближенными с этим событием, как бы с великим для себя счастьем, и просил Аримана* всегда внушать неприятелям мысль изгонять от себя лучших мужей. Потом приносил он жертвы богам, сделал пиршество и ночью во сне трижды воскликнул в радости: «Афинянин Фемистокл в моих руках!»
На другой день, созвав приближенных своих, велел представить Фемистокла, который ничего доброго не ожидал, приметя, что придворные, едва узнали его имя, оказывали к нему неблагорасположение и поносили его. Сверх того, когда шел мимо тысяченачальника Роксана, то тот в присутствии сидящего государя и других вельмож, безмолвно пребывающих, вздохнув тихо, сказал: «Греческий змий разноцветный! Гений-хранитель царя тебя сюда привел!» Фемистокл был представлен царю и снова поклонился; царь принял его милостиво, приветствовал и сказал, что уже должен ему двести талантов, ибо за то, что он сам себя привел, по справедливости надлежит ему получить вознаграждение, обещанное тому, кто привел бы его. Он обещал ему еще более, ободрил его и велел ему говорить свободно то, что он думал о греческих делах. Фемистокл отвечал ему, что слово человеческое подобно коврам разноцветным, которые открываясь и развиваясь, показывают виды, на них изображенные, а будучи свернуты, сокрывают и портят их. По этой причине просил он срока.
Царю понравилось это уподобление и позволил ему назначить срок: Фемистокл просил сроку на год. В это время, научившись довольно персидскому языку, говорил сам с царем. Удаленные от двора думали, что они говорят о греческих делах. Но так как при дворе и среди царских приближенных в то время произошли важные перемены, то вельможи завидовали ему, подозревая, что он осмелился и о них откровенно говорить с государем. Почести, оказываемые ему царем, нимало не были сходны с теми, какими пользовались другие иностранцы.
Он участвовал в царской охоте и в домашних забавах царя до того, что введен был к его матери и имел к ней свободный доступ; также, по повелению царя, был он наставлен в учении магов*.
Демарат, бывший царем спартанским, получил позволение от царя требовать себе какой-либо милости; он просил проехать на коне через город Сарды, с кидаром на голове, подобно царям*. Митропавст, двоюродный брат Демарата, сказал ему: «Этот кидар не имеет мозга, который бы он покрыл; и ты не будешь Зевсом, хотя бы держал молнию в руках своих». Царь настолько вознегодовал на просьбу Демарата, что казался неукротимым; однако Фемистокл просил царя о нем и исходатайствовал ему прощение. Известно, что при последовавших царях, под которыми дела персов более смешивались с греческими, когда они имели нужду в каком-нибудь из греков, писали к нему и обещали, что он будет при них больше и важнее Фемистокла. Сам он, будучи уже знаменит и многими почитаем, некогда за столом, великолепно приготовленным, сказал детям своим: «Дети! Мы бы погибли, если б не погибли».
Многие писатели уверяют, что ему даны были три города – Магнесия, Лампсак и Миунт на хлеб, на вино и на рыбу*. Неанф из Кизика и Фаний прибавляют города Перкоту и Палескепсис – на одеяние и постель.
Фемистокл отправился в приморские области по делам, касающимся Греции. Один перс, по имени Эпексий, сатрап Верхней Фригии, злоумышляя на его жизнь, задолго до этого подговорил нескольких писидийцев для его умерщвления, когда тому надлежало остановиться на ночь в городе Леонтокефале (то есть «Львиная голова»). Фемистокл отдыхал в полдень, когда Мать богов* явилась ему во сне, и сказала: «Фемистокл! Избегай головы львиной, чтобы не попасться льву. За это требую от тебя в служительницы Мнесиптолему». Фемистокл, устрашенный этим явлением, помолился богине, оставил большую дорогу и продолжал путь другой, минул означенное место и остановился в открытом поле при наступлении уже ночи. Случилось, что один из вьючных скотов, везших шатер, упал в реку; служители Фемистокла раскрыли смокшие завесы и сушили их. Писидийцы, вооруженные мечами, устремившись сюда, не могли точно распознать при свете луны, что такое сушили; они почли то шатром Фемистокла и думали, что его найдут внутри спящим. Когда они приближились и поднимали завесы, служители, которые оные стерегли, напали на них и переловили. Таким образом, Фемистокл избег опасности и, удивясь явлению богини, соорудил в Магнесии храм Диндимены* и сделал в нем жрицей дочь свою Мнесиптолему.
По прибытии своем в Сарды, будучи без занятия, осматривал он великолепные храмы и множество даров, богам посвященных. Он увидел в храме Матери богов медный кумир девы, называемую «водоносною», в два локтя вышиной. Когда он был в Афинах надзирателем над водами, открывши тех, кто отнимал общественную воду, отвращая ее течение, соорудил кумир этот на деньги, собранные с наложенной на них пени. Почуствовав ли сострадание, видя этот кумир в плену или желая показать афинянам, сколь велика была его сила при царе и в каком уважении у него находился, он просил лидийского сатрапа отослать оный в Афины. Варвар на это негодовал и грозил Фемистоклу отписать о том царю. Фемистокл, устрашенный его словами, прибег к женам сатрапа и, одарив их деньгами, укротил гнев его. С тех пор вел себя с большей осторожностью, боясь уже и зависти варваров. Он не разъезжал по Азии, как Феопомп уверяет, но пребывал в Магнесии, пользуясь великими подарками и уважаемый наравне с знаменитейшими персами. Долго жил он в покое. Царь не обращал внимания на Грецию, будучи занят делами в Верхней Азии. Но когда Египет возмутился при помощи афинян, греческие корабли плавали до Кипра и Киликии, и Кимон, обладая морями, заставил его противодействавать грекам и препятствовать увеличению их могущества к вреду его; когда уже и силы царские были в движении и полководцы отправлялись, то к Фемистоклу посылаемы были в Магнесию от царя приказания – приступить к делу против греков и исполнить данные обещания. Но он не пылал гневом против сограждан своих; такие великие почести и власть также не влекли его к войне. Может быть также, что дело это почитал он невозможным, потому что Греция имела тогда великих полководцев и Кимон славился блистательными успехами. Более же всего, уважая славу собственных своих подвигов и прежних трофеев, принял благоразумное намерение украсить жизнь свою приличным концом. Он принес жертвы богам, собрал своих друзей, обнял их и – как большая часть писателей уверяет – выпив воловью кровь, а по мнению некоторых – приняв скородействующий яд*, окончил жизнь свою в Магнесии, прожив шестьдесят пять лет, большую часть которых провел в управлении республики и в военачальстве. Царь, узнав о причине и способе его смерти, как говорят, еще более ему удивился и продолжал поступать милостиво с друзьями его и родственниками.
Фемистокл оставил по себе от Архиппы, дочери Лисандра, Архептолиса, Полиевкта и Клеофанта, о котором Платон-философ упоминает как о хорошем всаднике, но без всяких других достоинств. Из старших его детей Неокл умер еще в отрочестве от укуса лошади; Диокла же усыновил дед его Лисандр. Он имел многих дочерей. Мнесиптолема, рожденная от второй жены, вышла замуж за Архептолиса, неродного своего брата; на Италии женился хиосец Панфид, на Сибарис – афинянин Никомед; Никомаха братьями была выдана за племянника Фемистокла Фрасикла, который поехал в Магнесию по смерти отца ее; он же воспитал младшую из всех детей его – Асию.
Магнесияне сохраняют и поныне на площади великолепную его гробницу. Касательно праха его не должно верить Андокиду*, который в сочинении своем «К друзьям» говорит, что афиняне похитили и рассыпали его; это ложь, которою хочет возбудить против народа приверженных к малоначалию. Филарх*, употребляя в истории, как в трагедии, необычайные явления, выводит на позор неких Неокла и Демополиса, сыновей Фемистокла, желая тем возбудить ужас и сострадание. Однако и самый неученый человек может понять, что то выдумка*. Диодор Землеописатель в сочинении своем «О памятниках» говорит, скорее догадываясь, нежели зная наверняка, что близ Пирейской пристани, со стороны мыса Алкима, выдается в море острый конец наподобие локтя; если обогнуть его с внутренней стороны, то в месте, где море бывает спокойно, есть пространная площадка и на ней наподобие жертвенника стоит Фемистоклова гробница. Он думает, что и комический стихотворец Платон подтверждает его мнение, когда говорит:
В прекрасном месте там твой гроб стоит спокойно;
Отвсюду странники приветствуют тебя;
В моря ль пловцы текут иль к пристани стремятся,
Ты узришь их – и твой возвеселится дух,
Сраженье кораблей коль пред тобой предстанет.
Потомкам Фемистокла и до наших времен оказываются в Магнесии некоторые почести, которыми пользовался афинянин Фемистокл, с которым мы свели знакомство и дружбу у философа Аммония*.
Камилл
О Фурии Камилле говорят много достойного примечания; но наиболее странно и необычно то, что этот человек, многократно командовавший войсками и одержавший важнейшие победы, пять раз избиравшийся диктатором, удостаивавшийся торжественных почестей черыре раза, человек, называемый «вторым созидателем Рима», ни разу не был консулом. Причина этого – тогдашнее состояние республики*. Народ в раздоре с сенатом отвергал избрание консулов и избирал военных трибунов для управления республикой*. Хотя в их руках находилась высшая власть и они обладали консульской силой, однако могущество их казалось не столь тягостным – по причине числа их. Ненавидящие малоначалие утешались тем, что шесть человек – вместо двух – управляли делами. В это-то время Камилл процветал славою и подвигами; он не захотел быть консулом против воли народа, хотя в продолжение этого времени много раз происходили избрания консульские. Во всех различных и многочисленных должностях, которые он исправлял, вел себя так, что, когда начальствовал один, власть его была общая; когда же главенство принадлежало нескольким лицам, вся слава принадлежала ему одному. Причиной первого – скромность его, не возбуждавшая зависти; причиной другого – великие его способности, которыми, по общему признанию, он всех превышал.
В то время дом Фуриев не был еще весьма знаменит*. Камилл* сам себя первый прославил в большом сражении против эквов и вольсков, ратоборствуя под начальством диктатора Постумия Туберта. Ехав верхом впереди всего войска, он был ранен в бедро; однако не оставил битвы; вытащил дротик из раны, вступил в бой с самыми храбрыми из неприятелей и обратил их в бегство. За этот подвиг сверх других почестей получил он цензорство – достоинство, бывшее в те времена в великом почтении*. Говорят, что в звании цензора произвел он два дела; одно похвальное – убедив холостых словами и грозя им наложением пени, вступить в брак со вдовицами, которых в то время было много по причине частых браней. Другое, по необходимости им произведенное, есть то, что он наложил подать на сирот, которые до того не платили никакой. Причиной тому – частые походы, которые требовали больших издержек. Осада города Вейи принуждала к тому римлян.
Этот город был красою Этрурии; множеством оружий и числом ратоборцев не уступал самому Риму. Гордясь богатством, негою, роскошью и великолепием, жители его совершили многие блистательные подвиги, оспоривали у римлян славу и владычество. Но в тогдашнее время униженные важными поражениями, они оставили честолюбие. Воздвигнув высокие и твердые стены, снабдив оружием, стрелами, хлебом и всякими потребностями город свой, бесстрашно выдерживали осаду, слишком долговременную и равно для самих осаждающих трудную и тягостную. Римляне тогда имели обычай недолго и в летнее только время воевать вне своей области, а зиму провождать в своих домах. В первый тогда раз принуждены были военными трибунами построить укрепления, обнести валом стан свой и в неприятельской земле проводить зиму и лето*. Меж тем война продолжалась почти семь лет. Римляне обвиняли в том предводителей* и лишили их начальства, ибо казалось, что осаду они производили недеятельно. К продолжению войны назначены были другие; в числе их был и Камилл, вторично избранный в военные трибуны. При осаде города в то время он не произвел ничего, ибо по жребию досталось ему идти войною на Фалерии и Капену*. Между тем как римляне были заняты осадой, эти народы грабили их области и беспокоили их во все продолжение войны с этрусками. Камилл победил их и принудил после великой потери запереться в стенах своих.
В самом жару войны случилось на Альбанском озере явление, своей странностью не уступающее самым невероятным чудесам и устрашившее всех по незнанию обыкновенных причин, оное объясняющих. Уже наступала осень после лета, в которое не приметили ни великих дождей, ни сильных полуденных ветров. Хотя Италия обилует озерами, реками и источниками, но тогда в одних совсем не было воды, другие едва устояли от действия засухи. Все реки, как обыкновенно бывает летом, были низки и мелки. Альбанское озеро, которое в себе самом имеет свое начало и конец свой и окружено плодоносными горами, без всякой причины, разве по содействию свыше, заметно возвысилось, начало подниматься к подошвам гор и достигло мало-помалу вершины их без сильного колебания и волнения. Этому явлению сперва удивлялись окрестные пастухи. Но когда ограда, подобно перешейку препятствовавшая озеру разливаться и затоплять низкие места, прорвалась от множества и силы воды, которая великим потоком устремилась по обработанным полям к морю, то не одни римляне приведены были этим в изумление – всем жителям Италии казалось это предзнаменованием важных событий. Много говорили об этом случае в стане, осаждавшем Вейи, так что и осажденные о том узнали.
Как бывает в осаде долговременной, в которой случаются сношения и свидания между обеими сторонами, так и здесь некоторый римлянин свел короткое знакомство с одним из осажденных, человеком сведующим в древних прорицаниях, который казался искуснее других в науке гадания*. Римлянин, заметив, что вейет был весьма доволен, услышав о разлитии озера, и смеялся над осадой, сказал ему: «Не одно это чудо произошло в нынешнее время; римлянам явились знамения страшнее его; хочу о них поговорить с тобою, дабы в общем бедствии, если можно, лучше устроить дела свои». Вейет охотно согласился слушать его и вступил в разговор в надежде узнать что-либо тайное. Римлянин, продолжая с ним разговаривать, завел его мало-помалу как можно было дальше от ворот. Потом, будучи сильнее, схватывает и с помощью многих, прибежавших из стана, уносит его и передает полководцам. Очутившись в такой крайности и ведая, конечно, что определения рока неизбежны, объявил тайные предсказания об участи своего отечества, будто не может быть взято, пока разлившиеся и новыми дорогами стремящиеся воды Альбанского озера не будут обращены назад неприятелем и разлиты так, чтобы они не могли соединиться с морем. Сенат, известившись о том и находясь в недоумении, почел нужным отправить в Дельфы посланников и вопросить тамошнего бога. Посланы были Косс Лициний, Валерий Потит и Фабий Амбуст, мужи знаменитые и славные. Пользуясь благоприятным плаванием и получив ответ от бога, возвратились они с разными прорицаниями, которые напоминали римлянам некоторые пренебреженные ими обряды при совершении так называемых Латинских празднеств* и повелевали отвращать, сколько можно, альбанские воды от моря, обратить их к прежнему вместилищу, а если то невозможно, рвами и каналами разлить их по полям так, чтобы они исчезли. Вследствие этого жрецы занялись приношением нужных жертв, а народ приступил к работе, дабы отклонить стремящиеся к морю воды.
В десятый год осады Вей сенат уничтожил все другие начальства и избрал диктатором Камилла, который назначил предводителем конницы Корнелия Сципиона. Во-первых, он сделал богам обет: если окончит войну со славой, совершить великие игры и соорудить храм богине, которую римляне называют Матерью Матутой*. По обрядам, в честь совершаемым, можно бы заключить, что она есть тоже, что и Левкофея, ибо в храм вводят служительницу, которую бьют по щекам и потом выгоняют; вместо своих детей носят на руках детей своих сестер. В жертвоприношениях совершают нечто подобное тому, что случилось с кормилицами Диониса и что претерпела Ино от наложницы своего мужа*.
По принесении обетов Камилл вступил в землю фалисков, победил в большем сражении их и жителей Капены, пришедших к ним на помощь. Потом, обратившись к осаде Вей и видя, что приступом взять город было трудно и опасно, начал делать подкопы. Окрестные места весьма были способны к рытью и к произведению работы в глубину, дабы сокрыть ее от неприятелей. Дело это шло с желаемым успехом; Камилл напал на город, вызывая на стены неприятелей; между тем другие подземным ходом дошли тайно до замка к храму Геры, самому большему в городе и весьма почитаемому жителями. Говорят, что по случаю в то самое время предводитель тирренский приносил богам жертвы; прорицатель, рассмотрев внутренность закланных животных, громко воскликнул, что бог дарует победу тому, кто довершит это жертвоприношение. Римляне, бывшие в подземном ходе, услышали слова эти, поспешно разломали пол, вырвались с громким криком при звуке оружий. Присутствовавшие, будучи приведены в ужас, разбежались; римляне похитили внутренность жертвы и принесли ее к Камиллу. Но, может быть, это более походит на басни, нежели на историю.
По взятии города силой, между тем как воины расхищали и увозили бесчисленное его богатство, Камилл, смотря с замка на происходившее, прослезился; и когда присутствовавшие превозносили настоящее его благополучие, то он, подняв руки к небу, молился богам, произнося следующие слова: «Великий Юпитер и вы, боги, свидетели добрых и злых деяний! Вы ведаете, что мы, римляне, не против законов, но, защищаясь, по необходимости наказываем этот город злобных и вероломных людей. Но если и мы взаимно должны претерпеть несчастье за это наше благополучие, то молю вас, пусть за город и за войско римлян на меня одного обратится оно с наименьшею тяжестью!» Сказав это*, Камилл по обычаю римлян, которые после молитвы и поклонения обращаются направо, хотел обратиться и упал. Бывшие близ него приведены были в смущение. Камилл встал и сказал им, что моление его услышано, ибо с ним случилось малое несчастье после великого благополучия*.
По расхищении города Камилл хотел перевести в Рим кумир Геры по своему обету. Работники были уже собраны; он приносил жертвы и просил богиню не отвергнуть усердия римлян, но быть благосклонной собеседницей богам, которые в удел получили Рим. Говорят, что кумир издал тогда тихий голос и сказал, что хочет этого и соглашается. Но Ливий пишет, что Камилл молился, держась за кумир и просил богиню; и что некоторые из присутствовавших отвечали, что богиня хочет, соглашается и охотно последует за ними*. Те, кто утверждает это чудо и старается защищать его, имеют на своей стороне счастье Рима, которому невозможно было от малого и презрительного начала достигнуть такой славы и силы без помощи некоторого бога, содействовавшего ему многими и великими явлениями во всех случаях. Они приводят многие другие подобные этому доказательства, как-то: пот, выступавший много раз из кумиров; стенания, которые нередко были слышимы; отвращение и мигание глазами, о которых многие из древних свидетьствуют. Слышали мы и от наших современников много таковых, удивления достойных происшествий, которыми трудно пренебречь. Впрочем, совершенно верить тому или вовсе не верить равно опасно по причине слабости человеческой, которая не имеет пределов и не умеет владеть собою, но слепо стремится то к суеверию и к надменности, то к забвению и презрению богов. Осторожность и умеренность лучше всего.
Камилл, гордясь ли величием подвига своего по покорению осаждаемого десять лет города, соперничествующего Риму, или прославлявшими его вознесенный к высокомерию и к чувствам, неприличным гражданской и законной его власти, торжествовал с великой надменностью и въехал в Рим на колеснице, везомой четырьмя белыми конями – чего никто ни прежде его, ни после не осмелился сделать. Римляне почитают таковую колесницу священной и присвоенной царю и отцу богов. Согражданам его, не привыкшим терпеть гордыню и высокомерие, было то неприятно; он навлек на себя неудовольствие их и тем, что противился закону о разделении города. Трибуны предлагали разделить народ и сенат на две части; одной остаться в Риме, другой – кому по жребию достанется, переселиться в покоренный город, предполагая, что от сего будут богаче и, обладая двумя великими и прерасными городами, удобнее могут хранить область свою и благосостояние. Народ, умножившись уже и обеднев, одобрил это мнение и, часто производя шум вокруг трибуны, требовал утверждения оного. Сенат и лучшие граждане негодовали на это предложение трибунов, почитая такое дело уничтожением, а не разделением Рима. Они прибегли к Камиллу.
Но он, страшась прений и ссор, всегда находил отговорки и затруднения, которыми отлагал предложение закона. Этим сделался он ненавистен народу; к самому же явному и сильному против него неудовольствию подала повод десятая часть добычи; причина тому, хотя не совсем справедливая, была, однако, не без основания. Отправляясь в поход против Вей, дал он обет богам: если покорит город, посвятить им десятую долю добычи. Город был покорен и ограблен; но Камилл, или не желая беспокоить граждан, или забыв обет по причине множества забот своих, оставил воинам полученную ими прибыль. После некоторого времени и сложив уже с себя начальство, донес сенату о своем обете; прорицатели объявили, что на жертвах обнаруживается гнев богов, требующий умилостивления и благодарственных приношений.
Сенат определил не разделять снова добычу, ибо это было трудно; но чтобы каждый, получивший свою часть, вернул под клятвой государству десятую часть. Дабы привести это в исполнение, надлежало употребить насилие и неприятные меры против воинов, людей бедных и много трудившихся, принуждаемых приносить важную часть приобретенной и уже издержанной ими добычи. Они беспокоили своими жалобами Камилла, который, не имея лучшего оправдания, должен был прибегнуть к самому непристойному; он признался, что забыл обет свой. Воины негодовали и говорили, что, обещавшись прежде принести десятую часть имущества неприятеля, теперь взимает он десятую часть с сограждан своих. При всем их неудовольствии всякий принес столько, сколько должно было. Определили сделать золотой сосуд и отослать его в Дельфы. В городе мало было золота; правители рассуждали, откуда бы достать его. Женщины, согласившись между собою, принесли свои золотые украшения для вылития сего сосуда. Это составило восемь талантов золота. Сенат, воздавая римским женам должную благодарность*, определил, чтобы по смерти их, также как и по смерти мужчин, говорены были в честь их подобающие похвальные речи*. Посланниками были избраны трое знаменитейших мужей, которых отправили на большом с хорошими мореходами корабле, украшенном прилично торжественному случаю. Не только буря, но и самая тишина моря бывает страшна. Так и с ними случилось тогда приблизиться к гибели своей и неожиданно избегнуть опасности. Липарские триеры напали на них, как на морских разбойников в тихую погоду близ Эоловых островов*. Видя, что римляне умоляли их и простирали к ним руки, они удержались от насилия, но, привязав их корабль к своему, привели в свою пристань и продавали вещи и их самих, как бы они были морские разбойники. С великим трудом убеждены были добродетелью и властью Тимесифея, правителя своего, отпустить их. Тимесифей на своих судах проводил их и помогал в посвящении сосуда. За эту услугу пользовался он в Риме приличными почестями.
Народные трибуны хотели возобновить предложение о переселении народа; но война против фалисков, благовременно возникшая, позволила патрициям производить выборы по своей воле и избрать Камилла военным трибуном* вместе с пятью другими; обстоятельства требовали полководца, имеющего важность, силу и опытность; народ подал в пользу его свои голоса. Камилл с войском вступил в область фалисков. Он осадил Фалерии, город крепкий и снабженный всем нужным для выдержания осады. Он знал, что это дело было трудное и требовало долгого времени; однако хотел занимать сограждан своих, дабы они в бездействии, сидя дома, не внимали речам своих трибунов и не предавались крамолам. Патриции всегда прибегали с успехом к этому средству, подобно врачам изгоняя из государства недуги бунта и возмущения.
Фалерийцы столько презирали осаду, полагаясь на окружающие город их укрепления, что кроме тех, кто стерег стены, все в городе ходили в обыкновенном платье. Дети их продолжали учиться и вместе с учителем прогуливались вокруг городских стен и упражнялись по обыкновению. Фалерийцы, подобно грекам, имели общего учителя, дабы дети их с младенчества вместе были воспитываемы и образовываемы к общежитию*. Этот учитель злоумышлял на фалерийцев посредством детей, водил их ежедневно за стены города, сперва недалеко и скоро возвращаясь назад после такового их упражнения. Таким образом, мало-помалу отводя их далее, приучил быть спокойными, как бы не было никакой опасности со стороны неприятелей. Наконец в один день со всеми приблизился к римской передовой страже и предал их с приказанием отвести к Камиллу. Будучи приведен к нему, объявил, что он учитель этих детей и что, предпочитая его благосклонность исполнению своей должности, в их лице предает ему город. Камилл ужаснулся от такого поступка; обратясь к предстоявшим, сказал: «Война сама по себе есть зло; она совершается великой несправедливостью и насильственными поступками; но добрые и храбрые мужи в самой войне соблюдают некоторые законы. Победой не должно прельщаться до того, чтобы не отвергать выгод, приобретаемых подлыми и нечестивыми делами. Более на собственное мужество полагаясь, нежели на злодейство других, великий полководец должен вести войну». Потом велел служителям разодрать платье на учителе, связать ему руки за спиной, дать детям палки и бичи, дабы они, наказывая предателя, гнали обратно в город.
Между тем фалерийцы заметили предательство учителя. Город при таком несчастии исполнился плача и рыдания; благороднейшие мужчины и женщины в исступлении стремились к стенам и вратам градским. В то же время увидели детей, гнавших нагого и связанного своего учителя, Камилла же называвших спасителем, богом, отцом своим. Такой поступок возбудил удивление и любовь к справедливости Камилла не только в родителях этих отроков, но и во всех других гражданах, бывших зрителями сего. Они собрали совет тотчас и отправили посланников, дабы совершенно предаться ему. Камилл отослал их в Рим; будучи представлены сенату, они говорили, что римляне, предпочитая справедливость победе, научили их лучше желать им повиноваться, нежели быть свободными – не потому, чтобы они почитали себя слабее римлян, но потому, что признавали себя побежденными их добродетелью. Сенат поручил Камиллу распорядить все, как ему заблагорассудится. Камилл взял от фалерийцев деньги, заключил союз со всеми фалисками и отступил.
Воины его надеялись ограбить Фалерии; но, возвратившись в Рим с пустыми руками, обвиняли Камилла перед другими согражданами, называли его ненавистником народа, говорили, что он из зависти не хотел, чтобы бедные граждане обогатили себя. Трибуны вновь предлагали закон о переселении граждан и призывали народ к утверждению оного. Камилл, презирая ненависть народа и говоря смело против этого закона, более всех явился противником стороне народной. Они отвергли закон против воли, но Камилла возненавидели до того, что, несмотря на приключившееся с ним домашнее несчастье (он лишился одного из двоих своих сынов, который умер от болезни), из жалости нимало не укротили своего гнева. Добродетельный и кроткий муж сей был поражен столь неумеренной скорбью от этого несчастья, что хотя назначили ему день явиться в суд, но он, удрученный горем, остался дома, запершись среди женщин.
Обвинителем его был Луций Апулей; он обвинял Камилла в утаении этрурских денег; уверяли притом, что в его доме видели медные двери, отнятые у неприятелей. Народ был раздражен и явно показывал, что против него подаст голоса свои под каким бы то ни было предлогом. Камилл, собрав своих друзей, товарищей в военачальстве и походах, которых число было немалое, просил их не предать его, обвиняемого несправедливо в столь бесчестных делах, и не допустить неприятелей его ругаться над ним. Друзья его, посоветовавшись между собою, отвечали, что не имели никакой надежды помочь ему в судопроизводстве, но что заплатят вместе с ним пеню, которая на него будет наложена. Камилл, не стерпя стыда, решился в гневе своем самовольным изгнанием оставить Рим. Обняв жену и сына, вышел из своего дома и в безмолвии шел к городским вратам; здесь остановился, обратился назад, простер руки к Капитолию и молил богов, что если он несправедливо, одною завистью и наглостью народа преследуемый, идет в заточение, то да вскоре раскаются римляне и да узрят все люди, что сограждане имеют нужду в Камилле и желают его!
Таким образом, Камилл, подобно Ахиллу, произнес на сограждан своих проклятия и оставил город, не явившись в суд для оправдания. Он был осужден на выплату пятнадцати тысяч ассов пени, или тысячи пятисот драхм (греческими деньгами)*. Асс составляет десятую часть серебряной монеты; десять медных денег назывались денарием. Впрочем, нет ни одного римлянина, который бы не верил, что моления Камилла вскоре были исполнены богиней Дике* и что оказанная ему обида получила наказание примерное и достопамятное, хотя нимало для него не приятное и даже поразившее его чувствительнейшей скорбью. Сколь ужасен гнев богов, излившийся на Рим! Какие беды, какую пагубу, с посрамлением сопряженные, навело на него наставшее время! Случай ли это произвел, или кто-либо из богов печется о добродетели, гонимой неблагодарностью.
Первым предзнаменованием наступающего великого бедствия была смерть цензора Гая Юлия*. Должность эта у римлян в большем уважении и почитается священною. Второе случилось до изгнания Камилла. Некто по имени Марк Цедиций, человек не знатный и не из патрициев, но честный и добрый, донес военным трибунам о деле, заслуживавшем того, чтобы над ним призадуматься. Он сказал им, что в прошедшую ночь, идучи по улице, называемой Новою, услышал, что некто его кликал громко; оглянувшись, не видал никого, но услышал голос громче человеческого, который сказал ему следующее: «Марк Цедиций! Спеши на рассвете дня уведомить правителей, чтобы они вскоре ожидали галлов». Военные трибуны смеялись и шутили над этим известием. Вскоре после этого случилось несчастье с Камиллом.
Галлы, народ кельтский*, будучи весьма многочисленны, оставили страну свою, которая не могла всех их содержать, и пустились искать другую. Их было много тысяч молодых и воинственных людей, за которыми следовали еще в большем числе женщины и дети; одни, перевалив Рипейские горы*, обратились к Северному Океану и заняли крайные области Европы; другие населили страну между Пиренейскими и Альпийскими горами, близ сенонов и битуригов*, где пробыли долгое время. Впоследствии, вкусив привезенного к ним из Италии вина, столько им прельстились, новость удовольствия привела их в такое исступление, что подняли оружие, взяли отцов своих и устремились к Альпам, ища земли, которая производила такой плод, всякую другую почитая бесплодной и дикой.
Первый, которых ввел у них вино и поощрял их вступить в Италию, был некий тирренец по имени Аррунт, человек знатный и от природы несклонный к тому следующему несчастью. Он был опекуном молодого сироты, первенствующего богатством среди сограждан своими и видом прекраснейшего, который назывался Лукумоном. С малолетства воспитывался он у Аррунта и, достигши юношеских лет, не оставил его дома, показывая, что ему было приятно жить вместе с ним. Долго сокрыто было от Аррунта, что он обольстил жену его или сам ею был обольщен. Но наконец взаимная их страсть достигла до такой степени, что они не могли более ни преодолеть ее, ни скрываться. Юноша вознамерился отнять явно у мужа эту женщину. Муж прибег к суду; но Лукумон одержал над ним вверх – по множеству друзей своих и по причине великого богатства. Аррунт оставил свое отечество и, услышав о галлах, поехал к ним и соделался их путеводителем в Италию.
Галлы, вступив в Италию, завладели всей страной, которую в древнее время занимали тирренцы и которая простирается от Альпийских гор до обоих морей – что доказывается названием их, ибо северное море Италии называется Адриатическим от тирренского города Адрия; южное же называется Тирренским, или Тосканским. Вся страна усажена деревьями, изобилует тучными пастбищами и орошается многими реками. Здесь было восемнадцать прекрасных и больших городов, хорошо устроенных как для торговли и промышленности, так и для приятностей жизни. Галлы, изгнав тирренцев, сами поселились в них. Но это случилось гораздо прежде времен Камилловых.
В это время галлы ратоборствовали против тирренского города Клузия и осаждали его. Клузийцы прибегли к римлянам, просили их отправить к варварам своих послов и письма. Отправлены были три посланника из рода Фабиев, люди знаменитые, достигшие важнейших в Риме степеней. Галлы приняли их с честью – по причине великого имени римлян, прекратили военные действия и вступили с ними в переговоры. Когда же посланники спросили: «Какую обиду оказали вам клузийцы, что вы нападаете на их город?», то Бренн, царь галлов, усмехнувшись, ответствовал: «Обижают нас клузийцы; они хотят владеть пространством и землей, хотя весьма малую часть оной могут обрабатывать. Мы чужестранцы, бедны и многочисленны; однако не дают нам нимало в ней участвовать. И вас, римляне, таким же образом обижали прежде альбанцы, фиденаты и ардейцы, ныне же жители Вей и Капены, многие из фалисков и вольсков. За то вы идете на них войною, и если они не уступят вам части своего имущества, то влечете их в неволю, опустошаете их область, разрушаете города. Но и вы тем не делаете ничего странного и несправедливого; вы следуете древнейшему из всех законов, который дает сильному то, что принадлежит слабым, начиная от бога и до самых зверей, ибо по внушению природы сильнейшие из них хотят иметь более слабейших. Перестаньте жалеть об осаждаемых клузийцах, дабы не научить галлов быть в свою очередь сострадательными к тем, кого обижают римляне».
Эти слова уверили римских посланников, что Бренн нимало не был склонен к примирению. Они вошли в Клузий, ободряли осажденных, побуждали их сделать вылазку вместе с ними или для испытания храбрости варваров, или для показания им своей собственной. Клузийцы сделали вылазку; дано было сражение под стенами города. Один из Фабиев, по имени Квинт Амбуст, устремился на коне против взрослого и прекрасного галла, который ехал впереди далеко ото всех. Сперва галлы не узнали его как по причине скорости нападения, так и потому, что блеск доспехов помрачил их зрение. Но когда римлянин победил своего противника, поверг его и снял с него доспехи, то Бренн, узнав его, призывал богов в свидетели, что римлянин этот нарушает священные и всеми людьми уважаемые права и законы, ибо, прибыв как посланник, поступает как неприятель. Он прекратил немедленно сражение, оставил Клузий и повел войско свое против Рима. Но, дабы не казалось, что галлы как бы радовались этой обиде и что желали только благовидной причины, чтобы напасть на римлян, Бренн послал истребовать Фабия для наказания; между тем продолжал спокойно свой путь.
В Риме собрался совет: многие обвиняли Фабиев, особенно жрецы, называемые фециалами. Они, представляя дело это как противное богам, требовали, чтобы сенат обратил наказание за преступление на одного виновника и тем отвратил от других мест богов. Фециалы эти установлены Нумой, правосуднейшим из царей, дабы быть хранителями мира, судьями и утвердителями причин, за которые начинается справедливая война. Сенат предоставил это дело на рассмотрение народу. Жрецы не переставали обвинять Фабия. Но народ оказал столько презрения к священным обрядам и до того ругался над ними, что избрал Фабия и братьев его военными трибунами. Галлы узнали о том и исполнились негодования. Уже ничто не останавливает их; они идут к Риму со всевозможной поспешностью. Их множество, блеск оружий, сила и стремление приводили в ужас народы, через землю которых они проходили; все ожидали, что опустошат уже всю страну, разорят города; однако, против чаяния, они никого не обижали, ничего не грабили с полей и, проходя близ городов, громко кричали, что на Рим идут, что против одних римлян ведут войну, а всех других почитают друзьями.
Между тем как варвары быстро неслись к Риму, военные трибуны вывели против них римлян. Числом внушительным: их было до сорока тысяч пехоты*, но по большой части все неопытные и только тогда в первый раз действовавшие оружием. Притом пренебрегли они обрядами богопочитания; не принесли узаконенных жертв; не вопросили прорицателей, как им должно было перед сражением и опасными предприятиями. Многоначалие более всего приводило в беспорядок дела, хотя прежде в обстоятельствах не столь важных много раз избирали они единовластных начальников, которых называли диктаторами, ведая, сколь полезно во времена смутные и опасные быть одушевленными одними чувствами и покорствовать одному неограниченному начальнику, имеющему всю власть в своих руках.
Самая несправедливость, оказанная Камиллу, немало послужила к погибели римлян после его несчастья: казалось страшно управлять народом, не угождая и не потворствуя ему во всем. Вышедши из города, остановились они за девяносто стадиев от него, на реке Аллии, недалеко от того места, где река впадает в Тибр. Здесь напали на них варвары. Римляне по причине своего неустройства сразились бесславно и были разбиты. Левое крыло их было опрокинуто в реку и истреблено галлами; правое менее потерпело поражения, уклонившись от нападения с равнин на холмы. Большая часть воинов убежали в Рим. Все те, которым пресыщенные убийством неприятели позволили спастись, ночью бежали к вейетам, полагая, что Рим уже погиб и что все жители его преданы были мечу.
Сражение это дано было во время летнего солнцеворота в полнолуние – в тот самый день, в который прежде случилось великое бедствие Фабиев*: триста человек из сего рода изрублены были тирренцами. Этот день со второго поражения сохранил поныне название «аллийского», по названию реки.
Что касается до того, действительно ли некоторые дни несчастны, или праведно Гераклит порицает Гесиода, почитающего одни дни благополучными, другие – дурными, как бы он не знал, что существо дня всегда одно и то же, – о том рассуждали мы на другом месте*. Может быть, здесь, было бы не лишне упомянуть о нескольких примерах. Беотийцы в пятый день месяца гипподромия, а по счислению афинскому – гекатомбеона одержали две знаменитые победы, которыми освободили греков; первую при Левктрах, вторую при Керессе*, более ста лет до первой, когда победили Латтамия и фессалийцев. С другой стороны, персы в шестой день месяца боэдромиона побеждены были греками при Марафоне, в третий при Платеях и в то самое время при Микале; в двадцать пятый – при Арбелах*. Афиняне одержали морскую победу при Наксосе, под предводительством Хабрия, во время полнолуния боэдромиона*; при Саламине же – около двадцатого числа, как показано нами в сочинении «О днях». Равномерно и месяц фаргелион навел несчастья на варваров. Александр разбил при Гранике полководцев царских в месяце фаргелионе*; карфагеняне в Сицилии побеждены Тимолеонтом двадцать третьего числа того же месяца – в тот самый день, когда, кажется, взята и Троя, как повествуют Эфор, Каллисфен, Дамаст* и Малак. Напротив того, метагитнион, который беотийцы называют панемом, был грекам неблагоприятен. Седьмого числа этого месяца греки, будучи побеждены Антипатром при Кранноне, погибли окончательно; и прежде того, сразившись с Филиппом при Херонее, были также несчастны*. Того же числа, месяца и года переправившиеся с Архидамом* в Италию погибли от тамошних варваров. Карфагеняне берегутся двадцать второго числа метагитниона, как всегда приносящего им весьма многие и великие бедствия. Мне известно, что во время Элевсинских таинств Фивы разорены были Александром* и что после того афиняне приняли македонское охраненное войско двадцатого числа боэдромиона, в которое выносят таинственного
Иакха. Равномерно и римляне в одно число прежде под предводительством Цепиона были разбиты кимврами*, впоследствии же под предводительством Лукулла победили Тиграна и армян. Царь Аттал и Помпей Великий кончили жизнь свою в то самое число, в которое родились. Вообще можно доказать, что многие были счастливы и несчастны в одни и те же периоды времени. Однако римляне означенный день почитают одним из несчастных и следующие за ним два дня каждого месяца, поскольку случай этот, как всегда бывает, умножил страх и суеверие. Мы писали о том подробнее в сочинении «Римские вопросы».