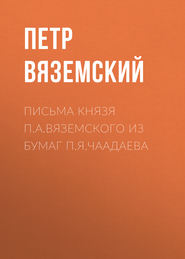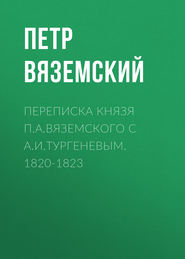По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не забывал профессор-поэт и метеорологических наблюдений:
Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя,
И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды,
С богатством дальним шли народы
К Елисаветинским брегам.
Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться во вдохновение, навеваемое на него природой и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.
Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и в академических победах своих над Миллером и другими немцами.
Разумеется, что, так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не нужно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.
В письме своем о правилах российского стихотворения Ломоносов говорит:
«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре, под видом некоторой женщины, что, сгорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипице Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не только бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».
Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными.
В статье Жизнь Ломоносова, которая напечатана в Полном Собрании сочинений его, изданном иждивением Императорской Академии Наук, в 1784 г., биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи Великому Петру и Елисавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги: Риторику, Российскую Грамматику, Руководство к горному строению и заводам, Российскую Историю, простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Все то не суть анекдоты, а труды повсюду известные». Далее говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А. П. Сумароков, невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.
Говорят, что когда, преследуя французов, вышедших из Москвы, Кутузов вступил в Вильну, то городская депутация поляков явилась к нему и бросилась на колени, прося пощады. «Встаньте, встаньте, господа! – сказал им князь Смоленский. – Вспомните, что вы снова сделались русскими!»
Во время отступления французов Кутузов часто говаривал: «Надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю». Многие были противного мнения и говорили, что лучше топить и уничтожать неприятеля, нежели вежливо и с почестью провожать его. Кутузов, хотя и начал свое военное поприще под начальством Суворова, не был полководцем, принадлежащим к Суворовской школе. Быстрота, натиск, молодечество штыка не были в привычках его[1 - Известно, что Император Александр не очень благоволительно расположен был к Кутузову: назначив его в 1812 г. главнокомандующим, сделал он уступку общественному мнению. В войне, в самом сердце России, и войне, сделавшейся народной, нужно было в русском имени выставить русское знамя. Барклай и Бенигсен могли предводительствовать русскими войсками в Германии или в другой земле; но на русской почве был необходим русский плотью, кровью и духом.].
Как ни суди о степени воинских способностей его, должно признаться, что, так или иначе, имя его навсегда нераздельно сопряжено с событием изгнания неприятелей из России и, следовательно, ее освобождения и спасения.
Нельзя же согласиться с французами и с некоторыми из наших недоброжелателей Кутузова, что один генерал Мороз уничтожил французское войско. Мороз был тут, конечно, не лишний, но Кутузов немало способствовал его заморожению.
* * *
Князь Долгорукий, военный и дипломат, участвовавший в войне 1812 года и известный своими каламбурами, уже предсказывал, когда взят был в плен генерал Le Pelletier, что французы погибнут от холода, потому что лишились генерального скорняка (pelletier по-французски скорняк, меховщик). После Тарутинского сражения он же выдумал за Наполеона слова, будто им сказанные Кутузову: Vieux routier, ta routine m'a deroute (твоя толковость сбила меня с толку).
Польский генерал Рожнецкий рассказывал, что в 1812 г. около Гжатска был пойман крестьянин и допрашиваем о какой-то дороге. «Не знаю» было единственным ответом его, несмотря ни на угрозы, ни на побои, ни на обещания награды. Вот безымянный герой в истории 1812 г. Эта твердость, это упорство сильно поразили Наполеона и окружающих его. Но Наполеон не хотел показать неприятное впечатление и разбранил допрашивающих, упрекая их в том, что они не умеют хорошо объясниться с крестьянином по-русски.
* * *
Наполеон говорил князю Понятовскому в 1811 году: «Наше дело впрок не пойдет. Я рад всеми силами поддерживать вас, но вы от меня слишком далеки, а от России слишком близки. Что ни делай, а тем кончится, что она вас завоюет, мало того, завоюет всю Европу».
Князь Понятовский, возвратившись в Польшу, пересказывал эти слова многим из своих соотечественников и, между прочими, Грабовскому, который записал их в своей памятной книжке.
Плятер, передавая это, сказал, что судьба иногда каким-то непостижимым образом предрекает определения свои нашими устами. И в самом деле, не поразительно ли нескромное и как будто невольное признание Наполеона в такое время, когда он готовился на войну 1812 г. и подымал на дыбы Польшу силой несбыточных надежд, и поднял ее, и вместе с ней того же самого князя Понятовского.
Князь Понятовский позднее других своих соотечественников поддался обольщению Наполеона. В 1806 г. выезжал он к нему на встречу с прусским орденом на мундире, что было неприятно Наполеону и другим полякам, которые телом и душой уже поработились обаянию счастливого завоевателя.
* * *
Крестьяне графа Мостовского, министра внутренних дел в Польше, говорят о его сельском хозяйстве: «Мы сеем траву, а покупаем хлеб».
* * *
Свечина, в проезд свой через Варшаву, говорила, что ей все кажется, что она смотрит на представление Лодоиски (известной в то время оперы польского содержания). Все ей казалось, даже и бытие народа, чем-то обманчивым, условленным и театральным.
* * *
Князь Сапега говорит, что мы живем в век конституции, филантропии и скуки.
* * *
В разговоре о Польше и о способах управлять поляками NN сказал: «С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Подавайте руку поляку вежливо и ласково, но, вместе с тем, слегка прижмите ее так, чтобы он мог догадаться о силе вашей. Полякам некогда быть благодарными: они легко или падают духом, или увлекаются энтузиазмом, хотя часто не по разуму. Главное дело: их заговорить и охмелить». Так поступал с ними и Наполеон. Он никогда не думал возвратить им политическую независимость, а только в льстивых словах обольщал их легковерный патриотизм этой независимостью, и они лезли за него в огонь и тысячами погибали.
Наполеон в царствование свое надоел иным французам, как они ни легкомысленны, и был даже в тягость некоторым из своих приближенных и облагодетельствованных им людей. Поляк же никогда не был разуверен и разочарован в отношении к Наполеону. Один поляк говорил очень серьезно, что Наполеон безрассудно вверил себя великодушию англичан: «Одни мы умели бы отстоять его, если бы прибег он к нам». И точно, Польша дала бы себя разрубить на куски и пролила бы до последней капли кровь свою, но не изменила бы Наполеону.
* * *
Граф Остерман сказал, кажется, маркизу Паулучи в 1812 году: «Для вас Россия мундир ваш: вы его надели и снимите его, когда хотите. Для меня Россия кожа моя».
* * *
У. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами.
«Они очень невежливы (говорил он) и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание».
Они отвечали мне: «Зачем эти сказки: ну похож ли ты на генерала?»
«Что же (перебил его Пушкин), начинало уже рассветать?»
«Да, немножко», – отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование.
* * *
Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодовито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву Императора Александра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, – отвечает он, – назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь».
Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? – перебил речь тот же Апраксин. – Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.
Его же спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет, – отвечал он, – а еду, чтобы снять поставку лжи на всю Россию».
* * *
NN сказал о ***, впрочем, очень добром и почтенном человеке: «Он говорит пословицами, а действует виньетками».
Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя,
И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды,
С богатством дальним шли народы
К Елисаветинским брегам.
Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться во вдохновение, навеваемое на него природой и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.
Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и в академических победах своих над Миллером и другими немцами.
Разумеется, что, так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не нужно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.
В письме своем о правилах российского стихотворения Ломоносов говорит:
«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре, под видом некоторой женщины, что, сгорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипице Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не только бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».
Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными.
В статье Жизнь Ломоносова, которая напечатана в Полном Собрании сочинений его, изданном иждивением Императорской Академии Наук, в 1784 г., биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи Великому Петру и Елисавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги: Риторику, Российскую Грамматику, Руководство к горному строению и заводам, Российскую Историю, простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Все то не суть анекдоты, а труды повсюду известные». Далее говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А. П. Сумароков, невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.
Говорят, что когда, преследуя французов, вышедших из Москвы, Кутузов вступил в Вильну, то городская депутация поляков явилась к нему и бросилась на колени, прося пощады. «Встаньте, встаньте, господа! – сказал им князь Смоленский. – Вспомните, что вы снова сделались русскими!»
Во время отступления французов Кутузов часто говаривал: «Надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю». Многие были противного мнения и говорили, что лучше топить и уничтожать неприятеля, нежели вежливо и с почестью провожать его. Кутузов, хотя и начал свое военное поприще под начальством Суворова, не был полководцем, принадлежащим к Суворовской школе. Быстрота, натиск, молодечество штыка не были в привычках его[1 - Известно, что Император Александр не очень благоволительно расположен был к Кутузову: назначив его в 1812 г. главнокомандующим, сделал он уступку общественному мнению. В войне, в самом сердце России, и войне, сделавшейся народной, нужно было в русском имени выставить русское знамя. Барклай и Бенигсен могли предводительствовать русскими войсками в Германии или в другой земле; но на русской почве был необходим русский плотью, кровью и духом.].
Как ни суди о степени воинских способностей его, должно признаться, что, так или иначе, имя его навсегда нераздельно сопряжено с событием изгнания неприятелей из России и, следовательно, ее освобождения и спасения.
Нельзя же согласиться с французами и с некоторыми из наших недоброжелателей Кутузова, что один генерал Мороз уничтожил французское войско. Мороз был тут, конечно, не лишний, но Кутузов немало способствовал его заморожению.
* * *
Князь Долгорукий, военный и дипломат, участвовавший в войне 1812 года и известный своими каламбурами, уже предсказывал, когда взят был в плен генерал Le Pelletier, что французы погибнут от холода, потому что лишились генерального скорняка (pelletier по-французски скорняк, меховщик). После Тарутинского сражения он же выдумал за Наполеона слова, будто им сказанные Кутузову: Vieux routier, ta routine m'a deroute (твоя толковость сбила меня с толку).
Польский генерал Рожнецкий рассказывал, что в 1812 г. около Гжатска был пойман крестьянин и допрашиваем о какой-то дороге. «Не знаю» было единственным ответом его, несмотря ни на угрозы, ни на побои, ни на обещания награды. Вот безымянный герой в истории 1812 г. Эта твердость, это упорство сильно поразили Наполеона и окружающих его. Но Наполеон не хотел показать неприятное впечатление и разбранил допрашивающих, упрекая их в том, что они не умеют хорошо объясниться с крестьянином по-русски.
* * *
Наполеон говорил князю Понятовскому в 1811 году: «Наше дело впрок не пойдет. Я рад всеми силами поддерживать вас, но вы от меня слишком далеки, а от России слишком близки. Что ни делай, а тем кончится, что она вас завоюет, мало того, завоюет всю Европу».
Князь Понятовский, возвратившись в Польшу, пересказывал эти слова многим из своих соотечественников и, между прочими, Грабовскому, который записал их в своей памятной книжке.
Плятер, передавая это, сказал, что судьба иногда каким-то непостижимым образом предрекает определения свои нашими устами. И в самом деле, не поразительно ли нескромное и как будто невольное признание Наполеона в такое время, когда он готовился на войну 1812 г. и подымал на дыбы Польшу силой несбыточных надежд, и поднял ее, и вместе с ней того же самого князя Понятовского.
Князь Понятовский позднее других своих соотечественников поддался обольщению Наполеона. В 1806 г. выезжал он к нему на встречу с прусским орденом на мундире, что было неприятно Наполеону и другим полякам, которые телом и душой уже поработились обаянию счастливого завоевателя.
* * *
Крестьяне графа Мостовского, министра внутренних дел в Польше, говорят о его сельском хозяйстве: «Мы сеем траву, а покупаем хлеб».
* * *
Свечина, в проезд свой через Варшаву, говорила, что ей все кажется, что она смотрит на представление Лодоиски (известной в то время оперы польского содержания). Все ей казалось, даже и бытие народа, чем-то обманчивым, условленным и театральным.
* * *
Князь Сапега говорит, что мы живем в век конституции, филантропии и скуки.
* * *
В разговоре о Польше и о способах управлять поляками NN сказал: «С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Подавайте руку поляку вежливо и ласково, но, вместе с тем, слегка прижмите ее так, чтобы он мог догадаться о силе вашей. Полякам некогда быть благодарными: они легко или падают духом, или увлекаются энтузиазмом, хотя часто не по разуму. Главное дело: их заговорить и охмелить». Так поступал с ними и Наполеон. Он никогда не думал возвратить им политическую независимость, а только в льстивых словах обольщал их легковерный патриотизм этой независимостью, и они лезли за него в огонь и тысячами погибали.
Наполеон в царствование свое надоел иным французам, как они ни легкомысленны, и был даже в тягость некоторым из своих приближенных и облагодетельствованных им людей. Поляк же никогда не был разуверен и разочарован в отношении к Наполеону. Один поляк говорил очень серьезно, что Наполеон безрассудно вверил себя великодушию англичан: «Одни мы умели бы отстоять его, если бы прибег он к нам». И точно, Польша дала бы себя разрубить на куски и пролила бы до последней капли кровь свою, но не изменила бы Наполеону.
* * *
Граф Остерман сказал, кажется, маркизу Паулучи в 1812 году: «Для вас Россия мундир ваш: вы его надели и снимите его, когда хотите. Для меня Россия кожа моя».
* * *
У. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами.
«Они очень невежливы (говорил он) и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание».
Они отвечали мне: «Зачем эти сказки: ну похож ли ты на генерала?»
«Что же (перебил его Пушкин), начинало уже рассветать?»
«Да, немножко», – отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование.
* * *
Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодовито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву Императора Александра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, – отвечает он, – назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь».
Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? – перебил речь тот же Апраксин. – Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.
Его же спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет, – отвечал он, – а еду, чтобы снять поставку лжи на всю Россию».
* * *
NN сказал о ***, впрочем, очень добром и почтенном человеке: «Он говорит пословицами, а действует виньетками».