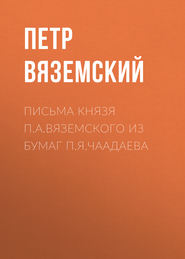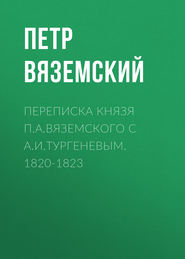По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кроме саморощенного дарования на острые слова Апраксин имеет еще и другие таланты. Никогда не учась музыке, поет он прекрасно и разыгрывает на клавикордах лучшие места из слышанных им опер. Никогда не учась рисованию, он мастерски владеет карандашом и пишет прекрасные карикатуры. У генерала Синягина есть большой альбом, Апраксиным исписанный: тут, в смешных и метких изображениях, проходит все петербургское общество. Со временем этот альбом может сделаться исторической достопамятностью.
* * *
В дневнике NN записано: «Мое дело не действие, а впечатлительная ощутительность; меня хорошо бы держать как термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но ничто скорее и вернее его не почувствует и не укажет настоящую температуру. Часто замечал я за собой при событиях, что поражали меня иные признаки и свойства, которые ускользали от внимания других».
* * *
Многое может в прошлой истории нашей объясниться тем, что русский, т. е. Петр Великий, силился сделать из нас немцев, а немка, т. е. Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими.
* * *
Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына.
* * *
О Небо! Зачем при склонностях мирных дало ты мне и порывы мятежные? Тихое забвение, тихое убежище, тень двух-трех деревьев, светлый бег ручья, при вас мысль моя отдыхает. Вами, кажется, могла бы ограничиться вся алчность моих желаний; но страсти, обольщения света уносят меня далеко от вас. В волнении тоски беспредельной я вздыхаю по вас: на вашем безмятежном лоне порываюсь на новые движения. Я в всегдашней борьбе с самим собой и не знаю, что окончательно одержит верх. У других для этого тайного и глухого волнения пробуждается вечно бьющий источник поэзии; но не каждому судьбой дается он в удел. А, кажется, он один может утолить жажду души, равнодушной к так называемым земным благам, – души, которая готова иссохнуть на почве, где, по преданиям толпы, растет человеческое счастье и расцветают житейские выгоды.
* * *
Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит: «Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: на Бога надейся, а сам не плошай». – «Нет уж, извините, – вскочил со стула и. подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий. – Этого, милостивая государыня, в Евангелии нет». И он возвратился на свое место.
Когда в 1812 году Магницкий жил в ссылке, в Вологде, какой-то доморощенный вологодский поэт написал следующие стихи:
Сперанский высоко взлетел,
Россию предать хотел:
За то сослан в Сибирь
Копать имбирь.
Магницкий сидит,
Туда же глядит.
Стихи дают некоторое понятие об общем расположении к двум политическим ссыльным.
Следующий случай еще сильнее может служить тому признаком. Рассказывали, что Магницкий пошел в лавку и, купив самовар, велел отнести его к себе на квартиру, сказав свою фамилию. Услышав ее, купец выгнал его из лавки и самовара не продал. Этот анекдот, может быть, и выдуман, но он ходил по Вологде и, следовательно, имеет свое значение.
* * *
Молодой князь Марцелин Любомирский был очень хорошо принят в лучшем петербургском обществе; но скоро своротил с пути, растерялся, наделал долгов и тайно скрылся. Во время расточительной жизни своей он все указывал заимодавцам на местечко Дубно, которое принадлежало отцу его и вскоре должно было поступить в продажу, и что тогда выплатит он все свои долги. NN при этом сказал: «Заимодавцы Любомирского могут изменить известную пословицу и говорить: «Славны Дубны за горами».
* * *
Нелединский говорит, что при дворе сегодня не есть последствие вчерашнего дня, и ненадежное указание на завтрашний. Каждый день при дворе имеет свою отдельную судьбу. Так на него и надо смотреть.
В 1812 году Нелединский оставил Москву за несколько минут до вступления французов и так врасплох, что выехал в своей извозчичьей карете, как разъезжал по городу. В Ярославле представлялся он великой княгине Екатерине Павловне. На слова Нелединского, который смотрел довольно мрачно на совершающиеся события и на последствия, которыми могут они отозваться в России, великая княгиня с живостью возразила ему: «Но, однако же, брат мой любим народом». – «Конечно, – отвечал Нелединский, – государь любим, но любовь поддерживается доверием, а доверие рождается от успехов».
После выхода французов из Москвы и водворения в ней некоторого порядка он никак не мог решиться оставаться в ней на житье, как прежде. Он говорил, что в глазах его неприятель опозорил Москву. Он продал свой большой дом на Мясницкой и переселился на житье и на службу в Петербург.
В одной из зал его дома была во всю длину стена уставлена большими зеркалами. Во время пребывания французов в Москве он говорил, что понимает, с каким удовольствием квартирующие в доме его французы должны стрелять из пистолетов в эту зеркальную стену.
* * *
Во дни процветания Библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из Священного Писания, Дмитриев говорил: «С тех пор, как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому».
К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь со кадилом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames». Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да помилуйте, ваше высокопревосходительство, – сказал ему однажды священник, – ну таким ли языком писана ваша Модная жена!»
* * *
В старой Москве живал один Левашов, очень образованный, приятного обхождения, славящийся актерским искусством своим на домашних театрах, но, по несчастью, донельзя пристрастный к пиву Говорят, что он перед концом своим выпивал его по несколько десятков бутылок в сутки.
Дмитриев, который был с ним в приятельских отношениях, рассказывал, что в коротких ему домах он не стеснялся, но все-таки немного совестился частых требований любимого своего напитка; а потому и выражал свои требования разнообразными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил вполголоса, то мельком и как будто незаметно в общем разговоре. Дмитриев применяет эти различные интонации к Василию Львовичу Пушкину, большому охотнику твердить и повторять свои стихи. «И он, – замечает Дмитриев, – то восторженно прочтет свое стихотворение, то несколькими тонами понизит свое чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои, как будто случайно».
* * *
В Москве до 1812 г. не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли consomme.
На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил всегда хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон, по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа.
Дмитриев отказался от него. Василий Львович подбегает к нему и говорит: «Иван Иванович, да ведь это consomme». – «Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторой досадой, – что это не ромашка, а все-таки пить не хочу». Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя он большего света не любил и никогда не ездил на вечерние многолюдные собрания.
Было какое-то торжественное празднество в кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников. А. Л. Нарышкин подходит к великому князю и говорит: «J'ai aussi un cadet ici». – «Я и не знал, – отвечает великий князь, – представь мне его». Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит: «Voici mon cadet». Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расфыркался и встряхивал своей напудренной и тщательно завитой головой[2 - По-французски слово cadet имеет значение и младшего брата.].
А. Л. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Спросили у него объяснить тому причину. Он отвечал, что причина в басне Лафонтена
Maitre-cordeau sur un arbre perche
Tenait en son bec un fromage:
Maitre-renard par l'odeur alleche
Lui tint a-peu-pre ce langage и пр.
(Вороне где-то Бог послал кусочек сыра и т. д.)
Дело в том, что у Румянцева на даче изготавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был очень лаком и начал выхвалять сыры его в надежде, что он и его оделит гостинцем.
Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».
* * *
Беклешов говорил о некоторых молодых государственных преобразованиях, в начале царствования императора Александра I: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не надивишься: один ходит по самому краю высокой крыши, другой по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах».
* * *
Каким должен был быть поучительным свидетелем для императора Павла, в час венчания его на царство, гость его, развенчанный и почти пленник его, король Станислав.
Впрочем, во всем поведении императора Павла в отношении к Станиславу было много рыцарства и утонченной внимательности. Эти прекрасные и врожденные в нем качества привлекали к нему любовь и преданность многих достойных людей, чуждых ласкательства и личных выгод. Они искупали частые порывы его раздражительного или, лучше сказать, раздраженного событиями нрава.
Нелединский долго по кончине его говорил о нем с теплой любовью, хотя и над ним разражались иногда молнии царского гнева. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в коляске его. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю: «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». – «Очень поэтически сказано, – возразил с гневом государь, – но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски». Объясняется это тем, что сие было сказано во время Французской революции, а слово представитель, как и круглые шляпы, было в законе у императора.
В эту поездку лекарь Вилие, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибочно завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилие и видит перед собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилием. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилие сказал про себя, что он анператор. «Врешь, дурак, – смеясь, сказал ему Павел Петрович, – император я, а он оператор». – «Извините, батюшка, – сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, – я не знал, что вас двое». (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)
* * *
* * *
В дневнике NN записано: «Мое дело не действие, а впечатлительная ощутительность; меня хорошо бы держать как термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но ничто скорее и вернее его не почувствует и не укажет настоящую температуру. Часто замечал я за собой при событиях, что поражали меня иные признаки и свойства, которые ускользали от внимания других».
* * *
Многое может в прошлой истории нашей объясниться тем, что русский, т. е. Петр Великий, силился сделать из нас немцев, а немка, т. е. Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими.
* * *
Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына.
* * *
О Небо! Зачем при склонностях мирных дало ты мне и порывы мятежные? Тихое забвение, тихое убежище, тень двух-трех деревьев, светлый бег ручья, при вас мысль моя отдыхает. Вами, кажется, могла бы ограничиться вся алчность моих желаний; но страсти, обольщения света уносят меня далеко от вас. В волнении тоски беспредельной я вздыхаю по вас: на вашем безмятежном лоне порываюсь на новые движения. Я в всегдашней борьбе с самим собой и не знаю, что окончательно одержит верх. У других для этого тайного и глухого волнения пробуждается вечно бьющий источник поэзии; но не каждому судьбой дается он в удел. А, кажется, он один может утолить жажду души, равнодушной к так называемым земным благам, – души, которая готова иссохнуть на почве, где, по преданиям толпы, растет человеческое счастье и расцветают житейские выгоды.
* * *
Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит: «Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: на Бога надейся, а сам не плошай». – «Нет уж, извините, – вскочил со стула и. подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий. – Этого, милостивая государыня, в Евангелии нет». И он возвратился на свое место.
Когда в 1812 году Магницкий жил в ссылке, в Вологде, какой-то доморощенный вологодский поэт написал следующие стихи:
Сперанский высоко взлетел,
Россию предать хотел:
За то сослан в Сибирь
Копать имбирь.
Магницкий сидит,
Туда же глядит.
Стихи дают некоторое понятие об общем расположении к двум политическим ссыльным.
Следующий случай еще сильнее может служить тому признаком. Рассказывали, что Магницкий пошел в лавку и, купив самовар, велел отнести его к себе на квартиру, сказав свою фамилию. Услышав ее, купец выгнал его из лавки и самовара не продал. Этот анекдот, может быть, и выдуман, но он ходил по Вологде и, следовательно, имеет свое значение.
* * *
Молодой князь Марцелин Любомирский был очень хорошо принят в лучшем петербургском обществе; но скоро своротил с пути, растерялся, наделал долгов и тайно скрылся. Во время расточительной жизни своей он все указывал заимодавцам на местечко Дубно, которое принадлежало отцу его и вскоре должно было поступить в продажу, и что тогда выплатит он все свои долги. NN при этом сказал: «Заимодавцы Любомирского могут изменить известную пословицу и говорить: «Славны Дубны за горами».
* * *
Нелединский говорит, что при дворе сегодня не есть последствие вчерашнего дня, и ненадежное указание на завтрашний. Каждый день при дворе имеет свою отдельную судьбу. Так на него и надо смотреть.
В 1812 году Нелединский оставил Москву за несколько минут до вступления французов и так врасплох, что выехал в своей извозчичьей карете, как разъезжал по городу. В Ярославле представлялся он великой княгине Екатерине Павловне. На слова Нелединского, который смотрел довольно мрачно на совершающиеся события и на последствия, которыми могут они отозваться в России, великая княгиня с живостью возразила ему: «Но, однако же, брат мой любим народом». – «Конечно, – отвечал Нелединский, – государь любим, но любовь поддерживается доверием, а доверие рождается от успехов».
После выхода французов из Москвы и водворения в ней некоторого порядка он никак не мог решиться оставаться в ней на житье, как прежде. Он говорил, что в глазах его неприятель опозорил Москву. Он продал свой большой дом на Мясницкой и переселился на житье и на службу в Петербург.
В одной из зал его дома была во всю длину стена уставлена большими зеркалами. Во время пребывания французов в Москве он говорил, что понимает, с каким удовольствием квартирующие в доме его французы должны стрелять из пистолетов в эту зеркальную стену.
* * *
Во дни процветания Библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из Священного Писания, Дмитриев говорил: «С тех пор, как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому».
К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь со кадилом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames». Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да помилуйте, ваше высокопревосходительство, – сказал ему однажды священник, – ну таким ли языком писана ваша Модная жена!»
* * *
В старой Москве живал один Левашов, очень образованный, приятного обхождения, славящийся актерским искусством своим на домашних театрах, но, по несчастью, донельзя пристрастный к пиву Говорят, что он перед концом своим выпивал его по несколько десятков бутылок в сутки.
Дмитриев, который был с ним в приятельских отношениях, рассказывал, что в коротких ему домах он не стеснялся, но все-таки немного совестился частых требований любимого своего напитка; а потому и выражал свои требования разнообразными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил вполголоса, то мельком и как будто незаметно в общем разговоре. Дмитриев применяет эти различные интонации к Василию Львовичу Пушкину, большому охотнику твердить и повторять свои стихи. «И он, – замечает Дмитриев, – то восторженно прочтет свое стихотворение, то несколькими тонами понизит свое чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои, как будто случайно».
* * *
В Москве до 1812 г. не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли consomme.
На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил всегда хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон, по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа.
Дмитриев отказался от него. Василий Львович подбегает к нему и говорит: «Иван Иванович, да ведь это consomme». – «Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторой досадой, – что это не ромашка, а все-таки пить не хочу». Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя он большего света не любил и никогда не ездил на вечерние многолюдные собрания.
Было какое-то торжественное празднество в кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников. А. Л. Нарышкин подходит к великому князю и говорит: «J'ai aussi un cadet ici». – «Я и не знал, – отвечает великий князь, – представь мне его». Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит: «Voici mon cadet». Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расфыркался и встряхивал своей напудренной и тщательно завитой головой[2 - По-французски слово cadet имеет значение и младшего брата.].
А. Л. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Спросили у него объяснить тому причину. Он отвечал, что причина в басне Лафонтена
Maitre-cordeau sur un arbre perche
Tenait en son bec un fromage:
Maitre-renard par l'odeur alleche
Lui tint a-peu-pre ce langage и пр.
(Вороне где-то Бог послал кусочек сыра и т. д.)
Дело в том, что у Румянцева на даче изготавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был очень лаком и начал выхвалять сыры его в надежде, что он и его оделит гостинцем.
Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».
* * *
Беклешов говорил о некоторых молодых государственных преобразованиях, в начале царствования императора Александра I: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не надивишься: один ходит по самому краю высокой крыши, другой по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах».
* * *
Каким должен был быть поучительным свидетелем для императора Павла, в час венчания его на царство, гость его, развенчанный и почти пленник его, король Станислав.
Впрочем, во всем поведении императора Павла в отношении к Станиславу было много рыцарства и утонченной внимательности. Эти прекрасные и врожденные в нем качества привлекали к нему любовь и преданность многих достойных людей, чуждых ласкательства и личных выгод. Они искупали частые порывы его раздражительного или, лучше сказать, раздраженного событиями нрава.
Нелединский долго по кончине его говорил о нем с теплой любовью, хотя и над ним разражались иногда молнии царского гнева. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в коляске его. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю: «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». – «Очень поэтически сказано, – возразил с гневом государь, – но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски». Объясняется это тем, что сие было сказано во время Французской революции, а слово представитель, как и круглые шляпы, было в законе у императора.
В эту поездку лекарь Вилие, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибочно завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилие и видит перед собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилием. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилие сказал про себя, что он анператор. «Врешь, дурак, – смеясь, сказал ему Павел Петрович, – император я, а он оператор». – «Извините, батюшка, – сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, – я не знал, что вас двое». (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)
* * *