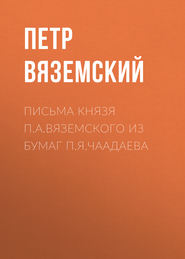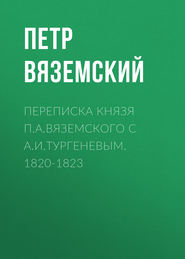По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
«Нет круглых дураков, – говорил генерал Курута, – посмотрите, например, на В.: как умно играет он в вист!»
* * *
А. Л. Нарышкин не любил государственного канцлера графа Румянцева и часто трунил над ним. Сей последний носил до конца своего косу в прическе своей. «Вот уж подлинно скажешь, – говорил Нарышкин, – нашла коса на камень».
* * *
В царствование императора Павла, когда граф Пален был петербургским военным генерал-губернатором, он обыкновенно ссужал двумя-тремя бутылками портвейна высылаемых из столицы в дальний путь, так что в домашнем кругу его это вино было прозвано: Vin des voyageurs (вино путешественников).
Однажды за обедом государь предлагает ему рюмку портвейна и говорит, что это вино очень хорошо в дороге. Пален внутренне смутился, подозревая в этих словах намек и предсказание. Но дело обошлось благополучно. Слова сказаны были случайно. Отправка портвейна продолжалась по-прежнему и, к сожалению, слишком часто. (Слышано от графа Петра Петровича Палена.)
* * *
Я. А. Дружинин, долговременно известный по министерству финансов, был в ранней молодости и почти в отрочестве чем-то вроде кабинетного секретаря при Павле Петровиче. Он каждый день и целый день дежурил в комнате перед царским кабинетом.
Эмигрант из королевской фамилии, принц де-Конде, приехал в Петербург. Однажды, на праздник Рождества, император пригласил его в сани для прогулки по городу. Молодой Дружинин на свободе задремал на стуле. Вдруг спросонья слышит он знакомый голос императора, который кричит: «Подайте мне сюда эту свинью!»
Сердце Дружинина дрогнуло. Он побоялся беды за свой неуместный и неприличный сон, но и тут обошлось благополучно. Оказалось, что Павел Петрович возил принца на рынок, чтобы показать ему выставку разной замороженной живности, купил большую мерзлую свинью и велел привезти ее во дворец. (Слышано от самого Дружинина.)
* * *
Один директор департамента делил подчиненных своих на три разряда: одни могут не брать, другие могут брать, третьи не могут не брать. Замечательно, что на общепринятом языке у нас глагол брать уже подразумевает в себе взятки. Секретарь в комедии Ябеда поет:
Бери, тут нет большой науки;
Бери, что только можешь взять:
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтобы брать, брать, брать?
Тут дальнейших объяснений не требуется: известно, о каком бранье речь идет. Глагол пить также сам собою равняется глаголу пьянствовать. Эти общеупотребляемые у нас подразумевания не лишены характерного значения. Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слова достоин и способен, часто хотелось бы ему прибавить: «способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения».
* * *
Когда назначили умного Тимковского Бессарабским губернатором, кто-то советовал ему беречься чумы. «При мне чумы не будет, – отвечал он, – чума любит раздавать ленты и аренды; а мне ни лент, ни аренд не нужно». NN говорил про него, что в Петербурге есть Тимковский Катонценсор, а этот просто Тимковский-Катон.
* * *
Говоруны (не болтуны, это другое дело, а разговорщики, рассказчики) выводятся не только у нас, где их всегда было не много, но и везде. Даже во Франции, которая была их родиной и обетованной землей, бывают они редки. Un bon conteur, un aimable causeur были там прежде в большем почете. Перед ними раскрывались настежь двери всех аристократических и умных салонов; везде теснился около них кружок отборных и внимательных слушателей. Раскройте французские мемуары последней половины минувшего столетия и вы увидите, какой славой, в придачу к их литературной известности, пользовались в парижских салонах Дидеро, Дюкло, Шамфор и др. Талейран говорил, что кто не знал парижских салонов за пятнадцать и двадцать лет до революции, тот не может иметь понятия о всей прелести общежития. Талейран и сам был корифеем в этом кругу представителей 18 века. У нас, в конце прошлого века и в начале нынешнего, даром слова и живостью рассказа отличался и славился князь Белосельский. Вот один из его рассказов.
Проездом через Лион в Турин, куда был назначен он посланником, пошел он бродить по городу. В прогулке своей заблудился он в городских улицах и никак не мог отыскать гостиницу, в которой остановился. Не зная ни названия гостиницы, ни названия улицы, на которой она стоит, не мог он даже справиться у прохожих, как бы до нее добраться.
Усталый и раздосадованный, остановился он перед домом, блистательно освещенным, откуда долетали до него звуки речей, хохот и музыка оркестра. Он решился войти в дом, назвал себя и просил дозволения участвовать в веселом торжестве. Хозяин, высокого роста и дюжий мужчина, вежливо принял его и сказал ему, что очень рад неожиданному посещению его. Князь принял участие в танцах, а после приглашен был сесть за ужин между хозяином и другими гостями такого же плотного сложения.
Посреди самой веселости в этом обществе отзывалось что-то суровое и тяжелое. Невольно сдавалось, что собеседники силятся развлечь себя от каких-то мрачных дум и неприязненных воспоминаний: казалось, они не веселятся, а стараются временно позабыться из-под гнета вчерашнего и завтрашнего дня. Все это подстрекало любопытство князя и занимало его. Добродушно чокался он рюмками с соседями своими и внутренне радовался, что случайно набрел на такую картину.
Между тем провожатый его, или лон-лакей, который где-то потерял его из виду и долго искал, напал, наконец, на следы его. Он вошел в дом и показался в дверях столовой. Начал он делать князю разные знаки, но князь не замечал их. Наконец, всё стоя в дверях, провожатый громко просил князя выйти к нему.
– Ваше сиятельство! – сказал он ему с расстроенным лицом и дрожащим голосом. – Вы не знаете, где вы находитесь!.. Этот человек, который сидит рядом с вами, по правую руку, он…
– Кто же он?
– Лионский палач.
Князь отскочил от него.
– А другой, сидящий налево… – продолжал лон-лакей.
– Ну, а он кто?
– Палач из Монпелье. Эти два исполнителя закона обвенчали детей своих и празднуют их свадьбу.
Хотя это было и ночью, но князь, добравшись до гостиницы, велел тотчас запрячь лошадей в свой дормез и поспешно выехал из города. Но долго еще после того мерещились ему два соседа его и обезглавленные тени несчастных, которых они на своем веку казнили. (Рассказ этот помещен в Записках графа Далонвиля.)
Что-то подобное случилось в Петербурге с Н. И. Огаревым, которого любили и уважали Карамзин и Дмитриев, назначивший его обер-прокурором в Правительствующий Сенат. Он был небогат и очень скромен в образе жизни своей. По утрам отправлялся он к должности своей, наняв первого извозчика, который попадал ему навстречу.
Однажды, во время такого проезда, на повороте улицы, прохожий человек что-то закричал извозчику, который тотчас остановился. Прохожий, не говоря ни слова, сел на дрожки и приказал ехать далее. Огарев, большой флегма и к тому же рассеянный, еще немного посторонился, чтобы дать ему возможность покойнее усесться. Проехав некоторое расстояние, незнакомец остановил извозчика и слез с дрожек.
Тут Огарев, опомнившись, спросил извозчика: «Как смел ты без спроса взять еще седока?»
– Помилуйте, ваше благородие, – отвечал ванька, – нельзя же было не взять его, ведь это заплечный мастер!
* * *
Русский язык похож на человека, у которого лежат золотые слитки в подвале, а часто нет двугривенника в кармане, чтобы заплатить за извозчика. Поневоле займешь у первого встречного знакомца.
* * *
По занятии Москвы французами граф Мамонов перешел в Ярославскую губернию с казацким полком, который он сформировал. Пошли тут требования более или менее неприятные, и кляузные сношения, и переписка с местными властями, по части постоя, перевозки низших чинов и других полковых потребностей. Дошла очередь и до губернатора. Тогда занимал эту должность князь Голицын (едва ли не сводный брат князя Александра Николаевича).
Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой!» Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка мой. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма говорит он: «После всего сказанного мною выше, представляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истинным почтением остаюсь я, милостивый государь мой, мой, мой (на нескольких строках) вашим покорнейшим слугой».
Граф Мамонов был человек далеко не дюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами. Говорили, что он даже приписывал рождению своему значение, которого оно не имело и по расчету времени иметь не могло. Дмитриев, который всегда отличал молодых людей со способностями и любил давать им ход, определил обер-прокурором в один из московских департаментов Сената графа Мамонова, которому было с небольшим двадцать лет. Мамонов принадлежал в Москве обществу так называемых Мартинистов. Он был в связи с Кутузовым (Павлом Ивановичем), с Невзоровым и другими лицами этого кружка. В журнале последнего печатал он свои духовные оды. Вообще в свете видали его мало и мало что знали о нем. Впрочем, вероятно, были у него свои нахлебники и свой маленький дворик. Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своей он несколько напоминал портреты Петра I.
По приезде в Москву императора Александра в 1812 году, он предоставлял свой ежегодный доход (и доход весьма значительный) на потребности государства во все продолжение войны; себе выговаривал он только десять тысяч рублей на свое годовое содержание. Вместо того было предложено ему через графа Растопчина сформировать на свой счет конный полк. Переведенный из гражданской службы в военную, переименован он был в генерал-майоры и назначен шефом этого полка. Все это обратилось в беду ему.
Он всегда был тщеславен, а эти отличия перепитали гордость его. К тому же он никогда не готовился к военному делу и не имел способностей, потребных для командования полком. Пошли беспорядки и разные недоразумения. Еще до окончательного образования полка он дрался на поединке с одним из своих штаб-офицеров, кажется, Толбухиным. Сформированный полк догнал армию нашу уже в Германии. Тут возникли у графа Мамонова неприятности с генералом Эртелем. Вследствие уличных беспорядков и драки с жителями немецкого городка, учиненных нижними чинами, полк был переформирован: Мамоновские казаки были зачислены в какой-то гусарский полк. Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль!
Полк этот, под именем Мамоновского, должен бы сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который воодушевлял русское общество. Нет сомнения, что уничтожение полка должно было горько подействовать на честолюбие графа Мамонова; но он продолжал свое воинское служение и был, кажется, прикомандирован к генерал-адъютанту Уварову. По окончании войны он буквально заперся в подмосковном доме своем, в прекрасном поместье, селе Дубровицах, Подольского уезда.
В течение нескольких лет он не видел никого, даже из прислуги своей. Все для него потребное выставлялось в особой комнате; в нее передавал он и письменные свои приказания. В спальной его были развешаны по стенам странные картины, каббалистического, а частью соблазнительного содержания.
Один Михаил Орлов, приятель его, имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещевания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества.
По управлению имением его оказались беспорядки и притеснения крестьянам, разумеется, не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил на показ ему, в виде жалобы, если не совсем поличное, то очевидное доказательство нанесенного ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались высшему начальству на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над имением его и над ним самим назначена была опека.
Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая началась таким блистательным и многообещающим утром. Есть натуры, которые, при самых благоприятных и лучших задатках и условиях, как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах.
* * *
«Нет круглых дураков, – говорил генерал Курута, – посмотрите, например, на В.: как умно играет он в вист!»
* * *
А. Л. Нарышкин не любил государственного канцлера графа Румянцева и часто трунил над ним. Сей последний носил до конца своего косу в прическе своей. «Вот уж подлинно скажешь, – говорил Нарышкин, – нашла коса на камень».
* * *
В царствование императора Павла, когда граф Пален был петербургским военным генерал-губернатором, он обыкновенно ссужал двумя-тремя бутылками портвейна высылаемых из столицы в дальний путь, так что в домашнем кругу его это вино было прозвано: Vin des voyageurs (вино путешественников).
Однажды за обедом государь предлагает ему рюмку портвейна и говорит, что это вино очень хорошо в дороге. Пален внутренне смутился, подозревая в этих словах намек и предсказание. Но дело обошлось благополучно. Слова сказаны были случайно. Отправка портвейна продолжалась по-прежнему и, к сожалению, слишком часто. (Слышано от графа Петра Петровича Палена.)
* * *
Я. А. Дружинин, долговременно известный по министерству финансов, был в ранней молодости и почти в отрочестве чем-то вроде кабинетного секретаря при Павле Петровиче. Он каждый день и целый день дежурил в комнате перед царским кабинетом.
Эмигрант из королевской фамилии, принц де-Конде, приехал в Петербург. Однажды, на праздник Рождества, император пригласил его в сани для прогулки по городу. Молодой Дружинин на свободе задремал на стуле. Вдруг спросонья слышит он знакомый голос императора, который кричит: «Подайте мне сюда эту свинью!»
Сердце Дружинина дрогнуло. Он побоялся беды за свой неуместный и неприличный сон, но и тут обошлось благополучно. Оказалось, что Павел Петрович возил принца на рынок, чтобы показать ему выставку разной замороженной живности, купил большую мерзлую свинью и велел привезти ее во дворец. (Слышано от самого Дружинина.)
* * *
Один директор департамента делил подчиненных своих на три разряда: одни могут не брать, другие могут брать, третьи не могут не брать. Замечательно, что на общепринятом языке у нас глагол брать уже подразумевает в себе взятки. Секретарь в комедии Ябеда поет:
Бери, тут нет большой науки;
Бери, что только можешь взять:
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтобы брать, брать, брать?
Тут дальнейших объяснений не требуется: известно, о каком бранье речь идет. Глагол пить также сам собою равняется глаголу пьянствовать. Эти общеупотребляемые у нас подразумевания не лишены характерного значения. Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слова достоин и способен, часто хотелось бы ему прибавить: «способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения».
* * *
Когда назначили умного Тимковского Бессарабским губернатором, кто-то советовал ему беречься чумы. «При мне чумы не будет, – отвечал он, – чума любит раздавать ленты и аренды; а мне ни лент, ни аренд не нужно». NN говорил про него, что в Петербурге есть Тимковский Катонценсор, а этот просто Тимковский-Катон.
* * *
Говоруны (не болтуны, это другое дело, а разговорщики, рассказчики) выводятся не только у нас, где их всегда было не много, но и везде. Даже во Франции, которая была их родиной и обетованной землей, бывают они редки. Un bon conteur, un aimable causeur были там прежде в большем почете. Перед ними раскрывались настежь двери всех аристократических и умных салонов; везде теснился около них кружок отборных и внимательных слушателей. Раскройте французские мемуары последней половины минувшего столетия и вы увидите, какой славой, в придачу к их литературной известности, пользовались в парижских салонах Дидеро, Дюкло, Шамфор и др. Талейран говорил, что кто не знал парижских салонов за пятнадцать и двадцать лет до революции, тот не может иметь понятия о всей прелести общежития. Талейран и сам был корифеем в этом кругу представителей 18 века. У нас, в конце прошлого века и в начале нынешнего, даром слова и живостью рассказа отличался и славился князь Белосельский. Вот один из его рассказов.
Проездом через Лион в Турин, куда был назначен он посланником, пошел он бродить по городу. В прогулке своей заблудился он в городских улицах и никак не мог отыскать гостиницу, в которой остановился. Не зная ни названия гостиницы, ни названия улицы, на которой она стоит, не мог он даже справиться у прохожих, как бы до нее добраться.
Усталый и раздосадованный, остановился он перед домом, блистательно освещенным, откуда долетали до него звуки речей, хохот и музыка оркестра. Он решился войти в дом, назвал себя и просил дозволения участвовать в веселом торжестве. Хозяин, высокого роста и дюжий мужчина, вежливо принял его и сказал ему, что очень рад неожиданному посещению его. Князь принял участие в танцах, а после приглашен был сесть за ужин между хозяином и другими гостями такого же плотного сложения.
Посреди самой веселости в этом обществе отзывалось что-то суровое и тяжелое. Невольно сдавалось, что собеседники силятся развлечь себя от каких-то мрачных дум и неприязненных воспоминаний: казалось, они не веселятся, а стараются временно позабыться из-под гнета вчерашнего и завтрашнего дня. Все это подстрекало любопытство князя и занимало его. Добродушно чокался он рюмками с соседями своими и внутренне радовался, что случайно набрел на такую картину.
Между тем провожатый его, или лон-лакей, который где-то потерял его из виду и долго искал, напал, наконец, на следы его. Он вошел в дом и показался в дверях столовой. Начал он делать князю разные знаки, но князь не замечал их. Наконец, всё стоя в дверях, провожатый громко просил князя выйти к нему.
– Ваше сиятельство! – сказал он ему с расстроенным лицом и дрожащим голосом. – Вы не знаете, где вы находитесь!.. Этот человек, который сидит рядом с вами, по правую руку, он…
– Кто же он?
– Лионский палач.
Князь отскочил от него.
– А другой, сидящий налево… – продолжал лон-лакей.
– Ну, а он кто?
– Палач из Монпелье. Эти два исполнителя закона обвенчали детей своих и празднуют их свадьбу.
Хотя это было и ночью, но князь, добравшись до гостиницы, велел тотчас запрячь лошадей в свой дормез и поспешно выехал из города. Но долго еще после того мерещились ему два соседа его и обезглавленные тени несчастных, которых они на своем веку казнили. (Рассказ этот помещен в Записках графа Далонвиля.)
Что-то подобное случилось в Петербурге с Н. И. Огаревым, которого любили и уважали Карамзин и Дмитриев, назначивший его обер-прокурором в Правительствующий Сенат. Он был небогат и очень скромен в образе жизни своей. По утрам отправлялся он к должности своей, наняв первого извозчика, который попадал ему навстречу.
Однажды, во время такого проезда, на повороте улицы, прохожий человек что-то закричал извозчику, который тотчас остановился. Прохожий, не говоря ни слова, сел на дрожки и приказал ехать далее. Огарев, большой флегма и к тому же рассеянный, еще немного посторонился, чтобы дать ему возможность покойнее усесться. Проехав некоторое расстояние, незнакомец остановил извозчика и слез с дрожек.
Тут Огарев, опомнившись, спросил извозчика: «Как смел ты без спроса взять еще седока?»
– Помилуйте, ваше благородие, – отвечал ванька, – нельзя же было не взять его, ведь это заплечный мастер!
* * *
Русский язык похож на человека, у которого лежат золотые слитки в подвале, а часто нет двугривенника в кармане, чтобы заплатить за извозчика. Поневоле займешь у первого встречного знакомца.
* * *
По занятии Москвы французами граф Мамонов перешел в Ярославскую губернию с казацким полком, который он сформировал. Пошли тут требования более или менее неприятные, и кляузные сношения, и переписка с местными властями, по части постоя, перевозки низших чинов и других полковых потребностей. Дошла очередь и до губернатора. Тогда занимал эту должность князь Голицын (едва ли не сводный брат князя Александра Николаевича).
Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой!» Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка мой. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма говорит он: «После всего сказанного мною выше, представляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истинным почтением остаюсь я, милостивый государь мой, мой, мой (на нескольких строках) вашим покорнейшим слугой».
Граф Мамонов был человек далеко не дюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами. Говорили, что он даже приписывал рождению своему значение, которого оно не имело и по расчету времени иметь не могло. Дмитриев, который всегда отличал молодых людей со способностями и любил давать им ход, определил обер-прокурором в один из московских департаментов Сената графа Мамонова, которому было с небольшим двадцать лет. Мамонов принадлежал в Москве обществу так называемых Мартинистов. Он был в связи с Кутузовым (Павлом Ивановичем), с Невзоровым и другими лицами этого кружка. В журнале последнего печатал он свои духовные оды. Вообще в свете видали его мало и мало что знали о нем. Впрочем, вероятно, были у него свои нахлебники и свой маленький дворик. Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своей он несколько напоминал портреты Петра I.
По приезде в Москву императора Александра в 1812 году, он предоставлял свой ежегодный доход (и доход весьма значительный) на потребности государства во все продолжение войны; себе выговаривал он только десять тысяч рублей на свое годовое содержание. Вместо того было предложено ему через графа Растопчина сформировать на свой счет конный полк. Переведенный из гражданской службы в военную, переименован он был в генерал-майоры и назначен шефом этого полка. Все это обратилось в беду ему.
Он всегда был тщеславен, а эти отличия перепитали гордость его. К тому же он никогда не готовился к военному делу и не имел способностей, потребных для командования полком. Пошли беспорядки и разные недоразумения. Еще до окончательного образования полка он дрался на поединке с одним из своих штаб-офицеров, кажется, Толбухиным. Сформированный полк догнал армию нашу уже в Германии. Тут возникли у графа Мамонова неприятности с генералом Эртелем. Вследствие уличных беспорядков и драки с жителями немецкого городка, учиненных нижними чинами, полк был переформирован: Мамоновские казаки были зачислены в какой-то гусарский полк. Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль!
Полк этот, под именем Мамоновского, должен бы сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который воодушевлял русское общество. Нет сомнения, что уничтожение полка должно было горько подействовать на честолюбие графа Мамонова; но он продолжал свое воинское служение и был, кажется, прикомандирован к генерал-адъютанту Уварову. По окончании войны он буквально заперся в подмосковном доме своем, в прекрасном поместье, селе Дубровицах, Подольского уезда.
В течение нескольких лет он не видел никого, даже из прислуги своей. Все для него потребное выставлялось в особой комнате; в нее передавал он и письменные свои приказания. В спальной его были развешаны по стенам странные картины, каббалистического, а частью соблазнительного содержания.
Один Михаил Орлов, приятель его, имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещевания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества.
По управлению имением его оказались беспорядки и притеснения крестьянам, разумеется, не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил на показ ему, в виде жалобы, если не совсем поличное, то очевидное доказательство нанесенного ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались высшему начальству на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над имением его и над ним самим назначена была опека.
Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая началась таким блистательным и многообещающим утром. Есть натуры, которые, при самых благоприятных и лучших задатках и условиях, как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах.
* * *