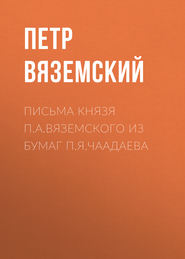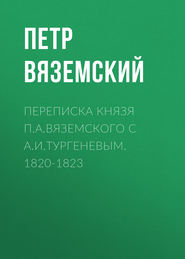По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гнедич, с дарованием, разумеется, неизмеримо выше дарования Марина, но также не сильный в знании французского языка, перевел также около того времени, и тоже ради прекрасных глаз Семеновой, другую трагедию Вольтера, Танкред.
Пушкин имел всегда на очереди какой-нибудь стих, который любил он твердить. В года молодости его и сердечных припадков было время, когда он часто повторял стих из этого перевода:
Быть может, некогда восплачешь обо мне!
* * *
Странные бывают люди! Есть, например, такие, которые на том основании, что они переносятся из места в далекое место по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница и Вольтера.
При каждом удобном, а часто и неудобном случае они на лету и с высоты вагона своего смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любуются собой в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но все же не дошел еще до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, которые ума не имеют.
Терпение! Пускай обождут они немного; может быть, такой аппарат и осуществится, и тогда разрешается им смеяться над Лейбницем и Вольтером.
* * *
А. М. Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка, и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребенки, сапоги и проч. «Не слыхал, – простодушно отвечает англичанин. – При мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по твердой земле: может быть, эта машина изобретена без меня».
* * *
Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за госпожой ***, которая не хороша собой, да и не молода. «Все это так, – отвечал князь, – но если бы ты знал, как она благодарна!»
* * *
Княгиня Ц. говорила, что она не желала бы овдоветь, а желала бы родиться вдовой.
* * *
N.N. говорит: «Жаль, что нет третьего пола для третейского и мирового суда в тяжбе между мужским и женским полом; а то судят и решат между собою дело сами подсудимые».
* * *
В одном из сражений 1813 г. Бернадот поручал старому генералу (немцу или шведу, не помнится) занять одно возвышение. Тот худо понимал, что Бернадот говорил ему на французском языке; а Бернадот не понимал расспросов генерала. Выведенный из терпения, обратился он к князю Василию Гагарину, состоявшему при нем ординарцем, и сказал своим гасконским выговором: Ayez la complaisance, prince, d'expliquer au general ce que c'est qu'une montagne, (сделайте милость, князь, объясните генералу, что такое гора); тот пришпорил лошадь и ускакал.
* * *
Денис Давыдов во время сражения докладывал князю Багратиону, по поручению начальствующего отдельным отрядом, что неприятель на носу. «Теперь, – говорит князь Багратион, – нужно знать, на каком носу: если на твоем, то откладывать нечего и должно идти на помощь; если на моем, то спешить еще ни к чему».
* * *
Е*** говорит, что в жизни должно решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты.
Р. любил выражаться округленными фразами и облекать их в форму афоризмов. Приятель его Киселев (Павел Дмитриевич) сказал ему однажды: «Знаешь ли что? Когда напишу книгу, обещай мне, что ты изготовишь эпиграфы на каждую главу».
Дяде Киселева (Федору Ивановичу) предлагали, во время оно, войти в масонское общество. «Благодарю, – отвечал он, – знаю, что общество делится на две ступени: на одной датусы, на другой биратусы. Датусом быть не хочу, а биратусом не способен».
* * *
Новые порядки – дело хорошее и естественное явление в ходу и постепенном развитии общества. Но есть люди, которые хотят и требуют новых порядков во что бы то ни стало и не справляясь, есть ли под рукой материалы и зачатки для устройства новых порядков. Это лица такого рода, что они не усомнились бы взять на себя формировку конных полков в Венеции.
* * *
Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестие. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят».
* * *
На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что. проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно?»
«Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», – отвечал он каждый раз.
«Уж воля Ее величества, – сказал он соседу своему, – а я на правду черт».
* * *
«Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом», – говорила Екатерина II какому-то генералу.
«Разница большая, – отвечал он, – сейчас доложу вашему величеству. Вот изволите видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».
«А, теперь понимаю», – сказала императрица.
* * *
Слепой Молчанов (Петр Степанович) слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и что мать бранит его. Он спрашивает причину тому. «А вот капризничает, – говорит мать, – не хочет сидеть тут, где посадили его, а просится на прежнее место». – «Помилуй, – отвечает Молчанов, – да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится».
Я не знал Молчанова, когда он был, как говорится, в случае и силе. Слышно было, что он считался всемогущим дельцом при князе Н. И. Салтыкове; а князь, в пребывание императора за границей во время войны, был чуть ли не регентом в России. Касательно этой эпохи ничего положительного о Молчанове сказать не могу: я вовсе не знал его, а худого понаслышке ничего сказать не хочу.
Сблизился я с ним уже позднее, когда был он в отставке и слеп. Нашел я в нем человека умного, обхождения самого вежливого и приятного. Отставку и слепоту переносил он бодро и ясно. Был словоохотлив, говорил и рассказывал с большой живостью и увлекательностью. Многое и многих знал он близко; знал хорошо и сцену света, и актеров, и закулисные таинства и все сохранил он в своей твердой и зеркальной памяти. Искал он беседы с людьми, почему-нибудь известными и достойными внимания. С ними он. так сказать, кокетничал, заискивая их доброе к себе расположение. Он говаривал, что можно всем прикинуться и богатым, и знатным, но умным уж никак не прикинешься, если нет ума.
Между прочими рассказами его особенно значителен один. Он свидетельствует о недоброжелательном и недоверчивом расположении императора Александра к Кутузову и поэтому принадлежит истории. Когда Наполеон в 1812 году шел к Москве, Петербург также был не очень покоен и безопасен. В нем также принимались правительством меры, чтобы заблаговременно вывезти из столицы все драгоценности, государственные дела и проч. Не был забыт и памятник Петра Великого: и он предназначался к упаковке и отправлению в безопасное место водой. И подлинно, слишком было бы грустно старику видеть, как через прорубленное им окно влезли в дом его недобрые люди.
Государь поручил спасение памятника особенной распорядительности Молчанова: секретно выдана ему на то из казначейства и надлежащая сумма. Когда, по выходе Наполеона из Москвы, действия наши приняли благополучный оборот и неприятель преследуем был нашими войсками, Молчанов при одном докладе государю напомнил о вверенной ему сумме и спросил, не прикажет ли его величество отдать ее обратно в казначейство. «Ты Кутузова не знаешь, – с живостью прервал его государь, – было бы у него все хорошо, а о других заботиться он не станет. Держи деньги пока у себя на всякий случай».
Когда Дмитриев был министром юстиции, он часто бывал недоволен Молчановым за противодействие его по делам, которые Дмитриев вносил в Комитет Министров. Оно было так для него чувствительно, что он отпросился в отпуск во время отсутствия государя. Позднее, когда он снова поступил в управление министерством, а государь возвратился из Парижа, эти неудовольствия отразились на холодном приеме, оказанном ему императором. Приближенная к государю особа выразила ему сожаление по этому поводу, заметя, что Дмитриев честный человек и пользуется общим уважением. Государь, вероятно, предубежденный князем Салтыковым, сказал на это: «Он слишком горд: не худо дать ему урок». Вскоре после того прекратились и личные министерские доклады государю. Дмитриев тогда вышел в отставку.
Много лет спустя, когда Молчанов и Дмитриев, то есть временный победитель и побежденный, были в отставке, случай свел их в Москве. Жихарев, некогда служивший при Молчанове и преданный Дмитриеву, дал им примирительный обед, при проезде первого через Москву. По крайней мере при последнем пороге жизни очистились они друг перед другом от неприязненных чувств, которые, может быть, пережили в сердцах их и самую пору, и самые причины взаимного недоброжелательства: политические и даже просто служебные разномыслия и пререкания гораздо злопамятнее, нежели сердечные и любовные размолвки.
В то время холера начинала разыгрываться. Молчанов очень боялся ее. По возвращении своем в Петербург он наглухо заперся в своем доме, как в крепости, осажденной неприятелем. Но крепость не спасла. Неприятель ворвался в нее и похитил свою жертву.
* * *
Страх холеры действовал тогда на многих; да, впрочем, по замечанию Д. П. Бутурлина, едва ли на какое другое чувство и могла бы она надеяться.
Граф Ланжерон, столько раз видавший смерть перед собою во многих сражениях, не оставался равнодушным перед холерой. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал он духовное завещание, так начинающееся: умирая от холеры и проч.
На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение.
При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем, благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а, по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря».
* * *
Пушкин имел всегда на очереди какой-нибудь стих, который любил он твердить. В года молодости его и сердечных припадков было время, когда он часто повторял стих из этого перевода:
Быть может, некогда восплачешь обо мне!
* * *
Странные бывают люди! Есть, например, такие, которые на том основании, что они переносятся из места в далекое место по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница и Вольтера.
При каждом удобном, а часто и неудобном случае они на лету и с высоты вагона своего смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любуются собой в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но все же не дошел еще до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, которые ума не имеют.
Терпение! Пускай обождут они немного; может быть, такой аппарат и осуществится, и тогда разрешается им смеяться над Лейбницем и Вольтером.
* * *
А. М. Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка, и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребенки, сапоги и проч. «Не слыхал, – простодушно отвечает англичанин. – При мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по твердой земле: может быть, эта машина изобретена без меня».
* * *
Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за госпожой ***, которая не хороша собой, да и не молода. «Все это так, – отвечал князь, – но если бы ты знал, как она благодарна!»
* * *
Княгиня Ц. говорила, что она не желала бы овдоветь, а желала бы родиться вдовой.
* * *
N.N. говорит: «Жаль, что нет третьего пола для третейского и мирового суда в тяжбе между мужским и женским полом; а то судят и решат между собою дело сами подсудимые».
* * *
В одном из сражений 1813 г. Бернадот поручал старому генералу (немцу или шведу, не помнится) занять одно возвышение. Тот худо понимал, что Бернадот говорил ему на французском языке; а Бернадот не понимал расспросов генерала. Выведенный из терпения, обратился он к князю Василию Гагарину, состоявшему при нем ординарцем, и сказал своим гасконским выговором: Ayez la complaisance, prince, d'expliquer au general ce que c'est qu'une montagne, (сделайте милость, князь, объясните генералу, что такое гора); тот пришпорил лошадь и ускакал.
* * *
Денис Давыдов во время сражения докладывал князю Багратиону, по поручению начальствующего отдельным отрядом, что неприятель на носу. «Теперь, – говорит князь Багратион, – нужно знать, на каком носу: если на твоем, то откладывать нечего и должно идти на помощь; если на моем, то спешить еще ни к чему».
* * *
Е*** говорит, что в жизни должно решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты.
Р. любил выражаться округленными фразами и облекать их в форму афоризмов. Приятель его Киселев (Павел Дмитриевич) сказал ему однажды: «Знаешь ли что? Когда напишу книгу, обещай мне, что ты изготовишь эпиграфы на каждую главу».
Дяде Киселева (Федору Ивановичу) предлагали, во время оно, войти в масонское общество. «Благодарю, – отвечал он, – знаю, что общество делится на две ступени: на одной датусы, на другой биратусы. Датусом быть не хочу, а биратусом не способен».
* * *
Новые порядки – дело хорошее и естественное явление в ходу и постепенном развитии общества. Но есть люди, которые хотят и требуют новых порядков во что бы то ни стало и не справляясь, есть ли под рукой материалы и зачатки для устройства новых порядков. Это лица такого рода, что они не усомнились бы взять на себя формировку конных полков в Венеции.
* * *
Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестие. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят».
* * *
На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что. проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно?»
«Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», – отвечал он каждый раз.
«Уж воля Ее величества, – сказал он соседу своему, – а я на правду черт».
* * *
«Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом», – говорила Екатерина II какому-то генералу.
«Разница большая, – отвечал он, – сейчас доложу вашему величеству. Вот изволите видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».
«А, теперь понимаю», – сказала императрица.
* * *
Слепой Молчанов (Петр Степанович) слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и что мать бранит его. Он спрашивает причину тому. «А вот капризничает, – говорит мать, – не хочет сидеть тут, где посадили его, а просится на прежнее место». – «Помилуй, – отвечает Молчанов, – да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится».
Я не знал Молчанова, когда он был, как говорится, в случае и силе. Слышно было, что он считался всемогущим дельцом при князе Н. И. Салтыкове; а князь, в пребывание императора за границей во время войны, был чуть ли не регентом в России. Касательно этой эпохи ничего положительного о Молчанове сказать не могу: я вовсе не знал его, а худого понаслышке ничего сказать не хочу.
Сблизился я с ним уже позднее, когда был он в отставке и слеп. Нашел я в нем человека умного, обхождения самого вежливого и приятного. Отставку и слепоту переносил он бодро и ясно. Был словоохотлив, говорил и рассказывал с большой живостью и увлекательностью. Многое и многих знал он близко; знал хорошо и сцену света, и актеров, и закулисные таинства и все сохранил он в своей твердой и зеркальной памяти. Искал он беседы с людьми, почему-нибудь известными и достойными внимания. С ними он. так сказать, кокетничал, заискивая их доброе к себе расположение. Он говаривал, что можно всем прикинуться и богатым, и знатным, но умным уж никак не прикинешься, если нет ума.
Между прочими рассказами его особенно значителен один. Он свидетельствует о недоброжелательном и недоверчивом расположении императора Александра к Кутузову и поэтому принадлежит истории. Когда Наполеон в 1812 году шел к Москве, Петербург также был не очень покоен и безопасен. В нем также принимались правительством меры, чтобы заблаговременно вывезти из столицы все драгоценности, государственные дела и проч. Не был забыт и памятник Петра Великого: и он предназначался к упаковке и отправлению в безопасное место водой. И подлинно, слишком было бы грустно старику видеть, как через прорубленное им окно влезли в дом его недобрые люди.
Государь поручил спасение памятника особенной распорядительности Молчанова: секретно выдана ему на то из казначейства и надлежащая сумма. Когда, по выходе Наполеона из Москвы, действия наши приняли благополучный оборот и неприятель преследуем был нашими войсками, Молчанов при одном докладе государю напомнил о вверенной ему сумме и спросил, не прикажет ли его величество отдать ее обратно в казначейство. «Ты Кутузова не знаешь, – с живостью прервал его государь, – было бы у него все хорошо, а о других заботиться он не станет. Держи деньги пока у себя на всякий случай».
Когда Дмитриев был министром юстиции, он часто бывал недоволен Молчановым за противодействие его по делам, которые Дмитриев вносил в Комитет Министров. Оно было так для него чувствительно, что он отпросился в отпуск во время отсутствия государя. Позднее, когда он снова поступил в управление министерством, а государь возвратился из Парижа, эти неудовольствия отразились на холодном приеме, оказанном ему императором. Приближенная к государю особа выразила ему сожаление по этому поводу, заметя, что Дмитриев честный человек и пользуется общим уважением. Государь, вероятно, предубежденный князем Салтыковым, сказал на это: «Он слишком горд: не худо дать ему урок». Вскоре после того прекратились и личные министерские доклады государю. Дмитриев тогда вышел в отставку.
Много лет спустя, когда Молчанов и Дмитриев, то есть временный победитель и побежденный, были в отставке, случай свел их в Москве. Жихарев, некогда служивший при Молчанове и преданный Дмитриеву, дал им примирительный обед, при проезде первого через Москву. По крайней мере при последнем пороге жизни очистились они друг перед другом от неприязненных чувств, которые, может быть, пережили в сердцах их и самую пору, и самые причины взаимного недоброжелательства: политические и даже просто служебные разномыслия и пререкания гораздо злопамятнее, нежели сердечные и любовные размолвки.
В то время холера начинала разыгрываться. Молчанов очень боялся ее. По возвращении своем в Петербург он наглухо заперся в своем доме, как в крепости, осажденной неприятелем. Но крепость не спасла. Неприятель ворвался в нее и похитил свою жертву.
* * *
Страх холеры действовал тогда на многих; да, впрочем, по замечанию Д. П. Бутурлина, едва ли на какое другое чувство и могла бы она надеяться.
Граф Ланжерон, столько раз видавший смерть перед собою во многих сражениях, не оставался равнодушным перед холерой. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал он духовное завещание, так начинающееся: умирая от холеры и проч.
На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение.
При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем, благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а, по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря».
* * *