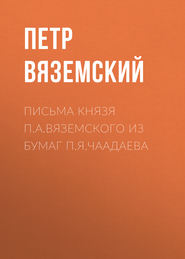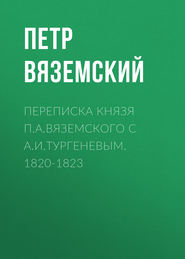По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новые книги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но был его (или «ево», сходно с текстом)
снискать усердьем привлечен.
Прошу позволения выписать биографические черты служителя, тем более что в них будут и поэтические черты господина, с примесью нескольких его домашних обстоятельств; все это, надеюсь, не наскучит читателям. Мы так мало знаем свою старину, мы так спесиво с нею обращаемся (и право не знаю, из каких доходов [спесивиться бы нам]), что я всегда рад изъявить ей свидетельство моего внимательного почтения и вместе показать, что я не слишком чванюсь тем, что многие с такою важностью и с таким самодовольствием называют ныне. Как будто вслед за этим ныне не придет завтра, которое также в свою очередь разжалует наше настоящее в давнопрошедшее. Вот что говорит поэт о своем артисте доморощенном:
Лишь шибкую черту Бушера он узрел,
К плафонну мастерству не тщетно возгорел.
Мне в роде сих трудов оставил он приметы:
В двух комнатах верхи ево рукой одеты.
Овальную ль кто зрит; иль мой квадратный зал:
Всяк скажет! Зяблов здесь всю пышность показал!
Рачитель строгих дум, достойный слез теченья!
Списатель моего ты был изобретенья…
Премерзостнейший вид… то лихоимства смрад,
С которым в мир свою к нам дщерь изрыгнул ад?
Ко омерзенью в свет что первым мной явленну:
Чрез кисть твою там зрят в плафоне оживленну.
К которому свой взор сколь крат не возведут,
Проклятие и честь столь кратно ж воздадут!..
Но есть ли в Божий храм Царя Царей кто всходит,
Тот Бога в существе присутственна находит?
Везде с политры там рассыпан фимиям!
[(Довольно смелый, но живой и выразительный стих.)]
Надзором под ево и сей созижден храм.
Подобно весь мой дом, в котором обитаю;
Я дело рук ево повсюду обретаю.
Внутри! с наружи ль что; пленить коль может взор
Иль стройно обнесен как кажется мой двор!
[(Здесь автор как будто несколько сомневается в законной принадлежности ему двора. Но здесь не поэтическая вольность, а, напротив, стихотворное порабощение, с которым иногда трудно бороться.)]
Иль ионической архитектуры виды;
Раченью в том ево не зделают обиды.
Чем стихи эти не стихи? Можно даже без большого затруднения доказать, что тут есть очевидные приметы романтизма; оспоривать народность этих стихов невозможно: они крепостные русские; местных красот, кажется, также довольно, оригинальность их не подложная. Признаюсь, они для меня и трогательны; я охотно желал бы узнать, где лежит поместье Рузаевка, и поклониться памяти и памятниками поэта и живописца. «Смрад лихоимства» и все, что до него относится, несколько темно; но, вероятно, идет тут речь об аллегорической картине, изобретенной барином, а исполненной слугою. В стихотворениях г-на Струйского много достается приказным лихоимцам: это также действие направления, данного Сумароковым, который с патриотическою смелостью напирал на пороки и злоупотребления своего времени. Сумароков имел в г-не Струйском горячего поклонника и усердного заступника. В его книге есть «Апология к потомству от Николая Струйского, или начертание о свойстве нрава Александра Петровича Сумарокова и о нравственных ево поучениях». Апология писана в опровержение статьи, напечатанной в «Петербургском вестнике» 1778 года, в которой заключается несколько предосудительных, хотя, впрочем, и умеренных отзывов о характере Сумарокова. При апологии находится и письмо к митрополиту Платону, которого сравнивает автор с Сократом; митрополит, благодаря его за присылку сочинения и за внимание, говорит ему между прочим: «Что надлежит до выхвалений, мне вами приписываемых, не признаю, чтоб я то заслуживал. Трудился я в проповедании истины Евангельския, которая столь превосходит Сократову, сколько небо землю». Все это любопытно в отношении к духу того времени; одним словом, в старых книгах наших более истории, чем в новейших; в сих последних более [отвлеченности и] метафизики. Проза г-на Струйского гораздо витиеватее его поэзии: она часто так кудрява, что я не взялся бы давать истолкование каждой фразе; но между тем все можно понять из многого, что он дорожил славою Сумарокова, как патриот и современник, с жаром, если не всегда с искусством, вступался за него и наконец заслуживает уважение наше, если оно не воздается единственно дарованию и успеху. Много еще хотелось бы мне поговорить о моем неизвестном поэте, и, право, есть что сказать, хотя об «Эпистоле к нехранящим уставы», об «Еротоидах», о «Кащее», о «Наставлении хотящим быти петиметрами» и о разных других произведениях; но надобно же знать честь: Аннибал нас и так давно уже ждет. Дайте сказать еще слово, и кончу. Мне в этой книге очень понравилась недомолвка в одном заглавии. Следующие стихи:
Хорош и твой Милон!
Изволька посмотреть, отвесил он
Какой поклон! –
названы не эпиграммою, как прочие стихи такого рода, а «епиг». Это застенчивое усечение мило до крайности, и советую многим из наших эпиграмматистов перенять его при случае. И у них эпиграммы часто без конца, как переломленные стрелы.
От г-на Струйского столетия прошедшего перейдем к его соименнику нашего столетия. Только не бойтесь, любезные читатели: зная, что наш век гораздо быстрее на ходу, чем старый, пробегу с вами наскоро новое произведение и сам не засижусь с «Аннибалом на развалинах Карфагена». Каково кажется вам это заглавие? Вы, может быть, скажете, что Аннибал не видал развалин Карфагена, что этот город подвергнулся роковому обречению настойчивого Катона уже в третью Пуническую войну, что Аннибал погиб до нее, что, следовательно, он не умер на развалинах Карфагена, как умирает во второй раз прямо насильственною смертью в поэме г-на Струйского; все это так, по истории, но, во-первых, уже сказано: не всякому слуху верь; во-вторых, в этом заглавии есть вымысл поэтический, а наших поэтов именно и упрекают в бедности вымысла. Поэт хотел пощеголять своим, назло товарищам, и преобразовал жребий Аннибала по-своему. Драматическая поэма разделена на три отделения: в первом Аннибал говорит сам с собою и потом с супругою своею Бериссою; во втором разговор Сципиона с Аннибалом похож в некотором отношении на разговор Триссотина с Вадиусом, начатый мадригалами и конченный эпиграммами. В третьем Аннибал увещевает своих воинов идти на освобождение Карфагена, но воины отнекиваются, и тем кончается, что Аннибал вынимает яд и поспешно его выпивает. В числе многих рифм, употребленных поэтом произвольно, замечательна одна, также по вымыслу, рифма на анаграмму: Рима и мира. На нашем языке; бедном рифмами, может быть и эта попытка не лишняя.
Легко станется, что для многих читателей такой разбор, как тот, который здесь предлагается, покажется совершенно неуместным, некстати поверхностным и, одним словом, не довольно дельным. Итак, в угодность им вот степенное суждение о драматической поэме г-на Д. Струйского. Основание ее, как мы видели, несообразно с истиною в таком предмете, где поэту не позволено искажать события до этой степени. В речах Аннибала и Сципиона мы также не слышим знакомых нам героев древности, как не узнаем Аннибала на развалинах Карфагена. Со всем тем в сем произведении встречается несколько хороших и сильных отдельных стихов, отзываются некоторый жар в выражении, некоторая твердость и движение в стихосложении. Одним словом, сдается что-то поэтическое. Сбудется ли в другом творении это слегка назначенное предчувствие, или нет, неизвестно; но на всякий случай можно посоветовать поэту поступать с историею осторожнее и почтительнее, не заставляя героев переступать насильственно шаг «от великого до смешного». К чему относит автор избранный им эпиграф? догадаться трудно. Если к своему герою, то неосновательно. В древности бедствие великого человека не имело в себе ничего смешного: осмеяние (le ridicule) есть горький плод новейшей образованности. В падении Аннибала с вершины славы нет ничего смешного, а много грозного и поучительного.
Приписка. Этот второй Струйский африканский, в отличие от первого Струйского рузаевского, может быть тот же Струйский, который после под псевдонимом Трилунного печатал очень порядочные, а иногда и хорошие стихи в разных повременных изданиях. Если так, то винюсь перед ним или перед тенью его, если он уже в полях елисейских, что в былое молодое время отозвался я, о нем не совсем благоприятно и несколько насмешливо. Дело журнальное. Кажется, напрасно выпущен он вовсе из гостеприимной хрестоматии для всех, изданной г. Гербелем в 1873 году. В русской хрестоматии для всех, пищущих и читающих, Трилунный имеет свое законное место, и не в числе самых последних. Сужу по крайней мере так по темным впечатлениям, которые сохранились во мне от давнего прочтения некоторых из стихотворений его. Но вот воспоминание о самом Трилунном, которое крепко врезалось в меня. В 1834 году гулял я во Флоренции по саду, который прозывается Boboli. Сад был совершенно пустынный. Вдруг в одной аллее кажется мне, что идет навстречу кто-то в форменном русском служебном фраке. Это перенесло меня в петербургский Летний сад: не мог я дать себе прямой отчет в видении, рисовавшемся передо мною. Это был молодой Трилунный, то есть Струйский. Чем же все это пояснилось? Струйский был небогатый чиновник: поэтическое влечение уносило его в далекие края, туда, wo die Citronen bl?hn. Он, кое-как бережливостью своею сколотил из скудного жалованья небольшую сумму и отправился путешествовать по Европе: путешествовать в буквальном смысле этого глагола – и едва ли не обходил он пешком всю Европу. Везде, где он ни был, осмотрел он все, что достойно внимания; по возможности со всем и со многими ознакомился. В Риме, где я после опять с ним виделся, был он дружелюбно встречен русскими художниками, пребывающими в Риме. Одним словом, если не оставил он по себе поэмы, которая передаст имя его уважению грядущих поколений, то он из жизни своей извлек для себя по возможности много поэзии. Около двух лет продолжалась мирная одиссея русского странника и поэта. Много потребно было силы воли и пламени в душе, чтобы совершить такой подвиг. Это не в русских нравах, не в русских обычаях, не в русской натуре. А вот история мундирного фрака. Не желая тратить деньги на щегольское одеяние, присвоенное туристу, он донашивал свою форменную одежду. В ней не хуже, нежели в модном костюме, мог он любоваться картинами великолепной природы, изучать памятники искусства, воспитывать ум и чувства свои в созерцании явлений изящных и поучительных. Он так и сделал. И прекрасно! Прошло уже сорок лет, а я и ныне мысленно смотрю с уважением и особенным сочувствием на этот мундирный фрак, встреченный мною в саду Боболи. В этой, хотя и казенной, вывеске есть много поэзии: гораздо более, нежели во многих стихах многих поэтов.
notes
Сноски
1
Хотя искусству был сему и не учен,
Но был его (или «ево», сходно с текстом) снискать усердьем привлечен.
снискать усердьем привлечен.
Прошу позволения выписать биографические черты служителя, тем более что в них будут и поэтические черты господина, с примесью нескольких его домашних обстоятельств; все это, надеюсь, не наскучит читателям. Мы так мало знаем свою старину, мы так спесиво с нею обращаемся (и право не знаю, из каких доходов [спесивиться бы нам]), что я всегда рад изъявить ей свидетельство моего внимательного почтения и вместе показать, что я не слишком чванюсь тем, что многие с такою важностью и с таким самодовольствием называют ныне. Как будто вслед за этим ныне не придет завтра, которое также в свою очередь разжалует наше настоящее в давнопрошедшее. Вот что говорит поэт о своем артисте доморощенном:
Лишь шибкую черту Бушера он узрел,
К плафонну мастерству не тщетно возгорел.
Мне в роде сих трудов оставил он приметы:
В двух комнатах верхи ево рукой одеты.
Овальную ль кто зрит; иль мой квадратный зал:
Всяк скажет! Зяблов здесь всю пышность показал!
Рачитель строгих дум, достойный слез теченья!
Списатель моего ты был изобретенья…
Премерзостнейший вид… то лихоимства смрад,
С которым в мир свою к нам дщерь изрыгнул ад?
Ко омерзенью в свет что первым мной явленну:
Чрез кисть твою там зрят в плафоне оживленну.
К которому свой взор сколь крат не возведут,
Проклятие и честь столь кратно ж воздадут!..
Но есть ли в Божий храм Царя Царей кто всходит,
Тот Бога в существе присутственна находит?
Везде с политры там рассыпан фимиям!
[(Довольно смелый, но живой и выразительный стих.)]
Надзором под ево и сей созижден храм.
Подобно весь мой дом, в котором обитаю;
Я дело рук ево повсюду обретаю.
Внутри! с наружи ль что; пленить коль может взор
Иль стройно обнесен как кажется мой двор!
[(Здесь автор как будто несколько сомневается в законной принадлежности ему двора. Но здесь не поэтическая вольность, а, напротив, стихотворное порабощение, с которым иногда трудно бороться.)]
Иль ионической архитектуры виды;
Раченью в том ево не зделают обиды.
Чем стихи эти не стихи? Можно даже без большого затруднения доказать, что тут есть очевидные приметы романтизма; оспоривать народность этих стихов невозможно: они крепостные русские; местных красот, кажется, также довольно, оригинальность их не подложная. Признаюсь, они для меня и трогательны; я охотно желал бы узнать, где лежит поместье Рузаевка, и поклониться памяти и памятниками поэта и живописца. «Смрад лихоимства» и все, что до него относится, несколько темно; но, вероятно, идет тут речь об аллегорической картине, изобретенной барином, а исполненной слугою. В стихотворениях г-на Струйского много достается приказным лихоимцам: это также действие направления, данного Сумароковым, который с патриотическою смелостью напирал на пороки и злоупотребления своего времени. Сумароков имел в г-не Струйском горячего поклонника и усердного заступника. В его книге есть «Апология к потомству от Николая Струйского, или начертание о свойстве нрава Александра Петровича Сумарокова и о нравственных ево поучениях». Апология писана в опровержение статьи, напечатанной в «Петербургском вестнике» 1778 года, в которой заключается несколько предосудительных, хотя, впрочем, и умеренных отзывов о характере Сумарокова. При апологии находится и письмо к митрополиту Платону, которого сравнивает автор с Сократом; митрополит, благодаря его за присылку сочинения и за внимание, говорит ему между прочим: «Что надлежит до выхвалений, мне вами приписываемых, не признаю, чтоб я то заслуживал. Трудился я в проповедании истины Евангельския, которая столь превосходит Сократову, сколько небо землю». Все это любопытно в отношении к духу того времени; одним словом, в старых книгах наших более истории, чем в новейших; в сих последних более [отвлеченности и] метафизики. Проза г-на Струйского гораздо витиеватее его поэзии: она часто так кудрява, что я не взялся бы давать истолкование каждой фразе; но между тем все можно понять из многого, что он дорожил славою Сумарокова, как патриот и современник, с жаром, если не всегда с искусством, вступался за него и наконец заслуживает уважение наше, если оно не воздается единственно дарованию и успеху. Много еще хотелось бы мне поговорить о моем неизвестном поэте, и, право, есть что сказать, хотя об «Эпистоле к нехранящим уставы», об «Еротоидах», о «Кащее», о «Наставлении хотящим быти петиметрами» и о разных других произведениях; но надобно же знать честь: Аннибал нас и так давно уже ждет. Дайте сказать еще слово, и кончу. Мне в этой книге очень понравилась недомолвка в одном заглавии. Следующие стихи:
Хорош и твой Милон!
Изволька посмотреть, отвесил он
Какой поклон! –
названы не эпиграммою, как прочие стихи такого рода, а «епиг». Это застенчивое усечение мило до крайности, и советую многим из наших эпиграмматистов перенять его при случае. И у них эпиграммы часто без конца, как переломленные стрелы.
От г-на Струйского столетия прошедшего перейдем к его соименнику нашего столетия. Только не бойтесь, любезные читатели: зная, что наш век гораздо быстрее на ходу, чем старый, пробегу с вами наскоро новое произведение и сам не засижусь с «Аннибалом на развалинах Карфагена». Каково кажется вам это заглавие? Вы, может быть, скажете, что Аннибал не видал развалин Карфагена, что этот город подвергнулся роковому обречению настойчивого Катона уже в третью Пуническую войну, что Аннибал погиб до нее, что, следовательно, он не умер на развалинах Карфагена, как умирает во второй раз прямо насильственною смертью в поэме г-на Струйского; все это так, по истории, но, во-первых, уже сказано: не всякому слуху верь; во-вторых, в этом заглавии есть вымысл поэтический, а наших поэтов именно и упрекают в бедности вымысла. Поэт хотел пощеголять своим, назло товарищам, и преобразовал жребий Аннибала по-своему. Драматическая поэма разделена на три отделения: в первом Аннибал говорит сам с собою и потом с супругою своею Бериссою; во втором разговор Сципиона с Аннибалом похож в некотором отношении на разговор Триссотина с Вадиусом, начатый мадригалами и конченный эпиграммами. В третьем Аннибал увещевает своих воинов идти на освобождение Карфагена, но воины отнекиваются, и тем кончается, что Аннибал вынимает яд и поспешно его выпивает. В числе многих рифм, употребленных поэтом произвольно, замечательна одна, также по вымыслу, рифма на анаграмму: Рима и мира. На нашем языке; бедном рифмами, может быть и эта попытка не лишняя.
Легко станется, что для многих читателей такой разбор, как тот, который здесь предлагается, покажется совершенно неуместным, некстати поверхностным и, одним словом, не довольно дельным. Итак, в угодность им вот степенное суждение о драматической поэме г-на Д. Струйского. Основание ее, как мы видели, несообразно с истиною в таком предмете, где поэту не позволено искажать события до этой степени. В речах Аннибала и Сципиона мы также не слышим знакомых нам героев древности, как не узнаем Аннибала на развалинах Карфагена. Со всем тем в сем произведении встречается несколько хороших и сильных отдельных стихов, отзываются некоторый жар в выражении, некоторая твердость и движение в стихосложении. Одним словом, сдается что-то поэтическое. Сбудется ли в другом творении это слегка назначенное предчувствие, или нет, неизвестно; но на всякий случай можно посоветовать поэту поступать с историею осторожнее и почтительнее, не заставляя героев переступать насильственно шаг «от великого до смешного». К чему относит автор избранный им эпиграф? догадаться трудно. Если к своему герою, то неосновательно. В древности бедствие великого человека не имело в себе ничего смешного: осмеяние (le ridicule) есть горький плод новейшей образованности. В падении Аннибала с вершины славы нет ничего смешного, а много грозного и поучительного.
Приписка. Этот второй Струйский африканский, в отличие от первого Струйского рузаевского, может быть тот же Струйский, который после под псевдонимом Трилунного печатал очень порядочные, а иногда и хорошие стихи в разных повременных изданиях. Если так, то винюсь перед ним или перед тенью его, если он уже в полях елисейских, что в былое молодое время отозвался я, о нем не совсем благоприятно и несколько насмешливо. Дело журнальное. Кажется, напрасно выпущен он вовсе из гостеприимной хрестоматии для всех, изданной г. Гербелем в 1873 году. В русской хрестоматии для всех, пищущих и читающих, Трилунный имеет свое законное место, и не в числе самых последних. Сужу по крайней мере так по темным впечатлениям, которые сохранились во мне от давнего прочтения некоторых из стихотворений его. Но вот воспоминание о самом Трилунном, которое крепко врезалось в меня. В 1834 году гулял я во Флоренции по саду, который прозывается Boboli. Сад был совершенно пустынный. Вдруг в одной аллее кажется мне, что идет навстречу кто-то в форменном русском служебном фраке. Это перенесло меня в петербургский Летний сад: не мог я дать себе прямой отчет в видении, рисовавшемся передо мною. Это был молодой Трилунный, то есть Струйский. Чем же все это пояснилось? Струйский был небогатый чиновник: поэтическое влечение уносило его в далекие края, туда, wo die Citronen bl?hn. Он, кое-как бережливостью своею сколотил из скудного жалованья небольшую сумму и отправился путешествовать по Европе: путешествовать в буквальном смысле этого глагола – и едва ли не обходил он пешком всю Европу. Везде, где он ни был, осмотрел он все, что достойно внимания; по возможности со всем и со многими ознакомился. В Риме, где я после опять с ним виделся, был он дружелюбно встречен русскими художниками, пребывающими в Риме. Одним словом, если не оставил он по себе поэмы, которая передаст имя его уважению грядущих поколений, то он из жизни своей извлек для себя по возможности много поэзии. Около двух лет продолжалась мирная одиссея русского странника и поэта. Много потребно было силы воли и пламени в душе, чтобы совершить такой подвиг. Это не в русских нравах, не в русских обычаях, не в русской натуре. А вот история мундирного фрака. Не желая тратить деньги на щегольское одеяние, присвоенное туристу, он донашивал свою форменную одежду. В ней не хуже, нежели в модном костюме, мог он любоваться картинами великолепной природы, изучать памятники искусства, воспитывать ум и чувства свои в созерцании явлений изящных и поучительных. Он так и сделал. И прекрасно! Прошло уже сорок лет, а я и ныне мысленно смотрю с уважением и особенным сочувствием на этот мундирный фрак, встреченный мною в саду Боболи. В этой, хотя и казенной, вывеске есть много поэзии: гораздо более, нежели во многих стихах многих поэтов.
notes
Сноски
1
Хотя искусству был сему и не учен,
Но был его (или «ево», сходно с текстом) снискать усердьем привлечен.