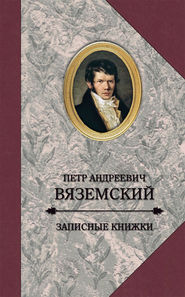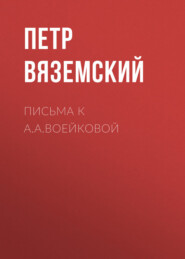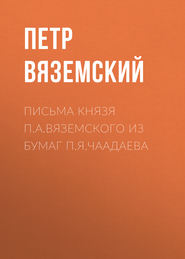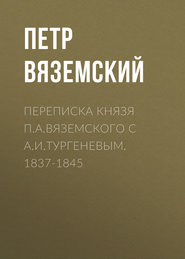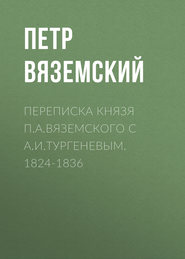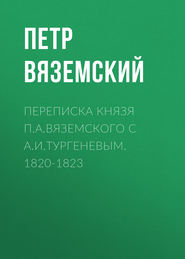По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фон-Визин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Марья.
После этого я, конечно, знаю, что думать о вашем дядюшке?
Княгиня.
А propos! Дядюшка мой, я думаю, сегодня с дачи воротится, куда изволил он вчера повезти твоего почтенного старичка. Слава Богу, что они, хотя на одни сутки, оставили нас в повое. Я расскажу тебе, как без них проводила я вчерашний вечер, чтоб ты порадовалась веселью госпожи своей.
Марья.
Расскажите, сударыня!
Княгиня.
Ты знаешь, что я недавно сговорила Аннушку, мою племянницу, за унтер-офицера Дурашкина?
Mарья.
Знаю, сударыня, я очень об ней жалею. Она такая милая, а вы выдаете ее по неволе и за кого? за Дурашкина!
Княгиня.
Ах, Боже мой! Это что такое? Он малой молодой, не убог. Выдаете по неволе? да что это значит? Я сама была за тремя мужьями: за первым по воле, за вторым поневоле, за третьим ни так, ни сяк, а грешна перед всеми. Это все не потому, Марьюшка, а говорится, как кому по натуре. Всего хуже не быть ни за кем. Вот теперь я третий раз вдовею, а за четвертого вытти нельзя. Стала, как рак на мели, (очень печально) признаться искренно. Я женщина слабая. Истинно, как век доживать не знаю.
Марья.
Это подлинно жалко, да вы в позабыли рассказать мне?..
Княгиня.
Да, да, да, я вчера вечер провела у родной тетки Дурашкина, у геверальши Халдиной. Гостей было множество. Мне бы только не спускать глаз с моего ангела. Просидела до двух часов за полночь, Я осталась бы и доле, да все дамы разъехались: и я принуждена была оставить князя тут за картами. Он играл с Сорванцевым.
Марья.
Да князек-ат отвечает ли вам?
Княгиня.
Ах, Марьюшка, он так молод, так нов, что я прихожу в отчаяние. Я бросала на него страстные взоры прямо, а он глядел в сторону. Сколько раз вчера, сидя подле него, наступала я ему тихонько на ногу: а он всякий раз извинялся вслух, что своей ногой меня обеспокоил. Истинно боюсь, чтоб вдруг не обезумить, и при всей публике не потерять благопристойности.
Марья.
Ст….. княгиня!
По отрывку, вод названием: Мнение о избрании пиес в Московские сочинения, видно, что он был один из учредителей общества, которое готовилось издавать периодическое собрание. В числе правил, постановленных им, замечательно следующее: не принимать никаких переводов; следовательно в то время это было дело сбыточное, что, впрочем, и доказано «Собеседником». Ныне какому журналисту придет в голову наложить на себя подобную клятву, которая равнялась бы обречению себя на голодную смерть. Выше сего мы видели, что Фон-Визин, в молодости своей, занимался переводом с подлинника Овидиевых превращений. В бумагах его найден нами отрывок перевода из Илиады. Предлагаем читателям сию попытку, хотя и не имеет она большого литературного достоинства. Сомнительно, знал ли Фон-Визин греческий язык, но, перевод по удостоверению знатоков, близок и, вероятно, составлен по надстрочному переводу, или с буквальной диктовки еллиниста.
ПЕСНЬ 6.
Боги оставили страшную битву; но смертоносное рвение являлось еще до неким местам ратного поля и стрелы обоих войск мешались между брегами Синоиса и Ксанфа.
Аякс Теламонид, сия твердая Греков подпора, в Троянский ряд вломился первый и возвращает надежду в сердца своих спутников, сразя Фракийского начальника Акамаса, сына Евиорова, столь знаменитого силою, сколько роста высотою: копье Аяксово досягает до верха шлема его, обвитого густыми перьями проницает чело и пронзает ему кость: очи его покрылись непроницаемою завесою смерти.
Диомет приносит в жертву Теутранесова сына Авсила, обитавшего в великолепных Арисбских стенах и владевшего многими сокровищами; друг человеческого рода, посвятил он гостеприимству дом свой, при большом пути стоящий: но из всех, им угощенных, никто не подвергнул себя опасности, дабы смерть от него отвратити. Единый Калезий, верный ему раб, ведущий тогда коней его, умирает близ него от руки Диомедовой.
Евриал сражает Дреза и Офелта и тотчас напал на Эзепа и Педаза, рожденных от Наяды Абарбареи и Буколиона, старшого сына царя Лаомедона и происшедшего от потаенного брака. Буколион пас стада, когда соединился с сего Наядою, которая, нося в лоне своем плод любви, сих двух близнецов в свет произвела. Сын Мекистеев, не трогаяся ни юностию, ни красотою, на песок его повергает и от него оружие отъемлет.
Неустрашимый Полипэт повергает Астиала; Улисс стрелою убивает Пидита, прибывшего из Перкоса; Тевкер проливает знаменитую кровь Аретаона, и сын Нестеров Антилох, вооруженный блестящим копием, Абеера поражает. Начальник войска Агамемнон разит смертно Элата, царствовавшего в возвышенных стенах Педаза, на прекрасных брегах Сатнионских. Леит, славный воин, отнимает жизнь у Филака, бежавшего пред стопами его, а Меланфий под Еврипиловым мечем упадает.
Храбрый Менелай пленяет Адраста; кони сего начальника, объятые ужасом, побегли быстро в поле, но, удержанные пнем древа, раздробляют колесницу близ дышла: они мчатся за множеством коней устрашенных, летевших ко граду, когда воин, катясь с колесницы, у колес лицем к земле упадает. Менелай был возле его, держащий в деснице длинное копье. Адраст объемлет колена его и, молящим гласом, вещает ему: дай мне оковы, о сын Атрея! и прими достойную мзду моей свободы; чертоги отца моего изобилуют драгоценнейшими сокровищами, златом, медию и кованным железом; родитель мой все тебе отдаст за мое искупление, как скоро узнает, что я жив при Греческих судах.
Сим молением преклонял он сердце Менелаево, который повелел уже единому из своих вести его к кораблям, но Агамемнон притекает раздраженный: «О Менелай!» вопиет он: «воин слабый! Тебе ль пещись о спасении врагов наших? Трояне без сомнения подали дому твоему великую вину благодарности, да не избегнет никто из них десницы нашей, да не пощадится и младенец, носимый матерью в утробе; но да погибнут все обитающие Иллион, да трупы их земле не предадутся, и да (здесь кончается перевод.)»
Известно также, что он переводил, и вероятно по поручению начальства, книгу: «О вольности французского дворянства и о пользе третьего чина»; тут же приложено и рассуждение о третьем чине. Сей труд, писанный рукою Фон-Визина, должен храниться в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел, Пушкин говорил мне о каком-то теологическом памфлете, писанном будто Фон-Визиным, под названием: Аввакум Скитник. Сочинения под таким названием мы не отыскали, но нашли другое, которое могло подать повод в ошибочному преданию. В числе Русских библиографических редкостей есть Жизнь некоторого мужа и перевоз куриозной души его чрез Стикс реку. Сей некоторый муж, по словам повествования, родился близ реки Оби в весьма набожном Аввакумовском ските, и проч. Сочинение же сие приписано Фон-Визину вероятно потому, что оно напечатано, по крайней мере вторым тиснением (в С.-Петербурге, 1788 года), вместе с «Посланием к слугам моим». Но по сведениям, более достоверным, оно плод пера Адама Васильевича Олсуфьева, статс-секретаря при Императрице Екатерине II, который в свое время известен был шутливостью ума своего и необыкновенным обжорством. Согласно с теми же сведениями, оно издано в свет по одному поводу с посланием Фон-Визина, то есть во дни публичного маскарада, данного в Москве на сырной неделе, и воспользовалось с близнецом своим свободою, которая предоставляется маскам. Ныне, читая сей памфлет, или пасквиль, трудно доискаться сокрытого смысла и ключа к содержащимся в нем намекам, но догадываешься, что тут есть портрет, или каррикатура, известного в той эпохе лица. Очевидно также, что кистью автора водило недоброжелательство, единомышленное с тем, которым увлечен был Ломоносов, когда он воспевал гимн бороде, перестроив торжественную лиру свою на сатирический и простонародный лад. Во всяком случае, оценив эту шалость в литературном достоинстве, невозможно приписывать ее Фон-Визину; в ней нет ни остроумия, ни слога его.
В конце жизни своей он переводил, или готовился переводить и Тацита. В журнале его, под заметкой 14-го Февраля 1790 года, находим: «Поутру послал письмо к Государыне о Таците». Сколь нам известно, ответ был неблагоприятен. Первые переводы Летописей Тацита: Румовского и Поспелова, появились уже вначале царствования Александра. В бумагах Фон-Визива не нашлось никаких следов ни перевода Овидиевых превращений, ни перевода творений Римского историка. Это потеря для нашей словесности. Особенно в переводе Тацита Фон-Визин, вероятно, имел бы хороший успех: слог его, довольно холодный и малоуступчивый, едва ли бы мог с равною удачею передать мягкость и блестящую игривость Латинского поэта. Кажется, что Государыня, под конец, уже не благоволила к Фон-Визину. Рассказывают, что он, по заказу графа Панина, написал одно политическое сочинение для прочтения Наследнику. Оно дошло до сведения Императрицы, которая осталась им недовольною и сказала однажды, шутя, в кругу приближенных своих: «худо мне жить приходит: уж и г-н Фон-Визин хочет учить меня царствовать!»
Глава XII
При скудости нашей в подробных и личных сведениях о многих годах из жизни Фон-Визина можем почесть особенным счастием, что имеем возможность рассказать читателям нашим, как провел он свой последний, предсмертный вечер. Живой рассказ наш взят со слов очевидца и собеседника его. Нам уже известно, что автор наш был в приятельских связях с Державиным, с которым в подобных же отношениях был и И. И. Дмитриев, оставивший в записках своих краткие, но мастерски обрисованные и занимательные заметки о личности и характере великого поэта. По изъявленному Фон-Визиным желанию Державин познакомил его с Дмитриевым. По возвращении из последней поездки в Белоруссию, куда вызвали его хозяйственные дела и тяжба, страдалец выезжал всегда в сопровождении двух молодых Шкловских воспитанников, служивших ему вожатыми и чтецами. Грустно было первое впечатление при встрече с сею едва движущеюся развалиною. Но и она была еще озарена не совсем угасшим пламенем умственной и внутренней силы. Он был еще словоохотлив и остроумен. Литература до последнего дня его была ему живым источником веселых вдохновений, бодрости и забвения житейских недугов и лишений. Параличом разбитый язык его произносил слова с усилием и медленно, но речь его была жива и увлекательна. При этом свидании он, между прочим, забавно рассказывал о каком-то уездном почтмейстере, который выдавал себя за усердного литератора и поклонника Ломоносова. На вопрос же, которая из од его ему более нравится, отвечал он простодушно: «Ни одной не случилось читать». Ответ забавный, но, впрочем, в наше время не удивительный. Если бы ныне допросить многих из так называемых критиков наших, которые повелительно рядят и судят о Ломоносове и о других, по их мнению, допотопных явлениях словесности нашей, то и они добросовестно должны были бы сознаться, что и им не пришлось читать ни Ломоносова, ни Петрова, ни Сумарокова, ни Хераскова, ни Богдановича, которых, однако же, перечитывали и изучали Жуковский, Батюшков и Пушкин. Для нового поколения нашего, которое до головокружения, беспамятства и одышки бежит за успехами века, для этих почтмейстеров новейшей литературы, озабоченных также гоньбою времени, некогда и не для чего оглядываться обратно. Они знают, и то мимоходом, только тех проезжих, которые налицо, а вчерашние давным-давно канули для них в вечность. Но обратимся к нашему рассказу и для большего удовольствия читателей уступим место самому рассказчику и приведем отрывок из собственноручных записок его, еще не изданных.
«Через Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фон-Визиным. По возвращении его из Белорусского своего поместья, он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. Я не знавал его в лицо, как и он меня. Назначен был день свидания, 6 шесть часов пополудни приехал Фон-Визин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул, и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными из Шкловского кадетского корпуса и приехавшими с ним из Белоруссии.
Уже он не мог владеть одною рукою; равно и одна нога одервенела: обе поражены были параличем; говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался; он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я Недоросля? читал ли Послание к Шумилову, Лису кознодейку, перевод его Похвального слова Марку Аврелию? и так далее; как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об Душеньке. Она из лучших произведений нашей поэзии, отвечал я – прелестна! подтвердил он с выразительною улыбкою;– потом Фон-Визин сказал хозяину, что он привез ему свою комедию: Гофмейстер (вероятно ту, которая в сочинениях его напечатана под названием: Выбор гувернера). Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых. Тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения, автор глазами, киванием головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились».
«Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Не смотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. Во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только русского литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. – Которую же из он его признаете вы лучшею? – Ни одной не случилось читать, ответствовал ему почтмейстер. За то, продолжал Фон-Визин, доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились и жужжали. Однажды докладывают мне: приехал трагик; принять его, сказал я, и черев минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговоров, он просит меня выслушать трагедию его в новом вкусе. Нечего делать: прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедий окончиваются добровольным, или насильственным убийством, а его героиня, или главное лицо, умрет естественною смертию. – И в самом деле, заключил Фон-Визин, героиня его от акта до акта чахла, чахла, и наконец издохла.
Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а на утро он уже был в гробе».
Так прошел замечательный вечер посреди трех представителей, трех многозначительных выражений нашей литературы. Одно в лице Фон-Визина уже ослабевшее и которому суждено было чрез несколько часов навсегда умолкнуть; другое во всей звучной полноте, во всем блеске силы и славы; третье только что возникало, но, вслушиваясь в него, можно было уже угадывать, что оно вскоре смягчит и умерит поэтическую речь нашу, несколько напыщенную и бессменно торжественную. Еще несколько опытов, и оно должно было изменить русский стих: придать ему более гибкости, обогатить его новыми оборотами и оттенками, в которых мысль и чувство отразятся свободнее и простее, сближаясь более и более с природою, истиною и жизнью.
Таким образом, вслед за описанным вечером, на другое утро, то есть 1 декабря 1792 года, Фон-Визина не стало. 1 декабря вдвойне памятно в летописях русской словесности: кончиною творца «Недоросля» и рождением Карамзина, которому суждено было довершить и полнейшим развитием усовершенствовать и установить начатый Фон-Визиным переворот в нашей прозе. Первый проложил новую тропу, но не вследствие обдуманного изучения предмета своего, а просто, можно сказать, без создания, по одной счастливой оригинальности таланта. Может быть, и оттого, что он не был человек кабинетный, писал урывками, между делом и обязанностями службы деятельной и прямо государственной; но как бы ни было, а, несмотря на блистательные литературные успехи, он никогда не мог быть образцом и не был главою новой школы. Пример преемника его должен был сделаться действительнее и многоплоднее: в нем в равной степени и силе соединились и то, что природа дарует некоторым избранным, и то, что покупается тяжелою ценою труда, учения и постоянного упражнения. В слоге Фон-Визина не замечаешь возрастающего усовершенствования. В постепенности творений его нет этих резко означенных слоев, по коим можно следить за художественным производством и внутреннею переработкою дарования, которое само себя воссоздает и образует. Одно у него лучше написано, нежели другое, но это единственно по вдохновению минуты или сочувствию с предметом, который попадает под перо его. Достоинства и погрешности языка и слога его одинаковы в «Бригадире» и в письмах его из Франции, в начале и конце литературного поприща его. Ум его мог созревать и постепенно осаживаться под влиянием новых понятий и нового образа мыслей, но он не давал труда себе переработывать и улучшать орудие ума своего. В творениях Карамзина превосходство слога следует, так сказать, хронологическому порядку. Слог его зреет и мужает безостановочно. С каждым днем авторства его, то есть с каждым днем его жизни, с каждою написанною им страницею он более и более владеет языком: иссекает из него новые тайны, новые средства, новые богатства. Дело в том, что в Фон-Визине как писателе было только блистательное дарование. В Карамзине было и дарование необыкновенное, и вместе с тем врожденное и глубоко обдуманное художество. Эта художественная сторона писателей совершенно ускользает от критиков, не посвященных в искусство и не одаренных художественным взглядом. Они обыкновенно судят о писателе и оценивают творения его по одному сочувствию с образом мыслей его или, еще чаще, с односторонним направлением каких-нибудь условных понятий или на ту пору господствующих предубеждений. Если образ мыслей писателя не сходствует с их понятиями, не соответствует, по их мнению, так называемым потребностям века, то они в невежестве своем выдают нелепые приговоры, что язык, что слог того-то или другого устарел. Сами лишенные всякого приготовительного образования, они почерпают все сведения свои из ежедневной, мелкой, текущей литературы. Они тупеют в убеждении, что неведомое им было до того дня неведомо и прочим. Смотрите, с какою ребяческою жадностью ловят они и усвоивают себе каждый новый парадокс, каждое проявление мысли, ложной или правильной, им до того дела нет, было бы оно только прикрыто лаком новизны. Даже иногда просто хватаются они за новую, голословную формулу пошлой и в других местах давным-давно избитой фразеологии. Все это для них приобретение, символ, знамя. Кто ближе подходит под эти условия, кто на тощий разум их бросит несколько крох этой словесной мякины, тот и выдвигается ими на передовую ступень и вытесняет всех предшественников. При таком отсутствии художественного чувства там, где идет дело о разборе творений, в коих художественная стихия должна иметь такой значительный перевес, несообразные и ошибочные заключения неминуемы. Это можно доказать и у нас несколькими собственными именами. Нет сомнения, что, например, Кантемир во многих отношениях опередил свой век, что он ближе к господствующим ныне мнениям, нежели Ломоносов. Тредьяковский в свое время не принадлежал к числу запоздалых. В Сумарокове имели мы, в некотором смысле, представителя современной французской школы. Вольтер был его кумиром. Радищев не был ли у нас маленьким Гельвецием и Рейналем? Не выразился ли в нем писатель не только XVIII, но XIX и, пожалуй, XX века? На каждого из них должно по справедливости отчислить долю некоторых заслуг и достоинств, неотъемлемо оставшихся за ними и ныне. Но отчего не только теперь, но и в свое время не имели они того влияния, той зиждительной силы, которая оставляет глубокие и путеводительные следы на почве, обработанной предназначенными делателями? Ответ не затруднителен.
При этом нельзя не заметить, что эти скороходы в мишурном наряде и в разноцветных перьях на голове, которые, стоя на запятках, более всех кричат о успехах времени, более всех суетятся и вертятся на посылках у него то за тем требованием, то за другим, сами ни единою мыслью, ни единым шагом не подвигают вперед правильного хода его. Настоящие просветители и двигатели не выдают себя за выскочек, не оглашают воздуха пустыми восклицаниями, а в тишине труда, в ясном спокойствии зиждительной силы действуют и творят. Избави их Боже отказываться от прошедшего, отрекаться от преданий, от наследства, завещанного им предшественниками. Напротив, в них видят они пособия для нынешнего дня, на них основывают надежды и завтрашнего. Ежеминутно провозглашать, что время идет вперед, что ум человеческий подвигается с ним, значит провозглашать с ребяческою важностью или пошлую истину, или нелепость; нелепость, если придавать сей истине исключительное значение, значение разрывающее всякую законную связь с предыдущим. Разумеется, время идет, но если оно идет ныне, то оно шло и прежде. Или предполагать, что оно получило способность ходить только с той поры, как вы стали на ноги? Идет оно, может быть, с каждым днем, с каждым веком спорее и успешнее, не спорю, но именно оттого, что оно заимствует себе вспомогательные, переносные силы от прошедшего, которое сводится и сосредоточивается в нем. Отнимите эти наследственные силы, разорвите цепь последствий и преданий, и время, или успехи его, то есть время в духовном значении своем, закоснеет и придет в совершенный застой. Только у необразованных, диких народов нет прошедшего. Для них век мой – день мой. Ниспровергая, ломая все прошедшее на своз, как уже отжившее и ненужное, вы, сами не догадываясь о том, обращаетесь к первобытной дикости. Вы хотите выдавать себя за передовую дружину умственного движения, а на деле вы отсталые. Вы настоящие гасители, ибо покушаетесь потушить неугасимый свет, разлившийся искони и постепенно разливающийся из одного нетленного и все более и более питаемого светильника. Не только в области наук и искусства, но и в самой политике только те перевороты благонадежны и плодотворны, которые постепенны и необходимы. Главное условие прочности их есть то, чтобы они развивались из недр прошедшего, из святыни народной, из хранилища истории и опыта. Не говорят вам: сидите на месте, но говорят: не пускайтесь в путь без запасов, не соображаясь с путем, который перешли до вас трудолюбивые и усердные подвижники. Разумеется, время идет, разумеется, просвещение продирается нетерпеливо все вперед и вперед; но из того не следует, что необходимо каждые десять лет выбрасывать все старое и дочиста заводиться новыми понятиями, новым языком, новыми великими людьми, как прихотливый и расточительный хозяин заводится в доме своем новою мебелью, утварью и посудою. Если послушать наших скороспелок, то не только у нас, но и у других все прежнее никуда не годится, особенно в литературе. Чтобы сослаться на какой-нибудь пример, возьмем хотя комедию Грибоедова. Отдаю полную справедливость уму и дарованию автора. Но для них умеренная, благоразумная похвала не достаточна. Увлекаясь несколькими удачными, смелыми стихами, несколькими необыкновенными приемами в способе изложения, они силятся поставить это творение выше всего написанного в этом роде. По мнению их, Грибоедов не только у нас начал новую драматическую эру, но убил и Мольера, этот развенчанный кумир суеверных классиков. Послушаем теперь, что говорит Гёте, Гёте, который богатою и смелою рукою разбросал так много новых понятий, новых форм, новы* учений и преподаваний на разных стезях науки и художества. «Каждый год, – говорит он, – перечитываю несколько драм Мольера, так же как любуюсь время от времени эстампами с картин итальянских художников: ибо мы, пигмеи, не в силах удержать в уме своем возвышенность подобных созданий. Нам иногда нужно возвращаться к ним, чтобы возобновлять в себе впечатления такого рода». Любопытно сравнить сознание пигмея Гёте с приговорами наших исполинов.
Нет, никакое поколение не есть подкидыш или случайный выскочка на распутий человеческого рода. Как ни значительны, как ни велики деяния которого-нибудь из них, как с первого впечатления ни ослепляй они своею изумительною нечаянностью, но опытный и зоркий взгляд отыщет в них неприметную для толпы связь, соответствие, родство с предыдущими. Каждое поколение, каждый век есть сын и внук своих предшественников. Святая заповедь «чти отца и мать, и будешь долголетен на земле» может применяема быть и к народам, и к представителям их на разных поприщах гражданственности и просвещения. Горе народу, не почитающему старины своей! Горе поколению, отвергающему заветы родоначальника своего! Горе писателям, которые самонадеянно предают забвению и поруганию дела доблестных отцов! Ни тем, ни другим не бывать долголетними на земле,
В полном убеждении, что память о прошедшем есть достояние, а частию и сила настоящего, предаю с доверчивостью труд мой вниманию читателей. Несмотря на недостатки его, надеюсь, что с означенной мною точки зрения будет он в глазах их иметь некоторую занимательность и пользу.
Приложения
I. Четыре письма Бориса Салтыкова к И. И. Шувалову
Monseigneur,
Je n'ai rien ? dire de nouveau ? votre excellence concernant l'histoire. Il court ici un bruit, comme si le Roi de Prusse a fait br?ler ? Berlin les Cuvres du Philosophe de Sans-Souci par la main du bourreau, dеsavouant plusieurs changemens dans ces pi?ces, et promettant de donner bient?t une еdition compl?te pour faire voir les erreurs de celle-ci. Monsieur de Voltaire l'ayant su dit qu'il est un homme capable de le faire, mais que le public ne sera pas si aveugle pour donner dans le panneau. On lui demanda, s'il y a longtems qu'il a re?u des lettres du Roi: je crois, repondit-il, que nous romprons bient?t; il y a dеj? plus de quinze jours que je n'ai de lui aucune nouvelle.
J'ai l'honneur de me recommander dans la tr?s gracieuse protection de votre excellence, еtant avec le respect le plus profond et le plus zеlе
Monseigneur
После этого я, конечно, знаю, что думать о вашем дядюшке?
Княгиня.
А propos! Дядюшка мой, я думаю, сегодня с дачи воротится, куда изволил он вчера повезти твоего почтенного старичка. Слава Богу, что они, хотя на одни сутки, оставили нас в повое. Я расскажу тебе, как без них проводила я вчерашний вечер, чтоб ты порадовалась веселью госпожи своей.
Марья.
Расскажите, сударыня!
Княгиня.
Ты знаешь, что я недавно сговорила Аннушку, мою племянницу, за унтер-офицера Дурашкина?
Mарья.
Знаю, сударыня, я очень об ней жалею. Она такая милая, а вы выдаете ее по неволе и за кого? за Дурашкина!
Княгиня.
Ах, Боже мой! Это что такое? Он малой молодой, не убог. Выдаете по неволе? да что это значит? Я сама была за тремя мужьями: за первым по воле, за вторым поневоле, за третьим ни так, ни сяк, а грешна перед всеми. Это все не потому, Марьюшка, а говорится, как кому по натуре. Всего хуже не быть ни за кем. Вот теперь я третий раз вдовею, а за четвертого вытти нельзя. Стала, как рак на мели, (очень печально) признаться искренно. Я женщина слабая. Истинно, как век доживать не знаю.
Марья.
Это подлинно жалко, да вы в позабыли рассказать мне?..
Княгиня.
Да, да, да, я вчера вечер провела у родной тетки Дурашкина, у геверальши Халдиной. Гостей было множество. Мне бы только не спускать глаз с моего ангела. Просидела до двух часов за полночь, Я осталась бы и доле, да все дамы разъехались: и я принуждена была оставить князя тут за картами. Он играл с Сорванцевым.
Марья.
Да князек-ат отвечает ли вам?
Княгиня.
Ах, Марьюшка, он так молод, так нов, что я прихожу в отчаяние. Я бросала на него страстные взоры прямо, а он глядел в сторону. Сколько раз вчера, сидя подле него, наступала я ему тихонько на ногу: а он всякий раз извинялся вслух, что своей ногой меня обеспокоил. Истинно боюсь, чтоб вдруг не обезумить, и при всей публике не потерять благопристойности.
Марья.
Ст….. княгиня!
По отрывку, вод названием: Мнение о избрании пиес в Московские сочинения, видно, что он был один из учредителей общества, которое готовилось издавать периодическое собрание. В числе правил, постановленных им, замечательно следующее: не принимать никаких переводов; следовательно в то время это было дело сбыточное, что, впрочем, и доказано «Собеседником». Ныне какому журналисту придет в голову наложить на себя подобную клятву, которая равнялась бы обречению себя на голодную смерть. Выше сего мы видели, что Фон-Визин, в молодости своей, занимался переводом с подлинника Овидиевых превращений. В бумагах его найден нами отрывок перевода из Илиады. Предлагаем читателям сию попытку, хотя и не имеет она большого литературного достоинства. Сомнительно, знал ли Фон-Визин греческий язык, но, перевод по удостоверению знатоков, близок и, вероятно, составлен по надстрочному переводу, или с буквальной диктовки еллиниста.
ПЕСНЬ 6.
Боги оставили страшную битву; но смертоносное рвение являлось еще до неким местам ратного поля и стрелы обоих войск мешались между брегами Синоиса и Ксанфа.
Аякс Теламонид, сия твердая Греков подпора, в Троянский ряд вломился первый и возвращает надежду в сердца своих спутников, сразя Фракийского начальника Акамаса, сына Евиорова, столь знаменитого силою, сколько роста высотою: копье Аяксово досягает до верха шлема его, обвитого густыми перьями проницает чело и пронзает ему кость: очи его покрылись непроницаемою завесою смерти.
Диомет приносит в жертву Теутранесова сына Авсила, обитавшего в великолепных Арисбских стенах и владевшего многими сокровищами; друг человеческого рода, посвятил он гостеприимству дом свой, при большом пути стоящий: но из всех, им угощенных, никто не подвергнул себя опасности, дабы смерть от него отвратити. Единый Калезий, верный ему раб, ведущий тогда коней его, умирает близ него от руки Диомедовой.
Евриал сражает Дреза и Офелта и тотчас напал на Эзепа и Педаза, рожденных от Наяды Абарбареи и Буколиона, старшого сына царя Лаомедона и происшедшего от потаенного брака. Буколион пас стада, когда соединился с сего Наядою, которая, нося в лоне своем плод любви, сих двух близнецов в свет произвела. Сын Мекистеев, не трогаяся ни юностию, ни красотою, на песок его повергает и от него оружие отъемлет.
Неустрашимый Полипэт повергает Астиала; Улисс стрелою убивает Пидита, прибывшего из Перкоса; Тевкер проливает знаменитую кровь Аретаона, и сын Нестеров Антилох, вооруженный блестящим копием, Абеера поражает. Начальник войска Агамемнон разит смертно Элата, царствовавшего в возвышенных стенах Педаза, на прекрасных брегах Сатнионских. Леит, славный воин, отнимает жизнь у Филака, бежавшего пред стопами его, а Меланфий под Еврипиловым мечем упадает.
Храбрый Менелай пленяет Адраста; кони сего начальника, объятые ужасом, побегли быстро в поле, но, удержанные пнем древа, раздробляют колесницу близ дышла: они мчатся за множеством коней устрашенных, летевших ко граду, когда воин, катясь с колесницы, у колес лицем к земле упадает. Менелай был возле его, держащий в деснице длинное копье. Адраст объемлет колена его и, молящим гласом, вещает ему: дай мне оковы, о сын Атрея! и прими достойную мзду моей свободы; чертоги отца моего изобилуют драгоценнейшими сокровищами, златом, медию и кованным железом; родитель мой все тебе отдаст за мое искупление, как скоро узнает, что я жив при Греческих судах.
Сим молением преклонял он сердце Менелаево, который повелел уже единому из своих вести его к кораблям, но Агамемнон притекает раздраженный: «О Менелай!» вопиет он: «воин слабый! Тебе ль пещись о спасении врагов наших? Трояне без сомнения подали дому твоему великую вину благодарности, да не избегнет никто из них десницы нашей, да не пощадится и младенец, носимый матерью в утробе; но да погибнут все обитающие Иллион, да трупы их земле не предадутся, и да (здесь кончается перевод.)»
Известно также, что он переводил, и вероятно по поручению начальства, книгу: «О вольности французского дворянства и о пользе третьего чина»; тут же приложено и рассуждение о третьем чине. Сей труд, писанный рукою Фон-Визина, должен храниться в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел, Пушкин говорил мне о каком-то теологическом памфлете, писанном будто Фон-Визиным, под названием: Аввакум Скитник. Сочинения под таким названием мы не отыскали, но нашли другое, которое могло подать повод в ошибочному преданию. В числе Русских библиографических редкостей есть Жизнь некоторого мужа и перевоз куриозной души его чрез Стикс реку. Сей некоторый муж, по словам повествования, родился близ реки Оби в весьма набожном Аввакумовском ските, и проч. Сочинение же сие приписано Фон-Визину вероятно потому, что оно напечатано, по крайней мере вторым тиснением (в С.-Петербурге, 1788 года), вместе с «Посланием к слугам моим». Но по сведениям, более достоверным, оно плод пера Адама Васильевича Олсуфьева, статс-секретаря при Императрице Екатерине II, который в свое время известен был шутливостью ума своего и необыкновенным обжорством. Согласно с теми же сведениями, оно издано в свет по одному поводу с посланием Фон-Визина, то есть во дни публичного маскарада, данного в Москве на сырной неделе, и воспользовалось с близнецом своим свободою, которая предоставляется маскам. Ныне, читая сей памфлет, или пасквиль, трудно доискаться сокрытого смысла и ключа к содержащимся в нем намекам, но догадываешься, что тут есть портрет, или каррикатура, известного в той эпохе лица. Очевидно также, что кистью автора водило недоброжелательство, единомышленное с тем, которым увлечен был Ломоносов, когда он воспевал гимн бороде, перестроив торжественную лиру свою на сатирический и простонародный лад. Во всяком случае, оценив эту шалость в литературном достоинстве, невозможно приписывать ее Фон-Визину; в ней нет ни остроумия, ни слога его.
В конце жизни своей он переводил, или готовился переводить и Тацита. В журнале его, под заметкой 14-го Февраля 1790 года, находим: «Поутру послал письмо к Государыне о Таците». Сколь нам известно, ответ был неблагоприятен. Первые переводы Летописей Тацита: Румовского и Поспелова, появились уже вначале царствования Александра. В бумагах Фон-Визива не нашлось никаких следов ни перевода Овидиевых превращений, ни перевода творений Римского историка. Это потеря для нашей словесности. Особенно в переводе Тацита Фон-Визин, вероятно, имел бы хороший успех: слог его, довольно холодный и малоуступчивый, едва ли бы мог с равною удачею передать мягкость и блестящую игривость Латинского поэта. Кажется, что Государыня, под конец, уже не благоволила к Фон-Визину. Рассказывают, что он, по заказу графа Панина, написал одно политическое сочинение для прочтения Наследнику. Оно дошло до сведения Императрицы, которая осталась им недовольною и сказала однажды, шутя, в кругу приближенных своих: «худо мне жить приходит: уж и г-н Фон-Визин хочет учить меня царствовать!»
Глава XII
При скудости нашей в подробных и личных сведениях о многих годах из жизни Фон-Визина можем почесть особенным счастием, что имеем возможность рассказать читателям нашим, как провел он свой последний, предсмертный вечер. Живой рассказ наш взят со слов очевидца и собеседника его. Нам уже известно, что автор наш был в приятельских связях с Державиным, с которым в подобных же отношениях был и И. И. Дмитриев, оставивший в записках своих краткие, но мастерски обрисованные и занимательные заметки о личности и характере великого поэта. По изъявленному Фон-Визиным желанию Державин познакомил его с Дмитриевым. По возвращении из последней поездки в Белоруссию, куда вызвали его хозяйственные дела и тяжба, страдалец выезжал всегда в сопровождении двух молодых Шкловских воспитанников, служивших ему вожатыми и чтецами. Грустно было первое впечатление при встрече с сею едва движущеюся развалиною. Но и она была еще озарена не совсем угасшим пламенем умственной и внутренней силы. Он был еще словоохотлив и остроумен. Литература до последнего дня его была ему живым источником веселых вдохновений, бодрости и забвения житейских недугов и лишений. Параличом разбитый язык его произносил слова с усилием и медленно, но речь его была жива и увлекательна. При этом свидании он, между прочим, забавно рассказывал о каком-то уездном почтмейстере, который выдавал себя за усердного литератора и поклонника Ломоносова. На вопрос же, которая из од его ему более нравится, отвечал он простодушно: «Ни одной не случилось читать». Ответ забавный, но, впрочем, в наше время не удивительный. Если бы ныне допросить многих из так называемых критиков наших, которые повелительно рядят и судят о Ломоносове и о других, по их мнению, допотопных явлениях словесности нашей, то и они добросовестно должны были бы сознаться, что и им не пришлось читать ни Ломоносова, ни Петрова, ни Сумарокова, ни Хераскова, ни Богдановича, которых, однако же, перечитывали и изучали Жуковский, Батюшков и Пушкин. Для нового поколения нашего, которое до головокружения, беспамятства и одышки бежит за успехами века, для этих почтмейстеров новейшей литературы, озабоченных также гоньбою времени, некогда и не для чего оглядываться обратно. Они знают, и то мимоходом, только тех проезжих, которые налицо, а вчерашние давным-давно канули для них в вечность. Но обратимся к нашему рассказу и для большего удовольствия читателей уступим место самому рассказчику и приведем отрывок из собственноручных записок его, еще не изданных.
«Через Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фон-Визиным. По возвращении его из Белорусского своего поместья, он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. Я не знавал его в лицо, как и он меня. Назначен был день свидания, 6 шесть часов пополудни приехал Фон-Визин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул, и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными из Шкловского кадетского корпуса и приехавшими с ним из Белоруссии.
Уже он не мог владеть одною рукою; равно и одна нога одервенела: обе поражены были параличем; говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался; он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я Недоросля? читал ли Послание к Шумилову, Лису кознодейку, перевод его Похвального слова Марку Аврелию? и так далее; как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об Душеньке. Она из лучших произведений нашей поэзии, отвечал я – прелестна! подтвердил он с выразительною улыбкою;– потом Фон-Визин сказал хозяину, что он привез ему свою комедию: Гофмейстер (вероятно ту, которая в сочинениях его напечатана под названием: Выбор гувернера). Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых. Тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения, автор глазами, киванием головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились».
«Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Не смотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. Во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только русского литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. – Которую же из он его признаете вы лучшею? – Ни одной не случилось читать, ответствовал ему почтмейстер. За то, продолжал Фон-Визин, доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились и жужжали. Однажды докладывают мне: приехал трагик; принять его, сказал я, и черев минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговоров, он просит меня выслушать трагедию его в новом вкусе. Нечего делать: прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедий окончиваются добровольным, или насильственным убийством, а его героиня, или главное лицо, умрет естественною смертию. – И в самом деле, заключил Фон-Визин, героиня его от акта до акта чахла, чахла, и наконец издохла.
Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а на утро он уже был в гробе».
Так прошел замечательный вечер посреди трех представителей, трех многозначительных выражений нашей литературы. Одно в лице Фон-Визина уже ослабевшее и которому суждено было чрез несколько часов навсегда умолкнуть; другое во всей звучной полноте, во всем блеске силы и славы; третье только что возникало, но, вслушиваясь в него, можно было уже угадывать, что оно вскоре смягчит и умерит поэтическую речь нашу, несколько напыщенную и бессменно торжественную. Еще несколько опытов, и оно должно было изменить русский стих: придать ему более гибкости, обогатить его новыми оборотами и оттенками, в которых мысль и чувство отразятся свободнее и простее, сближаясь более и более с природою, истиною и жизнью.
Таким образом, вслед за описанным вечером, на другое утро, то есть 1 декабря 1792 года, Фон-Визина не стало. 1 декабря вдвойне памятно в летописях русской словесности: кончиною творца «Недоросля» и рождением Карамзина, которому суждено было довершить и полнейшим развитием усовершенствовать и установить начатый Фон-Визиным переворот в нашей прозе. Первый проложил новую тропу, но не вследствие обдуманного изучения предмета своего, а просто, можно сказать, без создания, по одной счастливой оригинальности таланта. Может быть, и оттого, что он не был человек кабинетный, писал урывками, между делом и обязанностями службы деятельной и прямо государственной; но как бы ни было, а, несмотря на блистательные литературные успехи, он никогда не мог быть образцом и не был главою новой школы. Пример преемника его должен был сделаться действительнее и многоплоднее: в нем в равной степени и силе соединились и то, что природа дарует некоторым избранным, и то, что покупается тяжелою ценою труда, учения и постоянного упражнения. В слоге Фон-Визина не замечаешь возрастающего усовершенствования. В постепенности творений его нет этих резко означенных слоев, по коим можно следить за художественным производством и внутреннею переработкою дарования, которое само себя воссоздает и образует. Одно у него лучше написано, нежели другое, но это единственно по вдохновению минуты или сочувствию с предметом, который попадает под перо его. Достоинства и погрешности языка и слога его одинаковы в «Бригадире» и в письмах его из Франции, в начале и конце литературного поприща его. Ум его мог созревать и постепенно осаживаться под влиянием новых понятий и нового образа мыслей, но он не давал труда себе переработывать и улучшать орудие ума своего. В творениях Карамзина превосходство слога следует, так сказать, хронологическому порядку. Слог его зреет и мужает безостановочно. С каждым днем авторства его, то есть с каждым днем его жизни, с каждою написанною им страницею он более и более владеет языком: иссекает из него новые тайны, новые средства, новые богатства. Дело в том, что в Фон-Визине как писателе было только блистательное дарование. В Карамзине было и дарование необыкновенное, и вместе с тем врожденное и глубоко обдуманное художество. Эта художественная сторона писателей совершенно ускользает от критиков, не посвященных в искусство и не одаренных художественным взглядом. Они обыкновенно судят о писателе и оценивают творения его по одному сочувствию с образом мыслей его или, еще чаще, с односторонним направлением каких-нибудь условных понятий или на ту пору господствующих предубеждений. Если образ мыслей писателя не сходствует с их понятиями, не соответствует, по их мнению, так называемым потребностям века, то они в невежестве своем выдают нелепые приговоры, что язык, что слог того-то или другого устарел. Сами лишенные всякого приготовительного образования, они почерпают все сведения свои из ежедневной, мелкой, текущей литературы. Они тупеют в убеждении, что неведомое им было до того дня неведомо и прочим. Смотрите, с какою ребяческою жадностью ловят они и усвоивают себе каждый новый парадокс, каждое проявление мысли, ложной или правильной, им до того дела нет, было бы оно только прикрыто лаком новизны. Даже иногда просто хватаются они за новую, голословную формулу пошлой и в других местах давным-давно избитой фразеологии. Все это для них приобретение, символ, знамя. Кто ближе подходит под эти условия, кто на тощий разум их бросит несколько крох этой словесной мякины, тот и выдвигается ими на передовую ступень и вытесняет всех предшественников. При таком отсутствии художественного чувства там, где идет дело о разборе творений, в коих художественная стихия должна иметь такой значительный перевес, несообразные и ошибочные заключения неминуемы. Это можно доказать и у нас несколькими собственными именами. Нет сомнения, что, например, Кантемир во многих отношениях опередил свой век, что он ближе к господствующим ныне мнениям, нежели Ломоносов. Тредьяковский в свое время не принадлежал к числу запоздалых. В Сумарокове имели мы, в некотором смысле, представителя современной французской школы. Вольтер был его кумиром. Радищев не был ли у нас маленьким Гельвецием и Рейналем? Не выразился ли в нем писатель не только XVIII, но XIX и, пожалуй, XX века? На каждого из них должно по справедливости отчислить долю некоторых заслуг и достоинств, неотъемлемо оставшихся за ними и ныне. Но отчего не только теперь, но и в свое время не имели они того влияния, той зиждительной силы, которая оставляет глубокие и путеводительные следы на почве, обработанной предназначенными делателями? Ответ не затруднителен.
При этом нельзя не заметить, что эти скороходы в мишурном наряде и в разноцветных перьях на голове, которые, стоя на запятках, более всех кричат о успехах времени, более всех суетятся и вертятся на посылках у него то за тем требованием, то за другим, сами ни единою мыслью, ни единым шагом не подвигают вперед правильного хода его. Настоящие просветители и двигатели не выдают себя за выскочек, не оглашают воздуха пустыми восклицаниями, а в тишине труда, в ясном спокойствии зиждительной силы действуют и творят. Избави их Боже отказываться от прошедшего, отрекаться от преданий, от наследства, завещанного им предшественниками. Напротив, в них видят они пособия для нынешнего дня, на них основывают надежды и завтрашнего. Ежеминутно провозглашать, что время идет вперед, что ум человеческий подвигается с ним, значит провозглашать с ребяческою важностью или пошлую истину, или нелепость; нелепость, если придавать сей истине исключительное значение, значение разрывающее всякую законную связь с предыдущим. Разумеется, время идет, но если оно идет ныне, то оно шло и прежде. Или предполагать, что оно получило способность ходить только с той поры, как вы стали на ноги? Идет оно, может быть, с каждым днем, с каждым веком спорее и успешнее, не спорю, но именно оттого, что оно заимствует себе вспомогательные, переносные силы от прошедшего, которое сводится и сосредоточивается в нем. Отнимите эти наследственные силы, разорвите цепь последствий и преданий, и время, или успехи его, то есть время в духовном значении своем, закоснеет и придет в совершенный застой. Только у необразованных, диких народов нет прошедшего. Для них век мой – день мой. Ниспровергая, ломая все прошедшее на своз, как уже отжившее и ненужное, вы, сами не догадываясь о том, обращаетесь к первобытной дикости. Вы хотите выдавать себя за передовую дружину умственного движения, а на деле вы отсталые. Вы настоящие гасители, ибо покушаетесь потушить неугасимый свет, разлившийся искони и постепенно разливающийся из одного нетленного и все более и более питаемого светильника. Не только в области наук и искусства, но и в самой политике только те перевороты благонадежны и плодотворны, которые постепенны и необходимы. Главное условие прочности их есть то, чтобы они развивались из недр прошедшего, из святыни народной, из хранилища истории и опыта. Не говорят вам: сидите на месте, но говорят: не пускайтесь в путь без запасов, не соображаясь с путем, который перешли до вас трудолюбивые и усердные подвижники. Разумеется, время идет, разумеется, просвещение продирается нетерпеливо все вперед и вперед; но из того не следует, что необходимо каждые десять лет выбрасывать все старое и дочиста заводиться новыми понятиями, новым языком, новыми великими людьми, как прихотливый и расточительный хозяин заводится в доме своем новою мебелью, утварью и посудою. Если послушать наших скороспелок, то не только у нас, но и у других все прежнее никуда не годится, особенно в литературе. Чтобы сослаться на какой-нибудь пример, возьмем хотя комедию Грибоедова. Отдаю полную справедливость уму и дарованию автора. Но для них умеренная, благоразумная похвала не достаточна. Увлекаясь несколькими удачными, смелыми стихами, несколькими необыкновенными приемами в способе изложения, они силятся поставить это творение выше всего написанного в этом роде. По мнению их, Грибоедов не только у нас начал новую драматическую эру, но убил и Мольера, этот развенчанный кумир суеверных классиков. Послушаем теперь, что говорит Гёте, Гёте, который богатою и смелою рукою разбросал так много новых понятий, новых форм, новы* учений и преподаваний на разных стезях науки и художества. «Каждый год, – говорит он, – перечитываю несколько драм Мольера, так же как любуюсь время от времени эстампами с картин итальянских художников: ибо мы, пигмеи, не в силах удержать в уме своем возвышенность подобных созданий. Нам иногда нужно возвращаться к ним, чтобы возобновлять в себе впечатления такого рода». Любопытно сравнить сознание пигмея Гёте с приговорами наших исполинов.
Нет, никакое поколение не есть подкидыш или случайный выскочка на распутий человеческого рода. Как ни значительны, как ни велики деяния которого-нибудь из них, как с первого впечатления ни ослепляй они своею изумительною нечаянностью, но опытный и зоркий взгляд отыщет в них неприметную для толпы связь, соответствие, родство с предыдущими. Каждое поколение, каждый век есть сын и внук своих предшественников. Святая заповедь «чти отца и мать, и будешь долголетен на земле» может применяема быть и к народам, и к представителям их на разных поприщах гражданственности и просвещения. Горе народу, не почитающему старины своей! Горе поколению, отвергающему заветы родоначальника своего! Горе писателям, которые самонадеянно предают забвению и поруганию дела доблестных отцов! Ни тем, ни другим не бывать долголетними на земле,
В полном убеждении, что память о прошедшем есть достояние, а частию и сила настоящего, предаю с доверчивостью труд мой вниманию читателей. Несмотря на недостатки его, надеюсь, что с означенной мною точки зрения будет он в глазах их иметь некоторую занимательность и пользу.
Приложения
I. Четыре письма Бориса Салтыкова к И. И. Шувалову
Monseigneur,
Je n'ai rien ? dire de nouveau ? votre excellence concernant l'histoire. Il court ici un bruit, comme si le Roi de Prusse a fait br?ler ? Berlin les Cuvres du Philosophe de Sans-Souci par la main du bourreau, dеsavouant plusieurs changemens dans ces pi?ces, et promettant de donner bient?t une еdition compl?te pour faire voir les erreurs de celle-ci. Monsieur de Voltaire l'ayant su dit qu'il est un homme capable de le faire, mais que le public ne sera pas si aveugle pour donner dans le panneau. On lui demanda, s'il y a longtems qu'il a re?u des lettres du Roi: je crois, repondit-il, que nous romprons bient?t; il y a dеj? plus de quinze jours que je n'ai de lui aucune nouvelle.
J'ai l'honneur de me recommander dans la tr?s gracieuse protection de votre excellence, еtant avec le respect le plus profond et le plus zеlе
Monseigneur