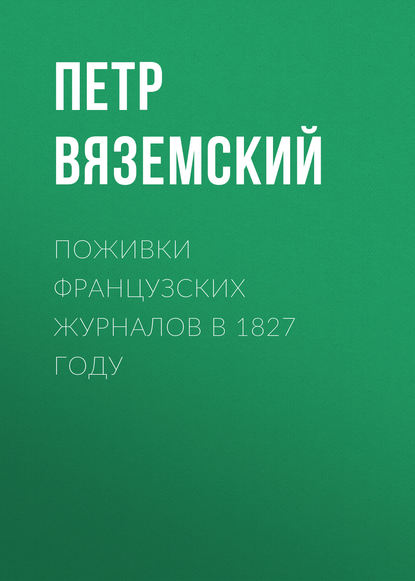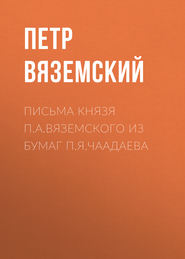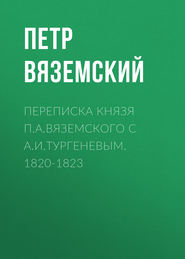По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поживки французских журналов в 1827 году
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Андреевич Вяземский
«Беда, когда постятся парижские журналы. За ними постится парижская публика Франция и едва ли не вся Европа, ибо в наше время парижские листы суть насущный хлеб большей части читателей нашего поколения. Охота же искать пищи в in folio, в in quarto и даже в in 12°, когда можно за утреннею чашкою чаю или кофе легко запастись из газетного листка тем, что послужит достаточным дневным продовольствием для каждого порядочного и благовоспитанного человека. Питательную силу яйца равняют питательной силе целой курицы и утверждают – по крайней мере, кажется, Байрон был того мнения, – что довольно одного яйца всмятку, чтоб сытым быть весь день. Таким образом, есть сбережение издержек, времени, хлопот, трудов, есть удобство всякого рода…»
Петр Вяземский
Поживки французских журналов в 1827 году
Беда, когда постятся парижские журналы. За ними постится парижская публика Франция и едва ли не вся Европа, ибо в наше время парижские листы суть насущный хлеб большей части читателей нашего поколения. Охота же искать пищи в in folio, в in quarto и даже в in 12°, когда можно за утреннею чашкою чаю или кофе легко запастись из газетного листка тем, что послужит достаточным дневным продовольствием для каждого порядочного и благовоспитанного человека. Питательную силу яйца равняют питательной силе целой курицы и утверждают – по крайней мере, кажется, Байрон был того мнения, – что довольно одного яйца всмятку, чтоб сытым быть весь день. Таким образом, есть сбережение издержек, времени, хлопот, трудов, есть удобство всякого рода. Благодаря нашего остроумного баснописца, при таком пропитании не нужно ни кухни, ни повара[1 - См. басню Крылова.]: каждый быть может своим поваром и иметь подвижную кухню на столе, в своем подсвечнике; была бы только курица, которая каждый день носила по яичку, В роде умственной пищи, для читателей не слишком обжорливых, ежедневник есть также яйцо всмятку. И тем более сравнение это здесь у места, что, по мнению многих, выдумка журналов, скорее еще чем выдумка упомянутая в басне, есть, несомненно, наущение лукавого. Проглотив журнальный листок поутру, читатель сыт на весь день; тут не нужно библиотеки, головоломных занятий: пища-скороспелка приспособлена к желудку каждого состояния, звания, возраста. Того и смотри, что нетерпеливый читатель спросит с досадою: к чему я хочу вести свое рассуждение, начав, как поэт, от Лединых яиц? Пора приступить к делу.
Парижские журналы имеют свое Провидение. Когда голодная смерть угрожала им во всем ужасе своем, предстали им поживки неожиданные, которые, при других пособиях, менее значительных, поддерживали их существование, спасая от истощения. Отрезанным от продовольствии твердой земли, приплыли к ним заморские, жираф, осажи, история Наполеона, английские актеры. Займемся слегка обозрением этих счастливых нечаянностей: оно, может быть, наведет на некоторые черты местности и времени и к тому же развяжет язык на несколько минут, а ведь надобно же от нечего делать поговорить о чем-нибудь. Жираф [(а почему не Жирафа, как говорят во Франции?)], первый из посланников журнального Провидения, в начале недели мясопустной, наставшей для периодических изданий, был принят со всеми восторгами неожиданной радости и признательности за благодеяние в пору. Науки, искусства, промышленность, праздность, любопытство, корыстолюбие бросились к нему и улаживали его в свою пользу. Журналы, академии, ресторации, театры, модные лавки праздновали его благоденственное прибытие, все по-своему и по обрядам, приличным каждому отделению. Литография спешила повторить изображение дорогого гостя, хотя и не отвечающего понятиям о природе изящной. Его вшествие в Париж предано потомству, между прочим, в рисунке с означением благословенного числа, в которое оно совершилось, и с пародическим повторением слов, некогда сказанных в Париже в достопочтенную эпоху. Красавицы на щегольских нарядах своих носили подобие безобразного жирафа; музыка повторяла печальные прощания жирафа с родиною. О публике праздношатающейся и говорить нечего. Все звания: роялисты и либералы, классики и романтики, все возрасты из всех этажей высоких парижских хором толпами сходились к нему на поклонение. Журналы подстрекали любопытство и тщеславие парижан, сообщая в ученых изысканиях исторические и биографические черты поколения жирафа вообще и приезжего жирафа в особенности. Они говорили, что Моисей, вероятно видевший жирафов в Египте, упоминает, первый из писателей известных, о сем творении страннообразном; что жираф, в первый раз посетивший Европу, был выписан Юлием Цезарем из Александрии и показан римлянам на играх цирка; что с 1486 года не было жирафа в Европе и что ныне тысячи парижан могли бы поспорить в учености с Плинием, Аристотелем и Бюффоном, которые описывали жирафа за глаза и неверно передали нам его приметы. Парижане слушали, дивились, гордились счастливою долею своею и – глазея в ботаническом саду на знаменитую иноплеменницу – забывали, смешавшись в общей радости, что они разделены на левую и правую сторону, что парижская национальная гвардия распущена по домам, что журналы политические являются с белыми пропусками; потирая руки, говорили они с восторгом, что прекрасная Франция – целый мир, а единственный Париж – столица вселенной!
Когда жираф [или жирафа] начал [или начала] уже ветшать в общем мнении и редела толпа поклонников вокруг кумира вчерашнего, другие выходцы с того света явились ему на смену: американские осажи заступили почетное место на сцене парижского мира. Та же деятельность, то же волнение возникли повсюду. Снова французская изобретательность, снова божество французов le Dieu l'? propos[2 - Сказка Рюльера.], которого нет в русской мифологии, что, между прочим, доказывается и поговоркою народною о крепости ума русского, вцепились в счастливое вспомоществование, извлекая из него тысячу даней на всех поприщах и со всех рук. Многие смеются над французами и даже важно осуждают их за подобную легкомысленность и, так сказать, излишнюю впечатлеваемость. Не могу согласиться с таким мнением. Многие из блестящих качеств ума и характера французов тесно сопряжены с сею раздражительною способностию живо и горячо принимать все впечатления и отвечать быстрым сотрясением на каждое внешнее соприкосновение. Может быть, самая утонченность образованности и общежития делает их, так сказать, щекотливее. Толстокожего лапландца не так скоро проймешь. Афиняне, из древних народов достигнувшие до высшей степени образованности, не были ли также умными детьми в этом отношении? Алкивиад не между ими ли пускал свою бесхвостую собаку, чтобы отвлечь на минуту общее внимание? В другом городе пусти хоть целую свору бесхвостых собак, так никто не встанет с места и не подойдет к окну, чтобы полюбоваться диковинкою. Теперь остается решить: чем лучше быть – раздражительным афинянином, в коем система нервическая была соткана из тонких струнок, отзывающихся под малейшим дуновением, или неподъемным беотом, в коем нервы, как корабельные верви, разве одною бурею могут быть приведены в движение? Решение этого запроса завело бы нас слишком далеко; так оставим же до удобнейшего времени. Впрочем, это так называемое малодушие или ребячество французское должно поражать более нас, чем других: возня парижских журналов, а за ними и публики парижской при всякой новости так далека от наших обычаев и нравов, что мы смотрим на нее с изумлением, а многие из нас с важною жалостью, как смотрел бы созерцательный азиатец, коптящийся на солнце и погруженный в дремоту мыслей и чувств, на поворотливость и perpetuum mobile гасконца. Журналы наши также, спасибо, не тревожат нашей бездейственности, а, напротив, лелеют ее с родительскою нежностию. Когда и подают они голос, то наподобие имана, который однозвучным возгласом своим призывает правоверных готовиться на сон грядущий. Со всем тем наша публика, может быть, и легка была бы на подъем, если бы литературные и нравственные журналы наши умели искуснее поворачивать рычагом мнений и входить с нею в непосредственные сношения. Парижские не только сообщают своим собеседникам вести сегодняшние, но беседуют с ними и о том, что было вчера, и вообще обо всем, служащем предметом настоящих разговоров. У нас журналы и публика редко сходятся в речах своих: она мало занимается тем, что их тяготит; они почти никогда не догадываются или догадываются задним числом о том, что у нее на сердце и на языке. Какому же тут быть живому разговору? Приведем пример: во все пребывание итальянской оперы в Москве гостиные наши были наполнены дилетантами; Россини был у всех в помине – и Неаполь не был музыкальнее Москвы, по крайней мере на словах. По целому получасу гости на вечеринках не садились за работу, то есть к зеленым станкам, жарко споря о превосходстве «Cenerentola» над «Barbiere di Siviglia» и soprano над contralto. Междоусобие пиччинистов и глукистов возобновлено было у нас, и несогласия доходили не до шутки. Между тем журналы московские были вовсе не заражены этою меломаническою лихорадкою, которая овладела всеми. Итальянский язык, итальянская музыка, итальянская драматургия не имели отголоска в периодических изданиях: хотя все умы были обращены тогда к югу, но стрелка журнального компаса, верная своей природе, не сворачивалась с северного полюса молчания и бесстрастного хладнокровия. От итальянской оперы можно перейти к другим предметам важнейшим, хотя, в истинном смысле журнальном, все, что в глазах публики кипит жизнию минуты, подлежит ведомству журнальному и уже не должно быть для него безжизненным: и там найдем тоже разногласие между пишущими и публикою или, по-настоящему, только одногласие в последней и безгласие в первых, ибо в журналах нельзя признать, как в песни поэта, возможности голоса с того света. О многих голосах наших журналов можно сказать, что они не при нас писаны. Нечего сказать: должно согласиться, что журналисты наши не следуют французской поговорке «отсутствующие в загоне»; напротив, у них присутствующие и настоящее всегда в неявке. Некоторые из них, как будто боясь тяжбы с настоящим, посягают только на те предметы, которые уже ограждены несколькими десятилетними давностями. Предосторожность благоразумная, но каково же слушателям, которых угощают делами, уже с четверть века покоящимися в архивах! Если же, сверх обыкновения, писатели и не ткнутся мимоходом на живое и начнут говорить о нем публике, то не на живом языке, а, так сказать, на мертвом. Не из охоты критиковать, а единственно для подкрепления сказанных слов примером и по искреннему подобострастию (принимаю сие слово в истинном смысле, а не в превратном, ибо, пародируя латинского комика:
Я журналист; мне все журнальное не чуждо.
укажу на критику «Веверлея», помещенную в 20-й книжке «Московского вестника». Что может быть наличнее В. Скотта в наше время и – что может быть отвлеченнее вступления к разбору его романа? Что может быть зыбучее и неосязательнее начертанной тут характеристики таланта и произведений писателя, который, по справедливому и весьма остроумному замечанию самого рецензента, в государстве собственно практическом избран судьбою быть практическим романистом? Изложив задачу таким превосходным и светлым образом, как же не остаться рецензенту на твердой почве рецензии практической? Зачем с нее удаляться и насильственно увлекать за собою и В. Скотта практического и русских читателей, также в своем роде практических самоучков, в дремучий бор германской метафизики? Ривароль говорил о комментариях на легкие стихотворения Вольтера, что они напоминают свинцовое клеймо, налагаемое таможенниками на дымку. В. Скотт яркий светильник положительности; рецензент, указывая на свет его, сгущает вокруг светильника чадные пары своей критической лампады. Так ли должно говорить русским читателям, когда хочешь действовать на их умы? Русский ум любит, чтобы ему было за что держаться, а не любит плавать в туманах и влажной мгле, в стихии неопределенной, в которой немцу раздолье, как рыбе в прохладной реке. У каждого народа своя стихия: зачем сверхъестественным переломом кидаться нам в чуждую? Этот способ разбирать творение, возбуждающее общее внимание и писанное про всех, хотя и был бы он употреблен с успехом, не приличен тем более, когда дело идет о В. Скотте, который дарованием, творчеством и, так сказать, всею нравственною жизнию своей действует на открытом поле и средь белого дня, а не под сумраком и засадами непроницаемого капища. Тем более способ этот не приличен в русском журнале, который должен быть в числе ручных книг читающей публики и по собственному его достоинству, которое признаю охотно во многих отношениях, и по участию в нем, хотя и постороннему, но не менее гласному, поэта, который также, подобно В. Скотту, есть преимущественно практический поэт и более всех из русских, старых и новых, совместников своих пишет прямо к своему поколению, в собственные руки.
От романиста В. Скотта перейдем к историку баронету, который изданием сочинения своего о жизни Наполеона именно в то время, когда насущная политика не владела почти безраздельно столбцами парижских журналов, был для них в числе счастливейших находок. Впрочем, сие творение, каково ни есть его собственное достоинство, и во всякое время было бы любопытнейшим явлением нашей эпохи. Наполеон, сей могущественный преобразователь, сие в течение многих лет первое действующее лицо на сцене всемирного театра, одним словом, сей В. Скотт политического мира, и В. Скотт, сей Наполеон мира литературного, были равно, каждый на поприще своем, счастливыми хищниками общего внимания, господствовали и господствуют им поныне по праву победы и соизволению общественному. Схватка – грудь с грудью и рука с рукой – сих двух гигантов нашей эпохи – зрелище увлекательное и назидательное! Хотя В. Скотт, коего сочинение пока известно нам по одним выпискам, а более по рецензиям парижских журналов, и не смог бы выдержать со славою борьбы с соперником своим, то и самое падение его, если признать достоверность падения, может быть еще почетнее и величественнее победы другого, даже не рядового бойца. Как Наполеон, так и его историк, они равно должны быть привлекательны для общего любопытства, равно предметами изучения и глубокомысленных наблюдений и под солнцем аустерлицким, и под затмением ватерлооским. Судя по рецензиям французским, главный порок нового творения есть поспешность, с которою автор собирал материалы для истории своей, не поверяя их между собою и часто в самом изложении своем не поверивши последующего с предыдущим, и вследствие всего этого – анахронизмы, исторические забвения, одним словом, отсутствие достоверности, без коей история не может иметь, так сказать, законной силы. Впрочем, сии погрешности и недостатки, хотя и весьма важные, могут быть легко при другом издании исправлены в два или три присеста. Но история, и тем более история Наполеона, писанная В. Скоттом, не может быть единственно таблицею хронологическою и памятником событий; она должна быть умозрительным зеркалом, в коем отражается оптическим соображением эпоха, более всех прочих для нас занимательная: и потому, что мы ее современники и, следовательно, более или менее соучастники; и потому, что, отлагая всякое лицеприятие в сторону, она важнейшая глава из книги судеб, скажем, пользуясь выражением одного писателя. Расположение событий таким образом, чтобы в беспристрастной симметрии одно не затмевало другого, а, напротив, освещались они взаимным ударением света и в этом преломлении лучей истины озарились бы самые сокровенные причины событий; место, приличное при каждом явлении главному лицу, которое, как должно быть в оной книге, так и в самой жизни своей, было всегда на виду у мира; изъяснение тайн характера, политики и часто странных действий его, тайн, еще не изъясненных или по крайней мере не соображенных и не приведенных в общие знаменатели, несмотря на труды многих толковников, которые более или менее наводили нас на следы, – все сие зависит от духа, от мысли первоначальной, присутствовавших при совершении труда подобной важности. Можно ли, при всей доверенности к обильным способам В. Скотта, ожидать от него – англичанина, и англичанина преданного мнениям одной партии, – совершенно бесстороннего, так сказать, наддольного исполнения предприятия столь обширного? В романисте шотландском виден гений; в бытописателе Наполеона нужен был еще ум, а это дело совершенно разное. Может быть, там, где гений его в стороне, там ум его один и не всегда надежен: в доказательство вероятности предположения приведем в пример «Письма Павла», по коим можно судить предварительно о новом творении его. Превратный, односторонний ум собьет и величайший гений, как софизмы омрачают ясный рассудок, как страсти совращают непорочную душу. Гению должно быть одному, и побеждает он только там, где может действовать начистоту; при лице ума по особенным поручениям много хитрых союзников, лукавых ласкателей: предубеждения, предрассудки политические и народные, пред коими гений отступает почтительно, полагая в смиренной простоте своей, что он не понимает их важности. Они существа ученые, светские; он создание темное, закоснелое в одном вдохновении природы. Дюкло говаривал: «глуп, как гений». В. Скотт держался этой глупости в романах своих; не поумнел ли он в истории? Если так, если он хотел написать творение не только возвышенное, но еще и благонамеренное, по мнению своему и своих, то нет сомнения, что он должен был упасть в предприятии своем. Нет сомнения и в том, что если новое творение его не превосходит многим всего, что он написал поныне, то он также упал, ибо не был наравне с предметом своим, который выше других, обработанных им. Статьи «Журнала прений» об истории Наполеона писаны с умом и с умеренностью; последнее сие достоинство, которым, впрочем, сколько можно судить почти за глаза, ознаменовано и самое творение В. Скотта, есть явление замечательное и утешительное. Вспомнив вековую неприязнь двух соседов, невольно признаются и политические старожилы, что народы стали умнее. «Журнал прений» судит об истории Наполеона по французскому переводу и, как видно из других журналов, был иногда вовлечен в заблуждение погрешностями переводчика. Например, критик «Журнала прений» нападает на историка за слово «притворился» (feint), которое в рассказе о битве Аркольской охлаждает и прозаизирует пыл и поэзию действий Бонапарте. В подлиннике нет этого прозаического притворства; там сказано просто: «Bonaparte commenced his march at first to the rear in the direction of Pschiera».
Впрочем, повторяем: ошибки такого рода и в подлиннике и в переводах легко будут исправлены; но если творение баронета грешит духом, расположением, предубеждением, если рама, в которую он хотел втиснуть своего героя, не впору ему и если баронет захочет извиниться тем, что у каждого барона своя фантазия, то есть свой образ мыслей, то дело кончено. Второе издание будет исправнее первого, третье второго, и так далее, но все будет творение недостойное истории, историка и лица исторического. Работая по другой мерке, можно легко подправить испорченное, здесь стянуть, там выпустить; но платье, сшитое на Наполеона и ему не к лицу, уже решительно никуда не годится. Когда ошибка в покрое и когда этот покрой назначается для живого Геркулеса Фарнезского, тогда ошибка непростительна и невозвратима; должно почать новый кусок, а старое платье отложить в сторону. «Прадт справедлив, – пишет ко мне один из заграничных читателей творения В. Скотта, – одна г-жа Сталь могла совершить изображение Наполеона. В. Скотт, как мне сдается, упустил много обстоятельств, проглядел много оттенок, не подобно колоссу Родосскому, пропускающему без внимания корабли между ног своих, не потому, что он слишком высоко стоит, но, вероятно, по неведению, по причине иноплеменничества своего, может быть, по небрежности, по неуместной скорости, с коею хотел он совершить подвиг многотрудный». Как бы то ни было, если В. Скотт и не удовлетворил вполне ожиданию читателей своих, то есть грамотного поколения нашей эпохи, то, может быть, придется и здесь сказать: дремота Гомера лучше бессонницы многих. Предлагаемые критические исследования, наобум, о творении неизвестном, похожи немного на статьи брюсовского календаря и могут показаться забавны, согласен; со всем тем вот дополнительное заключение гадания, которое остается впредь до разрешения: во всяком случае можно хотя и гадательно, но решительно сказать за глаза, что новое творение В. Скотта, каково ни было бы его достоинство в отношении к дарованию его и понятию нашему об нем, есть первая книга настоящей эпохи; что в объеме целого и в точке, на которую автор стал для снятия картины или, лучше сказать, панорамы жизни Наполеона и включенной и нее панорамы более четверти века из современной истории, может быть, слишком выдается баронет, но во многих ярких частях, верно, прорывается тот В. Скотт, который разительною кистью умел какими-то особенными приметами означить исторические лица своих романических вымыслов и таким образом сближать с нами обыкновенную даль истории. С другой стороны, здесь, может быть, заключается отчасти причина недостатка в последнем его творении, если признать его недостаточным: живописец картинный, он, может быть, и отличается в изображении далей, искусству и преимущественно в том, что называется живописным обманом. В новом труде ему не нужно было прибегать к этому средству, не нужно было созидать или воскрешать истину: истина живая, близкая трепетала у него под рукою. Должно было схватить ее на месте и представить в точном изображении на суд очных свидетелей подлинника. Может быть, в В. Скотте недостает нужного на то присутствия духа. Одно из многих непосредственных последствий появления истории Наполеона на парижскую публику есть обвинение, падающее в ней на генерала Гурго. Сие обвинение и возражение обвиненного занимают французские и английские журналы. Биографическая тайна, которая становится историческою, ибо относится до лица одного из товарищей исторического общества Св. Елены, еще не решена, по крайней мере у нас. Кажется, ответ генерала историку неудовлетворителен. Вот что говорит о нем один французский листок: «Суждение, произносимое о письме г-на Гурго в ответ на обвинение сира В. Скотта, почти единодушно. В письме видна решительность раздраженного человека с честью, которая именно обвиняет во лжи противника своего, но не видать в нем критики писателя, следующего и разбирающего хладнокровно исторический строй. Без сомнения, получим нравственное убеждение, что генерал Гурго не хотел изменить своему прежнему илпетелину; но в этом случае будем верить ему на слово, а не на ощутительных доводах оснуется сие убеждение». Легко постороннему требовать от обвиненного в бесчестии к полнокровного рассмотрения страшной укоризны, поразившей его в глазах современников и потомства! Мы будем снисходительнее французского журналиста и понимаем, что Гурго мог и должен был горячо отвечать своему обвинителю; но соглашаемся, что исторические доказательства в невинности нужны для ниспровержения обвинения исторического.
Смотря на историю Наполеона, писанную в Англии не слогом Джона Буля и рассматриваемую во Франции без неминуемых галлицизмов площадного патриотизма, мы видели в этом явлении несомненные признаки совершеннолетия и благоразумия эпохи нашей; другое событие в мире парижском; другая поживка журнальная подкрепляет наше мнение. Фельетоны газет наполнены известиями о театральных английских представлениях, которые привлекают лучшую парижскую публику. Вот значительная победа, одержанная терпимостью над национальными и классическими предрассудками. Можно поздравить с нею французов. Еще за несколько лет пред сим подобная попытка не имела успеха. Тогда, может быть, представление ватерлооское было еще слишком в свежей памяти и английские актеры, разыгравшие его, только что оставили Францию, в которой зажились для сбора театральной реквизиции. Ныне времена не те. Французы, сказывают, ветрены, следовательно, и не злопамятны; к тому же драмы Веллингтона одно, а драмы Шекспира другое. Как бы то ни было, пьяный дикарь, по выражению Вольтера, который в свое время был еще укоряем в англомании, господствует на сцене, где царствует и трезвый Расин. «О tempora! о mores!» – восклицает, пожимая плечами и качая напудренною головою, внутренняя стража чистых французов, до коих не дотронулась в наглом порыве своем буря мнений, событий, переворотов, лет, все ниспровергнувшая во Франции, развеявшая в прах все старинное, все – кроме пудры с некоторых классических голов. Между тем неприятель уже на священной почве отечества; он в недрах Капитолия классицизма, и спасительные крики охранительных гусей не пробуждают в малодушных потомках гнева и мужества исключительных предков. Некоторые французские ренегаты начинают поговаривать о маркизе Оросмане и виконтессе Заире, критики называют трагедии Дюсиса бледными и обрезными сколками живых гигантов; слезы, которые были послушны голосу одного Расина, волосы, которые становились дыбом от одного ужасного Кребильона, уста, которые улыбались не иначе как по ниточке французской Талии, признают раздражительное влияние Шекспира, Шеридана, Гольдсмита. Если в парижском партере находятся волосы, не покоряющиеся Шекспировой электризации, то разве на одних париках, взбитых еще классическим гребнем, который расчесывал старую Мельпомену Секванскую. Гостеприимство, оказанное французским театром актерам заморским, должно иметь со временем последствия плодовитые. Пугливые туземцы, которые будут применять сие гостеприимство к змее, согретой в пазухе поселянина, может быть, не ошибутся в своем предсказании: змея Шекспирова если не уморит, то крепко ужалит французскую Мельпомену. Можно сказать: на здоровье! На первый случай парижские журналы угощают приезжих с умом и с вежливостью; если не совершенно уступают им почетные места, то по крайней мере разбирают их права, и дело подвергается тяжебному суду: хорошо и то, что спорят, а не осуждают без суда. «Журнал Прений» основательно говорит по сему случаю: «Английский театр нужен ли? полезен ли он даже в Париже, который имеет уже иностранный театр? Вопрос совершенно пустословный! Если в нашей столице находится довольное количество любителей, достаточно знакомых с языком и литературою английскими, чтобы населить и поддерживать новый театр, то какая беда доставлять этой части сограждан наших и гостей средство забавляться, как они умеют?» Вот суждение благоразумное и просвещенное: противное мнение было бы нелепо. Мы слышали, что иные литераторы и – так называемые – драматические писатели у нас почитают существование иностранного театра ущербом и подрывом отечественного. Если вывести сие мнение из тесного круга личных выгод, не подлежащих общему и литературному рассмотрению, то оно не может выдержать возражения. Не хотеть иметь иностранного театра от страха, что он подорвет отечественный, то же, что противиться привозу иностранных книг, чтобы насильно заставить читать свои. Могут желать этого писатели-эгоисты, но что скажут читатели, которые в большинстве и должны в этом деле иметь голос решительный? Смешно почитать публику приписною к своим книжным лавкам и к своему театру и держать ее на барщине для умножения доходов своих от типографических и драматических фабрик. Никакое правительство не согласится угодить такою статьею тарифа исключительному корыстолюбию откупщиков умственной промышленности. В отношении к патриотизму сей запрос также не затруднителен. Что за патриотизм в удовольствиях, доставляемых изящными искусствами? Приятнее ли было бы ушам русским слышать голос Каталани, если она родилась бы в Ярославле или Рязани? Почитаю себя патриотом не хуже многих, но, признаюсь, отдам охотно весь наш театр за одну из хороших комедий не только Мольера, но и Пикара. Что за патриотизм, когда дело идет о наслаждении отвлеченном? Найдется ли патриот, предпочитающий пятирублевую ассигнацию, потому что она отечественная, полновесному червонцу голландскому? Такому позволю спорить о необходимости держаться во всем исключительно своего и с уважением буду смотреть на его добродушный патриотизм. В некоторых городах Германии запрещен привоз французских вин, а производят свои под особенными названиями: wie Champagner, wie Burgunder. Драматические патриоты хотели бы также ввести в театр это обыкновение и поить нас А. В. wie Moli?re, F. F. wie Picard и так далее. Да как же пить, когда не пьется? Франция не боится чужих виноградников, ибо уверена в превосходстве своих: берите с нее пример. Кто-то говорил о жарком защитнике неприкосновенности отечественного театра, что он хочет принудить публику сдаться, как осажденный город, голодом. Это замечание остроумно и справедливо. К тому же нет сомнения, что иностранный театр должен способствовать со временем успехам своего, образовывая таланты актеров отечественных и вкус публики. Не знаю, много ли подействовала итальянская опера в Москве на успехи русской оперы, но на музыкальную образованность публики московской имела она значительное и благодетельное влияние. В Петербурге, где часто бывали французские актеры отличного достоинства, там и русская сцена блистала отечественными дарованиями первостепенными. Семенова, Колосова, конечно, главным одолжены природе, но многим и поучительному примеру. Искусство актера более других искусств требует образцов и переимчивости, после которой дарование возвышенное уже приступает к оригинальному пересозданию себя. Рассудительно ли было бы требовать от живописцев не изучать иностранных мастеров и первоначально не подражать картинам чужой школы, тем более когда своей еще нет? Французам можно бояться вторжения иностранцев в пределы театра, потому что оно угрожает целости отечественного. Но у нас, где театр есть сокращенное и на скорую руку построенное подражание французскому, тут нашему честолюбию и патриотической независимости страшиться нечего. Если чему и пострадать, так одному тщеславию наших драматических писателей, коих подставная оригинальность немного распадается при виде настоящих подлинников. Но, без сомнения, и они, уважая более общую пользу, чем свою, порадуются, что на первый случай в Петербурге, благодаря просвещенной щедрости правительства, будут иметь при русском три вспомогательные театра: французский, итальянский и немецкий. Вспомня итальянскую оперу, которую мы не умели сохранить, а ныне оплакиваем, нельзя нам, москвичам, не позавидовать со вздохом обилию петербургских счастливцев и не надеяться в утешение, что в добрый час падет и на долю нашу несколько иноплеменных поживок заграничных, чтобы чем было поразговеться.
notes
Сноски
1
См. басню Крылова.
2
Сказка Рюльера.