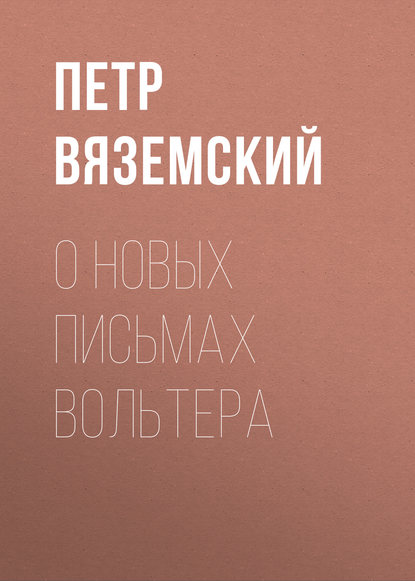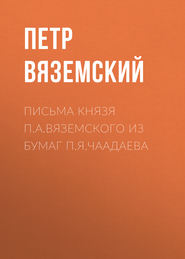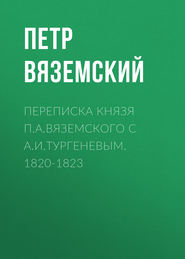По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О новых письмах Вольтера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Андреевич Вяземский
«Издатель одного из Европейских журналов, или правильнее из журналов, издаваемых в Европе (потому что иная книга, не смотря на свое Европейское заглавие, настоящий выходец, или вестник Азии), извещая о появлении двух-сот пятидесяти неизвестных писем Вольтера и понятной радости Французской Минервы, при неожиданном подарке такого рода, сжал свое мнение и негодование в кратком, но выразительном вопросительном знаке, на который по настоящему отвечать нечего…»
Петр Вяземский
О новых письмах Вольтера
Издатель одного из Европейских журналов, или правильнее из журналов, издаваемых в Европе (потому что иная книга, не смотря на свое Европейское заглавие, настоящий выходец, или вестник Азии), извещая о появлении двух-сот пятидесяти неизвестных писем Вольтера и понятной радости Французской Минервы, при неожиданном подарке такого рода, сжал свое мнение и негодование в кратком, но выразительном вопросительном знаке, на который по настоящему отвечать нечего. И если издатель довольствовался бы сим утонченным усилием гения, то каждому просвещенному читателю пришлось бы при сем вопросительном знаке поставить от себя невольный знак удивления и закрыть книгу; но издатель разными орудиями хотел напасть на Вольтера и прибавил еще несколько замечаний, кой дополняют смысл глубокомысленного знака и вместе с ним составляют целое, совершенно в частях согласное. Например, говоря о письме, которое по словам его напечатано для пробы во Французской Минерве (как будто письма пробуют?), замечает: Фернейский мудрец балагурит по своему обычаю о терпимости. Не знаю, чему более здесь удивляться: непристойности-ли выражения, или мысли, я готов сказать, чувства! Красноречивый защитник Калласов балагурит о терцпмости! Если Вольтер в ином отношении и подлежит укоризнам, то без сомнения правила терпимости, проповеданные им словом и делом, должны перед строгим зерцалом справедливости искупить многие его заблуждения. Было время, что мы Русские хвалились терпимостию и справедливо: младшие братья Европейским народам, мы по многим отраслям гражданской образованности должны еще у них учиться; но в сем отношении смело можем сказать, что Европейские правительства должны терпимости учиться у нашего. Остроумный племянник Мецената и друга Ломоносова, в известном своем послании к Ниноне Ленкло говорит с справедливою гордостью:
Un Calas, un Labarre eut vеcu parmi nous.
Прав ли я, или нет, не знаю; но мне кажется, что Русские, исповедающие такой образ мыслей, приносят отечеству своему более чести, чем эти запоздалые, ополчающиеся против успехов человеческого разума, эти отступники духа времени, который шагает через них в неодолимом своем стремлении. Далее, приводя похвалы, высказанные Вольтеру писателями Минервы, издатель помянутого журнала, без сомнения на этот раз не Минервою вдохновенный, от себя прибавляет: ничто не может быт глупее похвал, подлым пристрастием провозглашаемых. Трудно тому верить, что нашелся человек, который видит глупость в похвалах, приписываемых Вольтеру, и подлость в пристрастии сограждан его к нему. Впрочем, всякой видит по своему: может быть, и у нас отыщется проницательный дальновидец, который откроет пристрастие в приверженности просвещенных наших сограждан к Карамзину, свидетельствующему перед Европою об успехах ума в России, Нелепые ругательства Дефонтенов, Фреронов, Лабомелев, Нонотов и других могут по крайней мере оправданы быть обиженным самолюбием, рассчетами корысти, или ослеплением зависти; но где найти оправдание для нашего современника, который охотою идет оспаривать у Вольтера славу, уже на незыблемом основании утвержденную судом народов и потомства. Там на невежестве отражался по крайней мере пламень личной ненависти: здесь оно сияет во всем своем мраке. Там грешила совесть: а здесь грешит рассудок, и в этом случае едва ли не скорее можно отпустить грехи совести! Но, впрочем, все эти сообщники обширного и существующего искони заговора посредственности против превосходства держатся крепко за руки, минуя пространство веков и отдаления. В каждом из них, кроме полного запаса всех наличных предразсудков настоящего, хранится неистлевший пепел всех предразсудков прошедшего и дремлет в ожидании семя всех предразсудков и предубеждений будущего. В политике, науках, искусствах, словесности вы всегда найдете их поперег дороги истины: они в безумной отваге силились заслонить небеса от Коперника и Невтона, поверенных небесных тайн; на встречу к Расину, грядущему в храм бессмертия с Федрою, они подвигли Прадона; они те недоброжелатели, от коих Ломоносов, как видно из письма к Шувалову, не имел покоя; образ представительного правительства и способы взаимного учения в них имеют ныне ревностнейших поносителей. Троньте одного из них, и они все отзовутся в обширном и неразрывном круге своем. Переставьте одного в другое столетие, в другой край земли: язык его, оружие, образ нападения изменится, но он не изменит никогда клятве древней вражды своей и последствия будут одинаковы. На лице иного, и не проницая в таинства учения Лафаттера, можно уверительно прочесть, что смотря по времени и месту был бы он Зоилом Гомера, Дефонтеном Вольтера, щепетильным придирщиком Карамзнна.
Конечно, иные люди пользуются правом все говорить без возражения. Речь иного входит в одно ухо и выходит в другое. Писанное иным, или вовсе не читается, или тут же при чтении стирается в памяти мягкою губкою забвения. Сколько витийства раздалось и утихло в пустыне. Не кстати-ли будет и искать здесь причины тому, что росказни Лужницкого старца остаются без ответа. Он, может быть, почитает молчание слушателей своих уважением к нему и легко, быть может, ошибается в том. Не молчат ли они скорее из уважения к себе и писателю, коего честь не требует защитников, а благородное хладнокровие оковывает молчанием презрения уста того, который, в справедливом, но необдуманном негодовании, порывался бы отвечать на вызовы темных противников. Подставьте непроницаемые латы ударам безумца: вы ласкаете его безумие, он не заботится о пользе их, но веселится и гордится их шумом. Отойдите, и удары его, теряющиеся тихомолком в воздухе, на минуту позабавят зрителей и скоро утомят его бесплодную ярость. Но если сии правила пристойности и благоразумия запрещают входить с иными противниками в борьбу за личность современника, то там, где идет дело не столько о человеке, как о мнении, долг каждого ревнителя просвещения есть отмстить за истину, оскорбленную проповедниками ложных понятий, говорящими с пыльных кафедр языком умолкнувших столетий. Сие побуждение вложило мне перо и водило моею рукою при начертании сих строк.
Первые 83 из сих ныне изданных писем Вольтера писаны к Бертрану, бывшему в 1744 году проповедником в Берне и советинком при короле Станиславе. Бертран многими сочинениями по части естественной истории и физики заслужил отличное уважение от современников своих и был членом разных академий, в то время, по словам издателей писем, когда почесть сия не была наградою незначущего достоинства, как ныне, и академии заимствовали свой блеск от достоинства писателей, в них заседающих. Другие письма писаны к Даржансону, Дарженталю, Шувалову, Лану, Монкрифу, Неккеру и другим. Все более, или менее носят отпечаток Вольтера: лучше их похвалить не возможно: в сей похвале содержится и уверение, что чтение их равно занимательно быть может для всяких читателей. Ум Вольтера не принадлежит, как ум иных писателей, исключительно своему отечеству: он и всемирный, и единственный. И самые противники его во многих мнениях должны, если они беспристрастны, гордиться им по человечеству. Деятельность Вольтера, разнообразность его занятий, превосходство в многих из них и живость во всех, за кои он принимался, были и вероятно будут беспримерным явлением в летописях ума человеческого. Полководцы Александра разделили между собою по нем его наследство; Вольтер, который смелою рукою завоевывает владения своих предшественников, не мог однакоже оставить по себе достойного наследника власти своей, и скиптр его по смерти распался на части и ныне отдельно, и то с помраченным сиянием, сверкает во многих руках. Труды, оставленные им, мудрено измерить частною человеческою жизнью; иной академии на сложном своем веку не придется оставить по себе и четвертой доли его памятников. Письма к Шувалову писаны были в то время, как Вольтер занимался сочинением истории Петра Великого. Вместе с тем готовил он также издание Театра Корнеля, и потому в одном письме говорит ему: и даль величайшему из Петрос преимущество над нашим великим Петром Корнелем, как и вам в сердце моем над всеми меценатами в Европе. Прусской король недоволен был тем, что Вольтер взялся описывать деяния Петра Великого и смеялся над ним, что он занимается историею медведей и волков. Вольтер об этом пишет в Шувалову: я знаю хорошо, кто эти волки; и если мог бы надеяться, что августейшая пастушка, которая с кротостию пасет прекрасные стада, будет довольна тем, что я делаю для её родителя, то легко утешился бы в утрате покровительства одного из самых больших волков нашего света.
Часто ошибочное правописание, сходно с подлинниками сохраненное в печатании первых пятидесяти из сих писем, свидетельствует, с какою беглостью и небрежностью писывал Вольтер. Любопытно еще видеть в них означенные места, кои, при издании некоторых из сих писем в 1812 году, были выкинуты пужливою и нелепою цензурою тогдашнего деспотического правления. Выпишем несколько из них:
Мы начинаем держаться систем Англичан, («но надобно выучиться бы и бить их на море»).
Мне кажется, что Саломон («Мандрин») господствует в Саксонии, как и в Берлине.
(«Безумцы служат царям, а мудрецы наслаждаются драгоценным спокойствием»).
(«Германия будет верх дном поставлена, Париж очень мрачен»).
(«Называют решительными победами дела, кои ничто иное, как посредственные удачи. Поют Тебе Бога хвалим, когда едва запеть можно[1 - Сие техническое выражение по части Библейского Общества; прошу покорнейше секретаря оного ссудить меня им: боюсь неудачи; всякое дело мастера боится.]De profundis. Увеличивают нам маленькие успехи и обременяют нас большими налогами»).
Варшава.
notes
Сноски
1
Сие техническое выражение по части Библейского Общества; прошу покорнейше секретаря оного ссудить меня им: боюсь неудачи; всякое дело мастера боится.