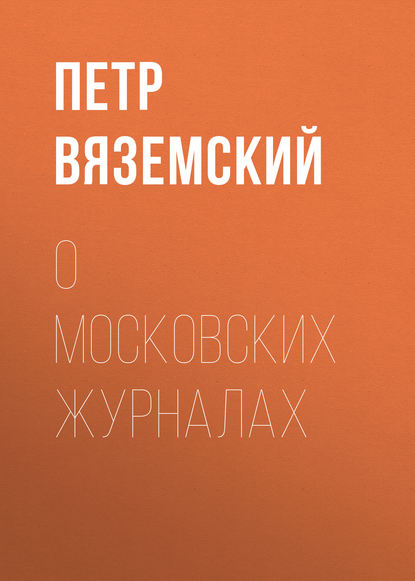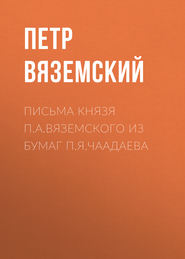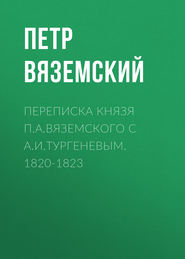По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О московских журналах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Андреевич Вяземский
«Вот ряд Московских литературных журналов и сомкнулся: запоздалые явились на свои места. «Московский Телеграф». 1-я книжка на 1830 год оправдывает ожидание читателей, которые привыкли находить в этом журнале более пищи любопытству, более удовлетворения разнообразным требованиям, чем в других Русских журналах, ему современных…»
Петр Вяземский
О московских журналах
Вот ряд Московских литературных журналов и сомкнулся: запоздалые явились на свои места.
«Московский Телеграф». 1-я книжка на 1830 год оправдывает ожидание читателей, которые привыкли находить в этом журнале более пищи любопытству, более удовлетворения разнообразным требованиям, чем в других Русских журналах, ему современных. Можно сравнить «Московский Телеграф» с застольным обедом в гостинице, не лакомым для взыскательности разборчивых гастрономов, но довольно сытным, с обедом, от коего встанешь по крайней мере не голодным. Для каждого вкуса, разумеется не слишком утонченного, для каждого желудка найдется пища: художник не очень искусен, стряпанье его нередко отзывается через-чур самоучкою и поспешностью, но по крайней мере он имеет хорошее свойство выбирать сочную и свежую провизию, разнообразить блюда и сметливо соглашаться с требованиями, аппетитом и гастрическими способностями своих застольников. Читателей Русских, охотников ходить по журнальным обедам, нечего уверять, что мое мнение о «Московском Телеграфе», как оно ни кажется умеренным, но не менее того оно, по сравнению, похвала, и едва-ли не исключительная. Сей журнал был предметом многих нападок со стороны совместников своих; в чисто литературном отношении и в кое-каких других отношениях он не безгрешен, но Русские читатели обязаны ему благодарностью, и, по совести, не другим журналистам следовало-бы выкликать на него негодование читающей публики. Не им-бы говорить, не нам-бы слушать. Если журнал дело торговое и договорное, если журналист берется за такую-то плату ставить подписчикам своим годовое продовольствие, то «Московский Телеграф», без сомнения, менее других обвинен быть может в неустойке. Многие придирались к нему и на картинки мод, пришиваемые к статьям, коих целью распространение сведение совершенно другого рода. Может быть, обвинение подкрепится еще большею силою ныне, когда вспомнишь, что Русский законодатель портних и модисток есть в одно время и историк Русского народа, когда вспомнишь, что объемлющий все пути известности и промышленности, приближаясь в Нибуру с посвящением, ко храму славы и в алтарю отечества с творением своим, в рассыпающейся заботливости мимоходом вносит и в модные лавки раскрашенные свои скрижали. Но соглашение сих противоречий, накидывающих несколько смешную тень на слишком разнообразное лице, может озаботить друзей и защитников нового историка, – журнальным читателям до того дела нет. Журнал – спекуляция умственная, или денежная, или та и другая вместе. Если издатель полагает, в чем он может быть и не ошибается, что из полного итога подписчиков его одна треть подписывается на модные известия исключительно, другая на модные известия, приправленные прочим, или на прочее, приправленное модными известиями, и только последняя треть принадлежит положительно в числу читателей журнала, то и в этом соображении пользуется он оборотом весьма позволительным. Но есть еще другое предположение, которое выставим тем охотнее, что оно благоприятно для лица издателя. Картинки Телеграфа, хотя по видимому вывески одной денежной спекуляции, но могут они быть средствами к успеху и спекуляции бескорыстно умственной. Зачем же не предположить, что Парижские щеголи и щеголихи, с которыми знакомит нас Московский Телеграф, ничто иное, как герольды, по следам коих вводит он в губернские и уездные города, в степные деревни, другие лица важнейшие, например: Шлегеля, Гизо, Кузена и других. Издатель знает пословицу: по платью встречают, а по уму провожают. Глядя беспристрастно с этой точки зрения, можно было-бы извинить его, если он и к историческому творению своему прибавил бы картинки мод. Тассо советует подслащивать край горькой чаши. Великие люди употребляли часто весьма мелкие средства для достижения обширной цели. Впрочем, в этом случае историк Русского народа имел бы даже и философическое оправдание. Преобразователь России не выпускал из вида и преобразование отечественных мод. Мудрено, как историк-философ, «вникнувший в дух своего века», пренебрег этим пособием местности. Будем однако же внимательны и справедливы: если новый историк и не прибегнул к союзу с Парижскими модами, то имел он в запасе другое «раскрашенное» пособие для расширения действий своих на умы многих Русских читателей. Знает ли хорошо г-н Полевой Российское государство, об этом ни слова, но Русский народ знает он твердо и в этом отношении достоин быть его историком. Обещание довести историю до нашего времени есть точно та же раскрашенная вывеска. Кто из благоразумных людей будет ожидать у нас историю новейших времен, не говорю уже современной эпохи? Но не все же пишется для благоразумных людей. Современная история нигде не доступна, особливо-же у нас. Укажем на один недостаток в исторических материалах, в современных записках. Историк, который добровольно берется перефразировать Московские Ведомости, писать о том, о чем писать неможно, и выдавать свою книгопродавческую работу за историю, тот накидывает большое подозрение на свой исторический характер и на свою историческую добросовестность. Отказываясь верить ему в одном, трудно доверять ему и там, где он мог бы свободно излагать свое мнение. Несбыточные обещания изобличают по крайней мере неосновательность ума, если не хвастовство и не шарлатанство; но и одной неосновательности довольно, чтобы отбить веру и уважение. Все это так в понятиях малого числа рассуждающих; но книги пишутся и печатаются для большинства.
Речь о занятиях Общества любителей Российской Словесности, в торжественном собрании оного, 1829 года декабря 23 дня, произнесенная временным председателем ординарным профессором И. И. Давыдовым и напечатанная в начале 1-й книжки Московского Телеграфа, соединяет в себе довольно верное исполнение условий торжественной академической речи. Сии речи вообще походят на светские речи образованных людей. Старайтесь не оскорбить никаких приличий, будьте вежливы ко всем присутствующим, довольно плавно и красиво выражайте довольно обыкновенные мысли, и более от вас требовать нечего. Некоторым из благоверных читателей может, однако же, показаться соблазнительным, что автор её, ординарный профессор, не много вольнодумствует о классицизме и романтизме. Что, например, скажут они о следующем: «Прежде обнаруживалось направление классицизма, пред сим у нас господствовавшее, стремление духа нашего к видимой природе, к её живописанию, невольное подчинение духовного существа вещественному владычеству – ныне совершенно иное направление получила словесность, направление романтизма». Неужели «вещественное владычество» отличительный характер классической древности? Неужели, например, Греческие трагики, в высоких созданиях своих, были рабами и данниками вещественности? У нас и так учение классиков в небрежении: если и те, которые по званию своему обязаны хранить священный камень древности, станут разуверять в святыне оного, то число отступников еще более размножится. Пускай каждый остается при своем; тяжба классицизма и романтизма еще не решена: классицизму еще нужны адвокаты. Другие читатели, требующие непогрешительности в слоге ученой речи, могут заметить несообразность другого рода. Вот пример: «тогда (т.-е. за 18 лет) мы не имели отечественной истории, учились ей по иностранным книгам; ныне мы гордимся своим палладиумом, произведением бессмертного дееписателя, и еще сей палладиум не поколебал в юном таланте (вероятно речь идет о Н. А. Полевом) намерение выйти на тоже поприще истории». Палладиум также не может поколебать, как и юный талант не может в другом смысле поколебать палладиум. Статья о всеобщей истории принадлежит к тем переводам, печатаемым в Московском Телеграфе, которые, служа доказательством сметливости и благонамеренности издателя в выборе журнальных материалов, утверждают за ним в ряду совместников первенство по занимательности. Часть критики, относящейся до Русской библиографии, далеко отстоит в «Телеграфе» от критики иностранной, заимствованной из лучших европейских журналов. В состав уложения критики отечественной не входят ни добросовестность, ни вкус, который также есть совесть эстетическая. Приговоры, произносимые издателем, отзываются всегда пристрастиями, лицеприятиями экстренного суда, руководствующегося не внутренним убеждением, не коренными законами, а одною силою обстоятельств и личных отношений. Это настоящий революционный трибунал: опалы, торжества, казни, апофеозы, действия и противодействия сменяются и применяются с беспрерывным противоречием, с примерною забывчивостью к одним и тем же лицам, к одним и тем же делам, смотря по времени и посторонним принадлежностям. Правда и то, что жертвы сего трибунала могут сказать ему:
Les gens que vous tuez se portent assez bien.
При недостатке добросовестности, которая могла бы давать некоторый нравственный вес суждениям «Телеграфа», еще чувствительнее недостаток вкуса, который по крайней мере, в минуты беспристрастия, верною оценкой разбираемых произведений, подкрепил бы голос «Телеграфа» в решении литературных тяжб. Впрочем, не будем требовать невозможного. Бойкость ума, сметливость, довольно острая понятливость суть способности врожденные, но вкус – способность, благоприобретаемая основательным и постоянным изучением. Знающим г-на Полевого известно по устным и письменным свидетельствам, что фундаментальное неведение его в первых познаниях литераторских доходит до границ баснословного невероятия, образование его совершенно практическое и оно ровесник Московскому Телеграфу, которому не более шести лет. По этому воззрению, г-н Полевой относительно к нему самому приносит честь Русскому имени и мы охотно, без малейшего эпиграмматического подразумения, подтвердим слова умного человека, который назвал его представителем Русской промышленности. Но из того, что он неимоверно многому научился для себя, не следует, чтобы он знал многое в отношении к литературе вашей. Жаль, что, не постигнув выгоды положения своего, не умел и не хотел он благоразумнейшей умеренностью, расчетливым ограничением действий своих в мерном кругу сосредоточить силы и дарования свои. Теперь, если г-н Полевой и принадлежит какой-нибудь школе, то разве Суворовской, которая не терпела немогузнайки. И в самом деле, нет в умственном и ученом мире ни одного запроса, от коего запнулся бы он. Читателям нашим вероятно не покажется неуместным, что мы несколько распространились в характеристике г-на Полевого. По способностям и погрешностям своим, по многим действиям благонамеренным и не злоупотреблениям своим, по роли, которую он играет в современной эпохе словесности нашей, он любопытный предмет исследования, изучения и указаний. Смеем надеяться, что мы в обрисовке своей не отступили от беспристрастия и добросовестности: желали бы мы надеяться, что бескорыстные откровенные указания наши послужат в пользу. – Поэзию Московского Телеграфа, как в сей 1-й книжке, так вообще на редкими исключениями и всегда, можно назвать слабою струною его. Летопись современной истории, или взгляд на 1829-й год есть не что иное, как взгляд на Московские Ведомости. Статьи о Русском Московском театре, печатанные прежде и кои, кажется, будут иметь продолжение и в нынешнем годе, замечательны своею обширностью. Нельзя не подивиться охоте и возможности говорить так часто и так много о г-же Лавровой, о г-же Репиной, о г-не Бантышеве и прочих и прочих, сколько при всем том дарования их не доставили бы удовольствия посетителям Московского театра. Новый живописец общества и литературы на 1830 год, явившийся в прибавлении к Московскому Телеграфу, по начальному опыту не обещает богатой галереи. Вообще часть нравов – слабая часть журналов наших. Наблюдатели наши, может быть, очень нравоучительны, но вовсе не остроумны; к тому же они близоруки, а между тем часто хотят описывать общество, которое видят только с улицы сквозь окна.
Вестник Европы начинает свой журнальный год не шуточным доносом на романтизм, т.-е. отрывком из полного опыта о романтической поэзии, «имеющего выйти в свет неукоснительно», по-авторскому выражению г-на издателя. Если отныне не станут заключать в остроги, или в больницы умалишенных, позволяющих себе придерживаться романтизма, то обвинение в худых последствиях падет уже не на автора сей статьи. Он с своей стороны прав: он все сделал, что мог, даже и чего не мог. Хотите ли, например, знать, что есть этот Байрон, которого в простоте души своей читают с удовольствием многие добрые люди? Узнайте: «он шатается стенью по мертвым костям бытия, из которых сам высосал соки жизни – не обретая нигде спокойствия и отрады – язва природы, ужас человечества». Вот другие выписки: «наша романтическая поэзия есть настоящее лобное место, настоящая торговая площадь. Один поэтический взмах проливает ныне более крови, чем грозная муза Шекспира во всех своих мрачных произведениях: сам Аретин закраснелся бы, глядя на беспутство и наглость, обнажающую себя столь незастенчиво на торжищах литературного нашего мира.» – «Куда-ж как приятно видеть ныне нашу поэзию, добивающуюся имени романтической, чрез постыдное подбирание изгарин и поддонков романтического духа». – «Даже невероятным кажется, чтобы поэма могла иметь поэтический цвет, если она не смочена кровью, – чтобы здание её было прочно, если оно не сооружено на черепах, подобно древнему Капитолию. Насилия, грабежи, разбои, убийства, братоубийства, отцеубийства, самоубийства, одним словом, все неистовства, до каких только может низвергаться человеческая природа в минуты преступного самозабвения, составляют венец и украшение настоящей поэзии.» – Не знаешь, чему более дивиться в сей статье: исступлению-ли слога, или исступлению мыслей, или мнений, потому что мысли ни единой тут нет.
Но всего более удивляет, что журналист, предлагающий читателям своим сочинения, писанные подобным языком, сочинения, где слова и выражения низкие и высокопарные, витийство семинарское и краснобайство площадное воют разногласно, мог когда-нибудь почитаем быть судиею и знатоком в Русской словесности. В сей книжке напечатана также критика на Историю Русского народа: читателям, знакомым с Вестником Европы, довольно сказать, что она писана с Патриарших прудов. Как ни будь дельны замечания, в ней заключающиеся, но какая истина не изнеможет, опутанная заблуждениями подобного рода? Патриаршие пруды так тинисты, что не распознаешь и её самой, когда она выходит из них в люди. Вот начало критики: «Феория предчувствий составляет доселе камень претыкания для испытателей человеческой природы. Одни утверждают, что сии тайные вторжения в туманную область будущности, которые мы называем предчувствиями, суть не что иное, как преждевременные попытки самой души – стряхнуть с себя чуждые вериги пространства и времени», и проч. Кто не подумает, что весь этот набор слов какой-нибудь продолжительною опечаткою попался в начало критики на Русскую историю? Многие ли из Русских читателей дойдут до конца этого периода? Для кого писать таким языком? Для ученых? он покажется верх невежества. Для светских простолюдинов? недоступный верх учености. Один критикуемый автор найдет свою пользу в неестественном изложении мыслей, которое должно отбить читателей разного рода. Вообще должно сказать как о сей критике, так и о той, которая напечатана на туже книгу во 2-м № Московского Вестника, что они писаны вовсе не языком критики. Понимаем негодование, понимаем обязанность занимающихся учением истории изобличить шарлатанство, самохвальство и немощь, когда они совокупно являются на поприще историческое с требованиями на общее внимание. Но и негодование не должно испаряться в порывах многословной горячности. И негодование должно метить, а не кидаться во все стороны. Критика должна иметь стройное хладнокровное движение регулярного войска Европейского: наши критики имеют запальчивость, дикие вопли, необузданное стремление Азиатских орд. От первой спастись трудно; стоит только выждать терпеливо опрометчивость других, а отразить их легко. В критических разборах обоих журналов можно заметить еще общую неуместность: поздние обращения к трудам и памяти Карамзина, удары, во ими его наносимые новому историку. Нет сомнения, что оскорбительные суждения о творении его, напечатанные в Вестнике Европы и в Московском Вестнике, имеющие целью поколебать уважение к заслугам, им отечеству оказанным, приготовили нынешние сатурналы литературы нашей, разразившиеся появлением Истории Русского народа. В этом отношении г-н Полевой поступил неблагодарно: следовало ему посвятить творение свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву. Они удобрили ниву, на которой он собирает жатву; они вложили в него мысль и усердие обработать ее. В политическом мире анархия ведет к деспотизму: в литературном мире, ниспровержение законов изящности, анархическое своевольство есть также вступление к лжецарствию невежества.
Любителей Русской поэзии можно поздравить с двумя дебютантами-близнецами на сцене Вестника Европы. Вот имена их: Орлино-Когтев и Львино-Зубов. Впрочем, они только именем страшны, а стихи их также незлобивы, как и все эпиграммы Вестника Европы. Издатель обещает сообщить читателям библиографические известия о книгах отечественных и иностранных. В 1-м No дается легкий отчет о четырех книгах: Древние и новейшие Болгары в отношении к Россиянам, Крымские Сонеты Адама Мицкевича, перевод и подражания Козлова, Радуга, Альманах анекдотов. Подобные критические статьи придадут, без сомнения, живость и занимательность Вестнику Европы. В этом журнале давно уже ничего не говорится спроста: везде язык символический, загадочный, исполненный намеков и умолчаний. Надобно вслушаться, вглядеться в него долго, прежде чем дать себе право переводить с него на другой более житейский язык. И потому не решимся сказать ни слова о сей библиографической попытке. Довольствуемся тем, что поздравим подписчиков Вестника Европы с дополнением, необходимым для литературного журнала.
Главные принадлежности Атенея вообще: благоразумие, здравость в суждениях и выражении, соблюдение приличий, уважение в читателям и в званию писателя, вежливость образованности Европейской и частного общежития, правильность, чистота языка и слога: сие последнее свойство немаловажно в наши дни, когда сама феория языка нашего угрожаема совершенным ниспровержением практическими попытками новых прозаиков. Чего же не достает Атенею, чтобы удовлетворить читателям, требующим Европейского журнала? Не достает живости, деятельности, подвижности, теплоты, которые можно почесть существенными необходимостями периодического издания. Определить положительно и ясно в чем состоят именно потребности сии – почти невозможно; но отсутствие их осязательно, и вот почему Атеней, при других правах своих на внимательное уважение, не имеет в России влияния, без коего журнал самобытно существовать не может. Разумеется, говоря о живости и подвижности, не имеем в виду той боевой живости, той рукопашной подвижности, коими укрепились мышцы других журналов, испытанных в брани. У нас многие из авторов худо понимают смысл иностранных слов: критика и полемика по мнению иных одно и тоже. Критика: суждение, или исследование, или разбор творения. Полемика: письменный спор ученый, литературный, феологический. Можно критиковать пред судом публики книгу, какое ни имей понятие о сочинителе её: но не всегда захочешь вступить в полемику с сочинителем, т.-е., в спор, в прение, потому что спор есть разговор, а с иным писателем разговаривать ни можно, то есть не должно. Впрочем, и полемика полемике и спор спору рознь. Между равно благовоспитанными, образованными людьми нередко и в споре бывает обмен насмешек, колкостей, но из того не следует, что спор в гостиной между благовоспитанными людьми есть одно и тоже что спор в сенях между лакеями, или на улице между черни. По этому соображению, образованный человек, застенчивый в отношении к чести своей, не войдет в бой неровный, словесный или письменный, с противниками, которые не научились в школе общежития цене выражений и приличиям вежливости. – В 1-й книжке Атенея напечатан еще отрывов из Опыта о романтической поэзии, который скоро вполне будет издан. Помянутый отрывок переведен с латинского: тот же ли это самый Опыт, о коем объявил и Вестник Европы? – неизвестно. По слогу трудно узнать тождество в авторе обоих отрывков. В Атенее видно гораздо более умеренности, порядка, более хладнокровия, трезвости в мнениях и выражении. Если однако же согласиться, что автор один, то должно полагать, что в день авторской лихорадки пишет он для Вестника Европы, а в день перемежки для Атенея. Заметин и то, что в первом журнале дело идет о романтизме современном, в другом – о романтизме средних веков. Некоторые из нынешних романтиков пишут эпиграммы классические; это непростительно: если Прованские трубадуры и писали эпиграммы, то не на нас, и, следовательно, горячиться вам нечего. Как бы то ни было, ожидаем с любопытством появления полного Опыта, или полных опытов, если их два. Но судя по сим отрывкам и вообще по мнениям, которые у нас в обращении по предмету романтизма, надеяться новых понятий, точнейшего распределения двух родов, кажется, еще не время. В изыскании начал классической и романтической поэзии, в начале двоякой природы нашей: вещественной и духовной, внешней и внутренней и так далее, видно более мистицизма, чем лучезарной критики. Неужели трагическое творение Эдипа менее религиозно, менее отвлеченно в общем понятии и в применении к веку своему, чем создание Иоанны д'Арк? И взирающему с сей точки зрения почему Софокл должен показаться классиком, а Шекспир романтиком?
Юрию Милославскому и здесь не совсем посчастливилось. По пословице: ему мягко стелют, а жестко спать. После начальных дружеских приветствий, заключающихся в подобных выражениях: «Замысловатый план, занимательность действия, живость красок, верная обрисовка характеров, много поэтических оттенков, прекрасный слог» и проч. и проч., вот что находим в конце: «В Юрии Милославском весь ход происшествий, не смотря на множество частностей, по-видимому делающих его чрезвычайно разнообразным, очень прост, односторонен, не богат поэзией, ибо все случаи, которые, так сказать, испестряют главное событие, не развиваются из одной главной мысли, из одной точки, но есть что-то накладное, постороннее: по этому мало жизни в романе, вполне поэтической жизни». «С первого взгляда бросается также и то, что весь роман состоит почти из одних разговоров, из беспрестанных отдельных сцен, и между тем – как мы сказали уже – довольно маловажных, тогда как проходят долгие промежутки времени, которые могли бы быть, и даже должны были быть гораздо важнейшими происшествиями: по этому, читая Юрия Милославского г-на Загоскина, воображаешь себя иногда на месте человека, пришедшего в переднюю в дом вельможи: множество лиц мелькают мимо вас, но вы узнаете об них только по замечаниям слуг».