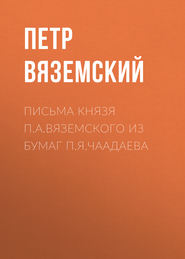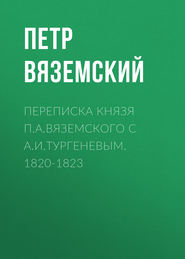По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Несколько слов о полемике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Андреевич Вяземский
«У нас многие из авторов худо понимают смысл иностранных слов: критика и полемика, по мнению иных, одно и то же. Критика – суждение, или исследование, или разбор творения. Полемика – письменный спор ученый, литературный, филологический. Можно критиковать перед судом публики книгу, какое ни имей понятие о сочинителе ее; но не всегда захочешь вступить в полемику с сочинителем, то есть в спор, в прение, потому что спор есть разговор, а с иным писателем разговаривать не можно, то есть не должно. Впрочем, и полемика полемике, и спор спору рознь…»
Петр Вяземский
Несколько слов о полемике
У нас многие из авторов худо понимают смысл иностранных слов: критика и полемика, по мнению иных, одно и то же. Критика – суждение, или исследование, или разбор творения. Полемика – письменный спор ученый, литературный, филологический. Можно критиковать перед судом публики книгу, какое ни имей понятие о сочинителе ее; но не всегда захочешь вступить в полемику с сочинителем, то есть в спор, в прение, потому что спор есть разговор, а с иным писателем разговаривать не можно, то есть не должно. Впрочем, и полемика полемике, и спор спору рознь. Между равно благовоспитанными, образованными людьми нередко и в споре бывает обмен насмешек, колкостей; но из того не следует, что спор в гостиной между благовоспитанными людьми есть одно и то же, что спор в сенях между лакеями или на улице между черни.
По этому соображению образованный человек, застенчивый в отношении к чести своей, не войдет в бой неровный, словесный или письменный, с противниками, которые не научились в школе общежития цене выражений и приличиям вежливости. Пойдет ли благородный человек, вооруженный шпагою, драться на поединке с поденщиком, владеющим палкою? Разумеется, не от страха откажется он от боя: оружие его язвительнее; но законы чести, сии необходимые предрассудки общества, определили, что бой на шпагах благороден, а бой на палках унизителен. Английские нравы, может быть, хороши в Англии, но не в литературе: там знатный лорд должен по первому вызову площадного витязя засучить рукава и действовать кулаками. Есть и в литературе аристократия: аристократия талантов; есть и в литературе площадные витязи, но, по счастью, нет здесь народного обычая, повелевающего литературным джентлеменам отвечать на вызовы Джона Буля.
Говорено было о нравственном состоянии литературы нашей. Где искать примет его, где изучать явления его? В журналах. В них движение, в них страсти, в них отголосок самих речей, самих деяний, в них сами лица показываются наголо. В книгах – но, впрочем, книг у нас не выходит – гораздо менее индивидуальности. В книге скроешь себя: книгу сочиняешь, и вместе с нею автор сочиняет и себя. В журнальной статье автор проговаривается. В одной слышим мы речь его с авторской кафедры; в другой невольный крик его, экспромт его ума, его характера, истинный звук инструмента, не настроенного обдуманно на такой-то или другой строй, нимало не измененного учеными переходами из тона в тон. Демосфен, говоря о речах Эсхина, сказал: «Что было бы, если б видели чудовище?» Журнальные Эсхины в статьях своих и слышны и видны. Я думаю, новому роду Лафатеров после нескольких изучений легко бы по прочтении иной статьи указать в обществе на незнакомое лицо того, кто ее писал. Что составляет жизнь большей части журналов наших? Чужеземные похищения и домашние тяжбы честолюбий оскорбленных, честолюбий возникающих, честолюбий падающих. В первом отделении, то есть в отделении переводов, являются свидетельства степени ума, вкуса, образа мыслей редакторов, которых судим мы по выбору статей, ими предлагаемых. Тут писатели наши показываются нам только в профиль. В другом отделении они во все лицо, во весь рост, живые.
Трудно понять, почему иные литераторы полагают, что литературный мир, что уложение литературного общежития должны стоять на низшей степени, чем мир общества, в котором мы живем ежедневно. Почему полагают они, что непозволительное в гостиной, в сношениях личных человека образованного с человеком образованным, может быть терпимо на сцене литературной гласности, в сношении писателя с писателем? Может быть, заметят в оправдание их, что они по обстоятельствам, по занятиям их не принадлежат хорошему обществу, что они не посвящены в таинства его и, следовательно, не обязаны повиноваться законам, которые, так сказать, не при них писаны; но это оправдание может примениться к одним отступлениям от сепаратных указов утонченной светскости, к отступлениям от условий частных, случайных, изменяющихся по временам и обстоятельствам. Но коренные законы общественной пристойности принадлежат, так сказать, к праву естественному; они везде одни и те же и должны быть известны и свойственны каждому члену образованного общества. Указывать на статьи, которые имеем теперь в виду, разбирать их – значило бы отвечать писавшим оные; а, слава Богу, нет ни малейшего желания к тому. Можно только выставить одно доказательство, что большая часть из критических или полемических статей журналов наших – статьи не чисто литературные и что в них более содержатся чистые или нечистые личности. Не знающий ни сплетней нашей литературы, ни частностей домашних тех или других критикуемых авторов ничего не поймет, читая критику на сочинение, которое он и читал. Тут авторы говорят как будто между собою, мимо читателя, намеками, наречием отдельным. Со стороны слышишь, что они бранятся; но за что, во о чем, но на каком языке? не понимаешь. Было сказано: речь есть искусство прикрывать свою мысль. Кажется, по мнению некоторых, печатание есть способ обнажить свою мысль и выразить то, что совестно и опасно сказать изустно.