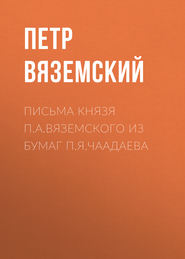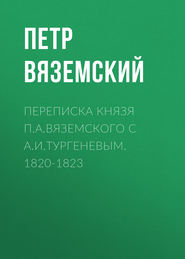По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ферней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Андреевич Вяземский
«„Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?“ В этих словах Русского Путешественника поразило меня слово должность. Теперь сказали бы мы долг или обязанность. Конечно, лестно самолюбию каждого писателя отыскать неправильное выражение в Карамзине, как всякому астроному отыскать пятнышко в солнце. Это доказывает, что глаза хороши и телескоп хорош. Но полно пятнышко-ли это? С Карамзиным надобно быть осторожным, он слова употреблял не наугад. Может-быть, выражение Карамзина и правильно, и в духе языка нашего. Долг и должность имеют не одно значение. „Отпусти нам долги наши!“ Тут не заменишь слово долги словом должность, равно как и в смысле долги, не лежащего на должнике. Слово обязанность было бы ближе к делу. Теперь выражение должность приняло исключительно официальное и служебное назначение…»
Петр Вяземский
Ферней
I
«Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?»
В этих словах Русского Путешественника поразило меня слово должность. Теперь сказали бы мы долг или обязанность. Конечно, лестно самолюбию каждого писателя отыскать неправильное выражение в Карамзине, как всякому астроному отыскать пятнышко в солнце. Это доказывает, что глаза хороши и телескоп хорош. Но полно пятнышко-ли это? С Карамзиным надобно быть осторожным, он слова употреблял не наугад. Может-быть, выражение Карамзина и правильно, и в духе языка нашего. Долг и должность имеют не одно значение. «Отпусти нам долги наши!» Тут не заменишь слово долги словом должность, равно как и в смысле долги, не лежащего на должнике. Слово обязанность было бы ближе к делу. Теперь выражение должность приняло исключительно официальное и служебное назначение.
Как бы то ни было, и я почел за приятную обязанность или должность побывать еще раз в Фернее. Посетил я его за несколько лет тому в первый мой проезд через Женеву. Вчера опять отправился я на поклонение. Я не вольтериянец, но и не бешеный анти-вольтериянец. Иное в сторону, и очень в сторону, и очень далеко в сторону, а все-таки в Вольтере найдется много, за что можно помянуть его не лихом, а добрым словом. Да и время взяло свое и отребило пшеницу от плевел. Кощунства Вольтера не читаются ныне даже и необдуманной молодежью, падкой на всякие соблазны. Может быть, даже ударились в противоположную крайность. Вольтера, может быть, вовсе не читают. Это жаль и несправедливо. Как и во времена Карамзина, доступ в Фернейский замок или дворец (ссылаясь на недавно вышедшую книгу Ars?ne Houssaye «Le Roi Voltaire») не совершенно свободен. Он должен был уверить в благодарности человека, вышедшего ему на встречу с отказом, а я победил недоброжелательство своею визитною карточкой. Блого, что нынешний владелец Фернейского поместья, г. Давид, торгующий бриллиантами, торговал ими и в России, где, по словам моего чичероне, нажил он значительное богатство. Впрочем, нельзя обвинять и владельцев известных исторических местностей, если они не растворяют дверей настежь алчной и хищной орде туристов, которые совершают набеги на достопамятные места. Они, и вероятно наиболее из орды Англо-Саксонов, ободрали занавески, окружавшие кровать Вольтера, так что не осталось ни одного клочка. Есть в саду вяз, посаженный самим Вольтером. Он так изувечен и ободран, что прошла молва, что его обожгло молнией, По ближайшему следствию и достоверным справкам оказывается, что кору слупили с него те же ордынцы-туристы. Теперь дерево обведено защитительною оградою. Вообще, по всему видно, что нынешний хозяин дорожит памятью своего дальнего предместника. У нас подобный консерватизм не введен в наши нравы и обычаи. С царствования Императора Николая государственная историческая археология и особенно ныне археография получили живое значение. Признательное потомство этого не забудет. Но частные, семейные, биографические памятники, которые также, в свою очередь, суть принадлежность и необходимое пополнение общей народной истории, почти у нас не существуют. Во многих ли семействах сохранились семейные портреты, переписки, родовые акты, родовые имения? Меня уверяли, что недавно, когда, для совершения какого-то акта, потребны были бумаги князя Смоленского-Голенищева-Кутузова, нигде не могли найти послужного списка его. Мы скоро живем, и наши доисторические эпохи, как изволите видеть, довольно свежи. Авось новое поколение наше будет бережливее и домостроительнее… Перед входом во двор замка стоит еще каплица, построенная Вольтером, и сохранила свою знаменитую надпись: Deo erexit Voltaire. Ныне церковь упразднена и даже прежними владельцами обращена была в сарай. Это святотатство, но, впрочем, достойное святотатства самой надписи. Слышно, что новый помещик хочет возобновить церковь и возвратить её служению Богу. Пускай помолятся в ней добрые люди об успокоении души усопшего болярина Аруэта и о прощении ему вольных и невольных прегрешений его; а болярина-помещика есть чем помянуть. Он создал это селение, благодетельствовал ему и жителям его. Из любви в ним навязывал часы изделия их земным владыкам, а особенно Императрице Екатерине II. Из благодарности к ней портрет её висел над самым изголовьем кровати. Он и доныне сохранился на том же месте. Вообще спальня Вольтера, которая была и кабинетом его, довольно тесная комнатка, и рядом с нею приемная его носят еще признаки и характер ему современные. Портреты, висящие на стене, большею частию, гравированные в малом размере, вводят зрителя в круг приязней и сочувствий его. Мавзолей, весьма не художественный и не богатый, в котором было погребено сердце его, с надписью: son esprit est partout et son coeur est ici, остался, но пустой. Надпись лживая, как почти все надписи. Ум или дух его уже не везде, а сердце его не здесь. Ум несколько выдохся, а сердце не успокоилось и не улеглось и тогда, когда перестало тревожно биться в груди его. Оно увезено было в Париж. Слышно, что оно возвратится восвояси. Нынешний хозяин Фернея, бриллианщик домогается добыть его. Может быть выменяет он его на драгоценный алмаз. Странная участь сердца покойника. Что живые сердца пускаются в торговое обращение, это дело виданное и сбыточное; но мертвое! Совестно, применение, но это невольно напоминает Чичикова и закупку его мертвых душ. Кстати о Фернее и Карамзине. Любопытно отметить литературное сужденье его о Вольтере. Отдавая полную справедливость уму и дарованию его, не признает он в нем тех великих идей, которые бывают непосредственною принадлежностью избранных смертных, каков, например, Шекспир; на этом, так-сказать, среднем состоянии ума и основывает он общий успех Вольтера. Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и не ученых; все понимали его и все пленялись им. Далее говорит он: «Кто не чувствует красоты Заиры? но многие-ли удивляются Отеллу?» Затем в выноске следует оговорка, весьма любопытная, «тогда я так думал». Тогда, то есть в молодости; я не думаю, чтобы Карамзин в летах умственной зрелости более уважал и выше ценил творца Заиры: с летами, с усовершенствованием дарования и духовных сил его, понятия более и более приходили в нем в равновесие и стройное спокойствие. Чисто судорожные, насильственные движения и порывы должны были пред судом его вредить истинным красотам Шекспира. Золото золотом, а грязь грязью. Не забудем, что только промытое золото становится золотом. Шекспир не промывал своего золота. Вольтер не только промывал свое золото, но и давал ему художественную оправу. Вспомним, что и Гёте, который также бывал иногда Шекспиром, признавал к старости пользу и необходимость изредка перечитывать Французских классиков. На память приходит мне случай, который как ни маловажен, но может пояснить и подтвердить догадку мою о позднейшем умственном настроении Карамзина. Граф Виельгорский пел при нем только-что появившуюся песнь Пушкина из поэмы Цыгане. Когда дошло до стихов: режь меня, жги меня и проч. Карамзин воскликнул: как можно класть на музыку такие ужасы, и охота вам их петь? Много причин, почему, согласно с Карамзиным: публика была всегда на стороне Вольтера. Главная и лучшая есть, конечно, та, что он был человек ума необычайного, разнообразного, смелого и острого и писатель, в отношении художественном, каких не много. Но есть причины и прикладные, содействовавшие успеху его и господству над современниками. Во-первых, он родился во время. Родись он ранее, его, может быть, сожгли бы: умри он несколько позднее, его бы гильотировали как аристократа. Вольтер был умозрительный революционер; но в житейских условиях он был консерватор и дворянин, пожалуй барин и помещик. Во-вторых, по словам не помню кого: он в высшей степени имел тот ум, который все имеют. Il avoit le plus de cet esprit qu'а tout le monde. A каждый любит видеть свои мысли, свои сочувствия в изящном переводе и в блестящей оправе. В заключенье, он был из Французов Француз, а в его эпоху вся Европа была более или менее питомица Франции. О Немцах, об Англичанах в литтературном отношении не было и помину. После сами же Французы, начиная от г-жи Сталь, которая сама писала со слов братьев Шлегелей, имена Шекспира, Гете, Шиллера и других иноземцев получили право гражданства в литературной республике. Тут возникло противодействие. Начали жечь то, что прежде обожали, и воздвигать алтари тому, чего прежде не знали. У нас, когда прочая Европа еще молчала об Английских поэтах и Немецких писателях, Карамзин первый, и на долгое время исключительно один, говорил о них; он знакомил нас с их произведениями и оценивал их с тонким чувством критика и с сочувствием ума доступного и души открытой ко всему изящному.
II
Мы упомянули выше о книге Царь Вольтер. Она замысловата и остроумно составлена, но жаль, что автор её часто грешит излишнею изысканностью и остроумием, иногда до приторности. Слог его нарумянен, напудрен, облеплен мушками. Все это было в обычаях XVIII века, но не в обычаях лица, которого жизнь он нам рассказывает. Вольтер был тоже остроумен и замысловат, но, вместе с тем, всегда прост, ясен и умерен на краски и блестки. Автор разделяет свою биографию на отделенья: молодость Вольтера, двор его, министры, народ, завоевания, династия его и проч. Под оболочкою шутки есть истина в этом расположеньи. Остановимся мимоходом на статье двор Вольтера, потому что она переносит нас в Ферней и ближе знакомит нас с пребываньем его в этой резиденции. В книге нашей о Фон-Визине мы уже заметили, задолго до появленья сочиненья, о котором идет здесь речь, что Вольтер имел при себе аккредитованные дипломатические лица и, между прочими, нашего Салтыкова. В письмах своих Гримм, которого Ars?ne Houssaye, именует министром внешних дел Вольтера, рассказывает следующим образом о другом Русском посольстве, прибывшем в Ферней: «на-днях приехал в замок Ферней князь Козловский, присланный чрезвычайным послом от Императрицы Всероссийской, в сопровождении гвардейского офицера, и поднес Вольтеру, от имени её Императорского Величества, круглую костяную табакерку, оправленную в золоте, художественно отделанную и выточенную руками самой Императрицы. Табакерка была украшена портретом её Величества и осыпана драгоценными бриллиантами. Вместе с тем, была доставлена патриарху от Императрицы великолепная шуба, чтобы охранять его от Альпийских ветров. К подаркам приложены были Французский перевод Наказа Екатерины II и письмо, достойное гения, который продиктовал его, и того, которому оно было надписано. Уверяют, что Вольтер помолодел десятью годами от этого императорского посольства. Гюбер, известный своими вырезками, предложил недавно Императрице представить домашнюю жизнь Вольтера в собрании отдельных картинок. Предложение было благосклонно принято, и он ныне занимается этою работою. На первый раз послал он Императрице изображение приема посольства князя Козловского в замке Фернея!» Известно, что после ссоры своей с Фридрихом Великим, неприятностей и гонений, претерпенных им в отечестве, Вольтер переселился в Женевскую республику. Ему было тогда 60 лет. Он купил поместье Les Dеlices, у самых ворот республиканского города. Странная противоположность, говорит A. Houssaye, И. И. Руссо, Спартанский уроженец Женевы, переселяется в Париж, а Вольтер, Афинский уроженец Парижа, водворяется в Женеве. Не смотря на то, он не очень ей сочувствует: «Вы не поверите», писал он, «как эта республика заставляет меня любить монархии». Замок и сад поместья Dеlices существуют и ныне. Деревья с летами разрослись и богаты дремучею тенью. Более прежнего Вольтер мог бы сказать теперь:
О jardin d'Epicure!
Невольно при этом стихе рождается во мне мысль, что в саду было много комаров. Простите мне этот пошлый каламбур!
Vous qui me prеsentez dans vos enclos divers
Ce qui souvent manque ? mes vers
Le mеrite de l'art soumis ? la nature.
Но дом, который, говорят, остался в прежнем виде, выдержал странное внутреннее преобразование или новое назначение. Это место принадлежит ныне Фази, брату нынешнего диктатора, и дом отдается в наем под девичий пансион. Должно надеяться, что тень великого проказника, автора Кандида и многих других сочинений, не совсем принаровленных ad usum, не является во сне непорочным девицам и не нашептывает им свои часто грешные стихи и грешную прозу.
Но он не ужился в республике и вскоре после того купил Фернейское поместье, пограничное между Франциею и Женевою. Здесь построил замок, церковь, театр. Построил он городок и призвал туда переселенцев, не имеющих пристанища. Основал он мануфактуру часов, коей доход ежегодный возрос скоро до 400,000 ливров. Он осушил болото, разработал бесплодные земли и проч. Одним словом, был попечительный и благотворительный помещик. Эта часть трудов его не потеряла цены своей, пережила его и многие другие письменные труды его, которые ныне забыты. Городок или посад Фернейский, существующий и ныне, создание его… Чтобы о том не забывали, содержатель харчевни, вместо вывески, повесил над заведеньем своим Вольтера портрет, который качается по ветру и словно поклоном приветствует любопытных посетителей его любимого жилища.
Автор упоминаемой нами книги мысленно переносится обратно в давно минувшую эпоху и входит в кабинет Вольтера: «Вхожу в комнату, где разбросаны книги всех наречий и всех возможных понятий. Тут работают два человека, приготовляя судьбы или случаи мира. Вольтер диктует. Ваньер пишет. низко кланяюсь Вольтеру, который подает мне руку, не прерывая начатой фразы. „Позвольте“, говорит Ваньер, „мне кажется, что вы ошибаетесь в приведении текстов“. Идите далее, отвечает Вольтер, я ошибаюсь, но я прав. Истина выше всего, доныне истории не было; я за нее принялся „et je la fais“. Между тем, осматриваю его с головы до ног. Он в странном наряде. Это чета Жан-Жаку в его Армянском одеянии. Огненная голова его заключена в огромном парике, камзол, обшитый мехом, штаны цвета ventre de biche, на ногах сандалии, руки обременены книгами. Вот в каком виде представляется мне Вольтер. Не переставая диктовать Ваньеру и лаская детей его, он говорить мне о Париже, о великом человеке, которого зовут Дидеротом, о негодяе, которого зовут Ноннотом; он говорил мне о поэзии, как человек, который не имеет времени сделаться мечтателем». Переходят в приемные комнаты. Подают завтрак. Вольтер пьет один кофий. Являются посетители; он принимает их и часто смеется их торжественной важности. Адвокат развертывает пред ним все свое провинциальное красноречие и, восторженно обращаясь к нему, восклицает: приветствую вас, светильник мира! Г-жа Денис, подайте щипцы, говорит Вольтер. За часом славы следует час текущих дел. Приходят фермеры, заемщики, жильцы по найму в поместьях Турна и Ферней, весь народ воскормленный Вольтером. Он требует кофий, еще кофий, всегда кофий. На просьбы является он снисходительным и упорным; выслушивает иных как отец семейства, других как помещик. После опять идет в свой парк, иногда с лопаткою, другой раз с книгою в руке, с цветком никогда. Приходят вести и письма из Парижа. Тут ему и кофий не нужен: он может ими одними питать себя и жить. Взволнованный идет он в свой кабинет; пишет двадцать писем в один час, пуская на волю невоздержное перо свое, которое выкупается умом его.
Вечером гости замка: Кондорсет, Кименес, Мармонтель, Лагарп, Флориан и несколько дам и актрис являются во двору Фернейского царя.
Знаменитый герцог Ришелье (о котором Вольтер говорил: «мой герой и мой должник», потому что он давал ему денег взаймы. Вольтер был не только помещик, но и капиталист) и не менее знаменитый и нам по двору Екатерины II знакомый, принц де-Линь были в числе хаджи, которые ездили на поклонение в эту Мекку философии XVIII века. A Вольтеру часто были в тягость приходящие к нему поклонники и он ограждал себя от них странным и забавным образом. Не зная еще принца де-Линь и боясь скуки, он добросовестно принял лекарство, чтобы иметь право сказаться больным, когда принц де-Линь в первый раз посетил Ферней. Но вскоре дело объяснилось и уладилось, и патриарх признал в принце достойного ученика своего и он сделался у него домашним. Непременный секретарь академии французской Ars?ne de Honssaye приводит в книге своей: любопытные выписки из писем г-жи Сюар к мужу своему, которому рассказывает она пребыванье свое в Фернее. Эти выписки доказывают, до какой восторженности, до какого дайламического обожания доходили его приверженцы. «Наконец», пишет она в своем письме, «я видела г. Вольтера, мне казалось, что я стою пред существом не земным, не смертным; сердце мое ужасно билось, когда я въезжала во двор этого освященного замка. Вольтера не было дома: он гулял по саду. Скоро возвратился он, громко взывая: „где она, эта душа, которую ищу?“ И г-жа Сюар бледная и трепещущая, подходит и говорит: „эта душа преисполнена вами: если бы сожгли ваши сочинения, их отыскали бы во мне“. „Исправленныя“, говорит Вольтер, с тою быстротой и сметливостью ума, которые сохранил он до последнего часа. „Невозможно“, продолжает она, „описать пламень глаз его, привлекательность и миловидность (les gr?ces) лица. Какая обворожительная улыбка. Как была я поражена, когда вместо дряхлости, которую думала я найти, увидела эту физиономию, исполненную выражения; когда вместо согбенного старца, предстал мне человек статный, держащийся прямо, с благородною и развязною поступью. Нет в лице его ни одной морщины, которая не была бы миловидна“. (Вольтер был тогда 81 года). Г-жа Сюар целует руки его: „счастлив я“, говорит он, „что я уже полумертвый; вы не так ласково обходились бы со мною, будь мне 20 лет“. Но могла бы я любить вас сильнее, нежели теперь люблю, но была бы я вынуждена таить от вас биение моего сердца, если б вы были бы 20 лет.
Однажды катаются они по лесу в коляске: „я была в восхищении“, пишет она, „я держала в руке своей руку его и поцеловала ее двенадцать раз. Он не мешал мне, видя, что это для меня счастие“».
По счастию, замечает историк, они были не одни. Третьим с ними сидел Салтыков, чрезвычайный посол Екатерининского двора и был свидетелем сего возрожденья к новой юности старого титана. Дело в том, что Вольтер был очень влюбчив и сердечкин до преклонной старости. Эта черта сильно мирит меня с ним. Странно ныне читать подобные излияния восторга и идолопоклонства. Авторам наших дней не воздают таких сердечных почестей. A вот что Пушкин рассказывал о себе: дорогою где-то обедал он в почтовом доме. Является барыня, молодая, приятной наружности, похвалами осыпает поэта, радуется случаю, который доставил ей счастие узнать его, взглянуть на него и подносит ему кошелек своего рукоделия. Пушкин, как ни был скептик, тронуть изъявленьем этой простосердечной преданности и доказательством популярности своей даже и в уездной глуши. Барыня уходить. В коляску Пушкина запрягли лошадей и он отправился далее. Не успел он выехать из селенья, как слышит погоню за собою. Верховой скачет во всю прыть, останавливает коляску и докладывает Пушкину, что барыня просит заплатить ей 5 рублей за кошелек, который он принял от нее…