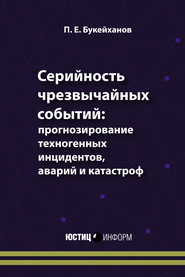По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Как Пётр Первый усмирил Европу и Украину, или Швед под Полтавой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тем не менее в 1943 году именно такими мероприятиями на левом берегу Днепра была создана 20–30-километровая полоса «выжженной земли», а группа армий «Юг» благодаря этому вышла из-под ударов советских войск и, в основном, смогла переправиться за Днепр, где немцы восстановили сплошную линию обороны[61 - Манштейн Э. Утерянные победы / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 1999. – 896 с. – С. 573.]. Вот только отдача приказов, инициировавших подобные действия, впоследствии инкриминировалась Манштейну в числе других деяний, за совершение которых британский военный трибунал в 1950 году осудил его как военного преступника. Немецкие солдаты и офицеры, исполнявшие эти приказы, «оголаживая» Левобережную Украину в тех самых местах, где на двести лет раньше воевали шведы Карла XII, также признавались военными преступниками, выявлялись, разыскивались, выдавались советской стороне и осуждались советскими военными трибуналами.
С другой стороны, исходя из оперативно-стратегической целесообразности, король Карл XII должен был поступить так же, как и германское командование, и противопоставить методам войны русских аналогичную стратегию «выжженной земли» в их собственном тылу. Для этого ему требовалось накануне или в начале похода в Россию заручиться помощью крымских татар и согласовать свои операции с вторжением крымской конницы в глубокий тыл царской армии с опустошением «ближней и дальней местности» (как это обещал сделать шведскому королю гетман Мазепа, но так и не осуществил из-за отсутствия сил и нерешительности[62 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 39.]). Впоследствии, в январе 1711 года, накануне войны России с Турцией, крымский хан Девлет-Гирей II организовал вторжение в Левобережную Украину и в феврале сумел продвинуться в район Харькова, захватив и опустошив Бахмут, Змиев, Водолагу (Водолаги) и Мерефу[63 - История Северной войны. 1700–1721 гг. С. 106–107.] (татары отступили только после неудачного боевого столкновения с кавалерийским соединением генерала Иоганна Вейсбаха под Богодуховым[64 - Лубченков Ю. Н. Все полководцы мира. Новое время. – М.: Вече, 2001. – 384 с. – С. 64.]). Подобный рейд весной-летом 1709 года оказал бы огромную помощь шведам и существенно изменил оперативное положение на Украинском театре военных действий. Однако шведское военно-политическое руководство не использовало дипломатические возможности для создания коалиции против России, а шведское командование применяло опустошение территории исключительно в тактических целях, делая это в сравнительно узкой полосе, чтобы таким способом затруднить противнику подход к местам расположения своих войск, как это было зимой 1709 года при остановке шведов на «зимние квартиры» в Украине. В дальнейшем шведы использовали аналогичную ограниченную тактику опустошения местности и на своей земле, уничтожая более или менее крупные населенные пункты на отдельных участках побережья Финляндии, с целью воспрепятствовать действиям русского галерного флота, нуждавшегося в постоянном пополнении запасов дров и продовольствия[65 - В кн.: Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. С. 385.].
Разорение местности последовательно применялось русскими вплоть до Полтавской битвы, за исключением попытки усилить оборону в Белоруссии, решенной 23 июня 1708 года на военном совете («генеральном конзилиюме») в Могилеве, что почти сразу же окончилось для царской армии поражением под Головчином (3 июля)[66 - В кн.: Тарле Е. В. Указ. соч. С. 198, 199; Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 243.]. Вместе с тем, помимо опустошения местности и уничтожения материальных запасов, русская армия сковывала маневр врага за счет создания системы укрепленных позиций и препятствий на местности, а также использования иррегулярной кавалерии – казаков, татар, киргизов, каракалпаков и калмыков.
В своем исследовании В. Молтусов приводит обширные данные, касающиеся оборонительной системы инженерных сооружений, подготовленных по решению русского командования к маю 1706 года на рубеже от Пскова до Севска[67 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 94–102.]. Рубеж включал сплошную засечную линию шириной до 150 шагов из поваленных крест-накрест деревьев в лесистой местности, прикрытие позиционными укреплениями открытых участков и стратегически важных объектов – дорог, речных переправ и труднопроходимых проходов («пасов») на местности, а также кордонную систему опорных пунктов и узлов сопротивления. Так, оборонительный рубеж на линии Западной Двины опирался на узлы сопротивления в Полоцке и Витебске, по Днепру рубеж строился на базе опорных пунктов в Быхове, Могилеве, Орше и в районе Копыси, а далее к югу укреплялся Киев. В 1707–1708 гг. уже построенный рубеж дополнительно усиливался новыми инженерно-строительными мероприятиями.
Все эти мероприятия отнюдь не являлись новаторством в области оборонительной стратегии, но были всего лишь более широкомасштабным повторением работы по созданию так называемой «Белгородской засечной черты», строившейся в XVI–XVII вв. на границе Украины и России с целью противодействия набегам крымских татар в глубь России. В дальнейшем, в ходе Второй мировой войны на советско-германском фронте нечто подобное попытался воспроизвести Главнокомандующий германскими войсками Адольф Гитлер (Adolf Hitler), отдавший приказ о строительстве оборонительного рубежа стратегического значения от Балтийского до Азовского моря по линии: река Нарва, Чудское озеро, район восточнее Витебска, реки Сож, Днепр и Молочная (приказ фюрера № 10 от 11 августа 1943 года о немедленном сооружении Восточного вала[68 - В кн.: Колтунов Г. А., Соловьев Б. Г. Курская битва. – М.: Воениздат, 1970. – 400 с. – С. 328–329.]). Характерно, что во всех перечисленных случаях показанная оборонная эффективность такой инженерной подготовки местности совершенно не соответствовала затратам на эту подготовку. Однако, поскольку в сметах расходов и доходов царской казны в период за 1706–1708 гг. данные о расходах на указанные укрепления отсутствуют (эти сметы, в числе прочих, приводятся в исследовании П. Милюкова «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого»[69 - В кн.: Милюковъ П. Указ. соч. С. 646–669.]), то можно заключить, что все работы финансировались за счет местных средств и осуществлялись силами местного населения (В. Молтусов указывает на неоднократное привлечение к работам жителей в районе Орши и Могилева, а также в Смоленском и Брянском уездах, отмечая при этом, что все повинности по постройке засек, возведению укреплений, перевозке материалов и запасов выполнялись белорусскими и русскими крестьянами как обязательная личная повинность без всякого вознаграждения, точно так же, как и несение натуральной повинности по продовольственному и кормовому обеспечению царских войск[70 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 99, 100, 116.]).
Как видно, в данном случае царь Петр в очередной раз явился основоположником практики принудительного использования населения в военных целях, к чему впоследствии неоднократно прибегало как царское, так и советское военно-политическое руководство. В связи с этим необходимо вновь отметить то пренебрежение к собственному народу со стороны Петра I, который не только решил опустошать свою и чужую территорию, но еще и возложил на местные власти расходы по подготовке огромной оборонительной системы, но при этом совершенно не рассчитал эффективность требуемых мероприятий (вероятно, даже не подумал об этом, именно потому, что расходы обременяли не государственный «царевый» бюджет, а население). Вся та гигантская подготовка, осуществленная русскими податными сословиями на западной границе России, о которой говорит в своем исследовании В. Молтусов, оказалась на деле совершенно напрасной тратой сил и средств.
Как отмечает сам В. Молтусов, вследствие размаха инженерных работ, которые нельзя было скрыть или замаскировать, шведское командование не могло о них не знать[71 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 100.]. Согласно воспоминаниям генерал-квартирмейстера шведской армии полковника Акселя Гилленкрока (Юлленкрук, Axel Gyllenkrok, Gullenkrook, был взят в плен русскими уже после битвы под Полтавой, в сентябре 1709 года под городом Черновцы, в ходе неудачного разведывательного поиска небольшого отряда шведов, который, возможно, имел целью спровоцировать войну между Турцией и Россией), он предупреждал короля Карла о подготовке противником укрепленной линии с целью удержания оборонительных сооружений в труднопроходимых местах на главных дорогах из Белоруссии к Смоленску и Москве[72 - Гилленкрок А. Указ. соч. С. 10–30.]. Даже преодолев эту линию, шведская армия могла быть легко отрезана русскими, которые вновь блокируют дороги за спиной шведов, а впереди будет лежать выжженная неприятелем местность, что неминуемо приведет к нехватке продовольствия и фуража. Поэтому Гилленкрок посоветовал Карлу обойти основную часть вражеского рубежа, начав наступление из Белоруссии в Прибалтику, в общем направлении на Псков (для этого Гилленкроком заблаговременно был составлен подробный оперативно-стратегический план ведения военных действий на северо-западном театре, включавшем важнейшие направления от Риги до Выборга). Однако король отверг этот вариант, практически не объяснив мотивы своего решения.
Тем не менее шведская армия так и не предприняла попыток преодолеть построенный русскими оборонительный рубеж, повернув от Смоленска на юг, в Северскую землю Украины. Однако объяснялось данное решение шведского командования вовсе не опасениями перед оборонительными сооружениями противника, но острой нехваткой продовольствия, обусловленной вражескими мероприятиями по опустошению и выжиганию местности. При этом, в случае возобновления наступления на Москву, шведы обходили весь оборонительный рубеж неприятеля с юга. Другой вопрос, что принятое шведами решение, принципиально верное в иной ситуации, оказалось в итоге стратегическим просчетом, поскольку не учитывало ряда факторов, среди которых, прежде всего, отсутствие реальной возможности пополнения армии личным составом, а также непреодолимые трудности с получением предметов снабжения и ограничение возможности скрытно маневрировать в связи с активными действиями вражеской иррегулярной кавалерии и слабостью собственной легкой конницы.
Относительно использования русскими иррегулярной кавалерии – ее точное количество ни в одном из источников не приводится, однако в конце Северной войны численность русской иррегулярной конницы составляла 30–35 тыс. человек; по другим данным численность всей русской кавалерии за время Северной войны доходила до 84 тыс., причем количество драгун в 30 фузилерных и 3 гренадерских драгунских полках, составлявших всю регулярную кавалерию действующей армии, в 1720 году равнялась 36,6 тыс., а в 1724 году – 38 тыс. солдат и офицеров, то есть на долю иррегулярной конницы приходится более 40 тыс. человек; тем не менее, по сведениям, которые приводит Е. Тарле, когда 6 июля 1709 года производился смотр русской армии, численность иррегулярных сил составляла 91 тыс. человек[73 - В кн.: Денисон Дж. История конницы. Кн. 1. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 480 с. – С. 277; Р. Эрнест Дюпюи и Тревор Н. Дюпюи. Харперская энциклопедия военной истории с комментариями издательства «Полигон». ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ВОЙН. Книга вторая. – М.: “Издательство Полигон”; СПб., 1997. – 896 с. – С. 699; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 521.]. Отсюда неудивительно, что воспоминания и свидетельства участников похода шведской армии (Густава Адлерфельта, Фредрика Вейе, Акселя Гилленкрока, Джеймса Джеффриса, Давида Зильтмана, Даниела Крмана, Адама Левенгаупта, Йорана Нордберга, Йохана Норсберга, Роберта Петре, Станислава Понятовского и др.) полны упоминаниями о постоянных набегах вражеской иррегулярной конницы, которая затрудняла разведку, фуражировки и работу интендантских партий.
Касаясь возможностей самих шведов дифференцированно использовать свою кавалерию, необходимо заметить, что задачи по ведению разведки и осуществлению рейдов в тыл противника и на его коммуникации не могли быть решены силами армейских рейтарских и драгунских полков, поскольку они имели крупных и тяжелых лошадей, специально закупленных в Германии и Дании[74 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 301.]. Этого требовала тактика боя шведской кавалерии, заключавшаяся в ударном натиске на противника плотно сомкнутым строем эскадрона в поэскадронном линейном боевом порядке. Крупные лошади предоставляли преимущество в таком бою, но быстро утомлялись и требовали тщательного ухода и питания, то есть не годились для длительных маршей по сильно пересеченной местности в условиях содержания на подножном корму. В этом заключалось важное отличие лошадей шведской регулярной кавалерии от конского состава русской армии, где неприхотливые малорослые лошади позволяли использовать драгунские полки при осуществлении глубоких кавалерийских рейдов. Напротив, в шведской армии вся нагрузка по решению задач разведки и рейдирования возлагалась на собственно легкую кавалерию, представленную иррегулярной конницей.
В начале «Русской» кампании, когда боевые действия велись на территории Польши и Белоруссии, легкая иррегулярная кавалерия шведской армии – валашский гусарский полк в составе 12 хоругвей численностью до 2 тыс. всадников, по всей видимости, обеспечивал свое командование достаточно точными разведывательными данными (полк валахов или волохов, швед. «vallacks», называвших себя «товарищами», начал формироваться по предложению генерала Магнуса Стенбока в 1702 году, после битвы под Клишовом, в связи с необходимостью в маневренных конных отрядах при ведении войны в Польше[75 - Брикс Г. Примечания к «Истории конницы» Денисона // Денисон Дж. История конницы. Кн. 2. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 480 с. – С. 154.]). Об этом свидетельствует то, что шведам зимой 1708 года с помощью простых обходных маневров удалось вытеснить царские войска с Вислинской линии. Королевская армия за месяц без задержек прошла по лесисто-болотистой местности Мазурских лесов почти 300 верст, обойдя русских, стоявших под командованием Меншикова на переправах через Нарев, а затем кавалерийский отряд во главе с самим Карлом XII с хода овладел ключевым Гродненским мостом через Неман.
В начале лета 1708 года шведская армия была расположена между Гродно и Радошковичами, насчитывая после изнурительного марша через Мазурию и весенних боевых действий теперь уже около 35 тыс. солдат и офицеров, тогда как русские главные силы составляли около 50–55 тыс. военнослужащих[76 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 34.]. Вместе с тем русские войска были распределены вдоль линии от Полоцка на Двине до Могилева на Днепре, прикрывая как направление на Москву, за которое отвечал фельдмаршал Борис Шереметев, так и Псков, где командование предполагал осуществлять сам царь Петр. Король Карл, отвергнув мирные предложения русского царя, а также советы первого министра Карла Пипера принять план генерал-квартирмейстера полковника Акселя Гилленкрока и начать наступление на псковском направлении, решил двигаться на Москву через так называемые «Речные ворота», по проходу между реками Двина и Днепр, который был защищен Смоленском.
Реализуя это решение, в июне 1708 года шведы форсировали Березину у Сапежинской Березы (Березино), в то время как русская армия ожидала их продвижения на Борисов, Чашников или Уллу (по этому случаю Петр писал к Меншикову: «Письмо ваше получил и видел, что неприятель вас обманул, перебравшись реку Березу в ином месте»). 6 июня шведская армия выступила из Радошковичей и двинулась к Березине. Проходя через Минск, король Карл выделил отряд под командованием генерала Акселя Спарре (Axel Sparre) для дальнейшего марша прямо на восток к переправе через Березину в Борисове, чтобы ввести в заблуждение фельдмаршала Гольца, стоявшего там же с кавалерийским корпусом из трех бригад в составе около 6,5 тыс. солдат и офицеров и 1,5 тыс. казаков. Для обороны переправы в Борисове русские сосредоточили 8 орудий, в том числе 6 средних полевых пушек, размещенных на заранее подготовленных позициях под прикрытием Каргопольского пехотного полка[77 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 384.]. В то же время главные силы шведской армии повернули к югу, 15 июня вышли к Березине южнее Борисова и под прикрытием артиллерии переправились через реку в трех местах.
Точно так же река Друть была форсирована 10 верстами севернее Белыничей, занятых русскими[78 - Бескровный Л. Г. Стратегия и тактика русской армии в полтавский период Северной войны // Полтава: К 250-летию Полтавского сражения. Сб. статей. – М.: Изд. АН СССР, 1959. – С. 21–62. – С. 42.]. Таким способом шведы дважды пытались отрезать от основных сил русских отдельный кавалерийский корпус под командованием фельдмаршала Гольца, но плохие дороги в болотистой местности замедляли продвижение, поэтому противнику в обоих случаях удалось заблаговременно отступить.
Перед битвой при Головчине, которая позволила Карлу XII овладеть узловым пунктом дорожной сети и открыть путь к Могилеву и Днепровским переправам, шведы установили наличие разрыва между группировками русской армии, благодаря чему смогли в сложных условиях, форсируя речку Бабич (Вабич, 30 км к западу от Днепра), нанести концентрированный удар и овладеть изолированной позицией дивизии Аникиты (Никиты) Репнина. После этого русским пришлось срочно выводить войска из укреплений, созданных ниже по течению Днепра, а также в Орше и Шклове, то есть оставить оборонительный рубеж, который готовился с 1707 года[79 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 110.], а шведы заняли Могилев, где пополнили запасы продовольствия, поскольку русские войска не успели разорить и выжечь окрестности города (еще часть предметов снабжения удалось захватить в обозе дивизии Репнина).
Однако с момента задержки шведской армии под Могилевом положение начало изменяться. Прежде всего, русские получили помощь в виде отряда из нескольких тысяч литовской и татарской конницы от литовского польного гетмана Григория Огинского. Этот отряд, разделенный на мелкие группы, дежурившие на переправах, также активно участвовал вместе с русскими драгунами, казаками и калмыками в опустошении белорусских земель, противодействии разведке противника, перехватывании шведских продовольственных партий и фуражиров. Кроме этого, иррегулярная конница успешно блокировала попытки доставлять шведской армии предметы снабжения со стороны, на коммерческой основе. Например, когда несколько сотен купцов-евреев попытались вместе доставить шведам продовольствие и товары в сентябре 1708 года (торговым обеспечением шведской армии занималось около четырех тысяч евреев), их обоз перехватили калмыки, разграбили, а евреям отрезали уши и носы, после чего немецкие и еврейские купцы, двигавшиеся с той же целью из Кенигсберга, испугались и остановились в Литве[80 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 103.].
Напротив, после вступления в Северскую землю Украины, шведские валахи, а также конные части из гетманских (с начала ноября 1708 года) и запорожских (с начала апреля 1709 года) казаков фактически вообще не смогли решить задачу по ведению разведки и действиям на коммуникациях русской армии, которая широко и беспрепятственно пользовалась подвозом предметов снабжения из тыла (так, уже находясь под Полтавой, 24 июня 1709 года царь требовал от воронежского коменданта Степана Колычева присылки через Белгород к своему лагерю трех тысяч лопат и тысячи кирок для производства земляных работ при строительстве полевых укреплений[81 - В кн.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. IX (январь-декабрь 1709 года). С. 222 (вып. 1).]). Царская армия стала опережать неприятеля при занятии ключевых позиций, что указывает на отсутствие у шведского командования точных и оперативно поступающих данных как об оптимальных маршрутах для движения своих войск, так и о перемещениях противника. Причем, судя по изменению в характере боевых действий, решающий количественный и качественный перевес русской иррегулярной конницы оказался достигнут именно после перенесения военных действий на территорию Украины (при этом, по данным А. Констама, ко времени вступления в Северскую землю Украины шведская армия насчитывала уже всего лишь 25 тыс. солдат и офицеров[82 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 45.]).
По некоторым данным[83 - В кн.: Беспалов А. В. Указ. соч. С. 106–113, 179; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 383, 422.], всего к началу XVIII в. украинское казачье войско насчитывало 25–30 тыс. городовых (10 полков) и 4–7 тыс. компанейских (7 полков) казаков. Осенью 1708 года в Украине оставались 10 казацких полков (3 городовых и 7 компанейских) общей численностью приблизительно 10 тыс. казаков. Из Батурина в октябре 1708 года Мазепа привел к шведам около 3 тыс. казаков, а 2 тыс. человек из его отряда разбежались. При штурме Батурина русскими войсками под командованием генералов Меншикова и Голицына были убиты 6 тыс. человек – весь гарнизон и часть жителей города. Следовательно, из всего гетманского казацкого войска в Украине 3 тыс. казаков вначале примкнули к шведам, большая часть остальных либо разбежалась, либо погибла, а 9 городовых, 3 компанейских и 1 сердюцкий полки (около 15–20 тыс. чел.) остались на стороне царских войск или перешли к ним из-под командования Мазепы до начала 1709 года.
Максимальное число запорожских казаков в шведской армии после разгрома Сечи в апреле-мае 1709 года доходило до 6–7 тыс., а вместе с казаками Мазепы – около 8 тыс. человек. Учитывая пропорцию между конницей и пехотой в казацких полках (? или ?), русские имели 10–15 тыс. конных украинских казаков, а шведы до прихода запорожцев – от 1,5 до 2,5 тыс. человек, а вместе с запорожцами – приблизительно 6–8 тысяч. Следовательно, общее количество иррегулярной конницы у шведов с учетом валашского полка равнялось до мая 1709 года 3–4 тыс., а с мая – 8–10 тыс. всадников.
Согласно другим оценкам, после того как к шведам присоединился гетман Мазепа, их иррегулярная конница увеличилась с 1–1,5 тыс. валахов до 3 тыс. всадников. Согласно имеющимся сведениям, на декабрь 1708 года численность казаков в шести полках, остававшихся под командованием Мазепы, не превышала 1,5 тыс. человек, включая пеших казаков, но к июню их число уменьшилось до 1 тыс. казаков в четырех полках, тогда как число валахов накануне Полтавской битвы составляло не более 500 человек, сократившись в основном из-за дезертирства[84 - В кн.: Беспалов А. В. Указ. соч. С. 179; Молтусов В. А. Указ. соч. С. 170, 284–286; Энглунд П. Указ. соч. С. 74–75.]. Другими союзниками шведов, выставлявшими иррегулярное конное войско, являлись запорожские казаки. Часть запорожцев сразу же примкнула к шведской армии в марте 1709 года, после присяги королю Карлу, а часть некоторое время действовала против русских самостоятельно или занимала выжидательную позицию. Однако, после разгрома Запорожской Сечи и укрепленных пунктов запорожцев по нижнему течению Днепра, эти казаки в основном также были вынуждены присоединиться к шведам. В феврале 1709 года общая численность запорожцев оценивалась русскими в количестве до 5 тыс. конных и 1 тыс. пеших казаков, но к июню их число снизилось до 3–4 тыс. человек в связи с потерями при осаде Полтавы[85 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 285.]. Поэтому во второй половине мая 1709 года численность всей иррегулярной кавалерии у шведов достигла наибольшего значения, составляя до 7–7,5 тыс. человек, а затем постепенно сокращалась вплоть до Полтавской битвы.
С другой стороны, в распоряжении русского командования к указанному времени имелось свыше 15 000 украинских казаков, от 1000 до 5000 донских, терских и яицких казаков, а также до 15 000 уральских и заволжских уроженцев: татар, киргизов, каракалпаков, калмыков[86 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 73.].
Показательны также следующие сведения[87 - В кн.: Беспалов А. В. Указ. соч. С. 81–90, 104, 109, 138, 182; Керсновский А. А. История русской армии в 4 томах. Т. 1. – М.: Голос, 1999. – 304 с. – С. 31; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 131.], касающиеся применения русскими иррегулярной казацкой кавалерии. В 1701 году при войске Шереметева, выступившем из Пскова, состояло около 5 тыс. человек иррегулярной пехоты и кавалерии, из которых более 4,5 тыс. составляли украинские казаки (черкасы), а остальные – татары. В феврале 1706 года гетман Мазепа обещал царю привести в Минск 5 тыс. гетманской пехоты и несколько тысяч конницы, причем царь в письмах жаловался Меншикову, что конницы в Белоруссии очень мало. Осенью 1706 года в армии Меншикова, действовавшей на Волыни, было 20 тыс. конных казаков. К лету 1708 года при царской армии в Белоруссии находилось четыре украинских казацких городовых полка. В сражении при Головчине главные силы русских включали 4 тыс. всадников иррегулярной конницы, а при «летучем корволанте» под Лесной их было от 900 до 2500 человек. Под Полтавой у гетмана Скоропадского было 16 тыс. конных и пеших казаков. Учитывая то, что украинские казацкие полки имели смешанный конно-пехотный состав, причем, конница составляла от ? до ? всего состава, средняя численность иррегулярной конницы украинских казаков при главных силах русской армии в 1701–1709 гг. в среднем достигала 5–6 тыс. человек.
По данным Г. Брикса (Heinrich Otto Brix)[88 - Брикс Г. Примечания к «Истории конницы» Денисона. С. 161.], к 1725 году основой русской иррегулярной конницы являлась многочисленная казачья конница: донские и волжские казаки – около 20 000 человек; терские и гребенские – около 500 постоянно находившихся на службе человек; яицкие (по названию реки Яик, впоследствии река Урал и уральские казаки) – 3196 человек; малороссийские – 10 городовых и 3 компанейских полка; 5 полков слободских казаков, бахмутские, хоперские, семейные и сибирские казаки; чугуевцы, калмыки, башкиры и иррегулярные отряды армян и грузин, состоявшие при корпусе, расположенном на персидской границе, то есть всего иррегулярных всадников было не менее 125 000.
Численный перевес давал русской иррегулярной коннице возможность заранее предупредить любые поисковые мероприятия противника, окружив шведов густой цепью постов и пикетов[89 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 224.]. Поэтому английский посол в России с весны 1705 года Чарльз Витворт (Уитворт, Charles Whitworth, 1-st Baron Whitworth, 1-й Барон Витворт) считал, что действия русской иррегулярной конницы явились для шведов величайшим бедствием, которое Карлу XII следовало заранее предусмотреть и обезопасить свою армию, увеличив число легкой конницы за счет набора среди польской шляхты. Вместо этого Карл XII взял в поход только маленький польский отряд под командованием генерала артиллерии польской службы и мазовецкого воеводы Станислава Понятовского (Stanislaw Poniatowski, его сын Станислав Август Понятовский впоследствии стал последним королем независимой Польши). Возможно, так произошло потому, что в польском войске того времени практически отсутствовала дисциплина[90 - Валишевский К. Указ. соч. С. 258.]. Хотя, дисциплиной не отличались и волохи – например, 21 апреля 1709 года из их отряда дезертировали 3 офицера и 38 рядовых[91 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 447.]. Пастор корпуса Лейб-драбантов Михаэль Шенеман (Енеман, Michael Scheneman) объясняет отказ от привлечения польско-литовской легкой конницы жадностью шведского командования, желавшего воевать без союзников, чтобы ни с кем не делиться славой и добычей[92 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 400.].
Вместе с тем при исследовании данного вопроса необходимо учитывать и субъективный фактор, поскольку именно ко времени задержки шведской армии под Могилевом относится такой внешне незначительный эпизод войны, как пленение генерал-адьютанта короля Карла подполковника Габриэля Отто Канефера (Канифер, Gabriel Otto Kanefer, Kanefehr), который руководил всеми действиями иррегулярной шведской конницы. Канефер был взят в плен 1 августа 1708 года в результате внезапного нападения специальной группы («партии») под командованием полковника Иоганна Вейсбаха (Johann Bernhard Wei?bach, уроженец Богемии, служил в Австрии, в 1707 году перешел на русскую службу в звании полковника и был назначен командиром Сибирского драгунского полка) из корпуса генерала Ренне на лагерь под Смолянами (Смолевичи, Смольяны), где располагался конный отряд Канефера численностью около 200–300 человек, в том числе 50 шведских солдат-драгун и 2 офицера[93 - Лубченков Ю. Н. Указ. соч. С. 64.] (история этого эпизода Северной войны в действительности заслуживает отдельного исследования, поскольку в плен был взят фактически руководитель армейской разведки шведов, располагавший ценнейшей информацией о планах шведского Главного командования). Подполковник Канефер, пользовавшийся большим расположением короля Карла – генерал-адъютант с 1706 года, характеризовался как смелый кавалерийский командир, умело организовывавший диверсионные и разведывательные конные рейды. В частности, русские источники отмечают его удачные действия при организации переправы шведской армии через Березу[94 - В кн.: Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. С. 279–280.]. Поэтому, вероятно, именно его пленение привело к снижению эффективности действий шведской иррегулярной конницы. Обмен Канефера на русских военнопленных организован не был, так что он оставался в плену до окончания Северной войны (вначале Канефер был любезно принят в Москве комендантом князем Матвеем Петровичем Гагариным, но затем вместе с бывшим комендантом Нарвы генералом Хеннингом Горном обвинен в шпионаже и помещен под стражу (царь Петр обвинил его в сокрытии «под божбою» планов короля Карла о повороте шведской армии в Украину, хотя ко времени пленения Канефера таких планов еще не существовало[95 - В кн.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. IX (январь-декабрь 1709 года). С. 354–355 (вып. 1).]), потом выслан в Тобольск, поскольку русское командование опасалось попыток побега с его стороны, а после обвинения Сибирского губернатора князя Матвея Гагарина в попытке организовать переворот с помощью военнопленных-шведов – заключен в крепость в Санкт-Петербурге (освобожден оттуда в декабре 1723 года по ходатайству герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского (герцог Голштинский, Karl Friedrich, Herzog zu Holstein-Gottorp), находившегося в России в связи с намерением сочетаться браком с дочерью Петра I, цесаревной Анной Петровной[96 - Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, с 1721 по 1725 год. В 4 ч. Ч. 3 / Ф. В. Берхгольц; пер. с нем. И. Аммона. – 2-е изд. – М.: тип. Лазаревского ин-та восточных языков, 1860. – 186 с. – С. 178.])).
Наряду с этим здесь также следует указать и на другой субъективный фактор – психологию восприятия местным православным населением протестантов-шведов. Помимо увеличения количества легкой конницы и пленения Канефера, местные условия в православных Белоруссии и Украине, в отличие от католической Польши, благоприятствовали ведению агентурной работы в интересах русских (как писал Меншикову сам царь: «… с помощью шпигов (лучше, чем попы, не придумать)…»[97 - В кн.: Серчик В. А. Указ. соч. С. 93.]), поэтому царское командование было хорошо осведомлено о движениях шведской армии (некий православный поп Елисей из Мстиславля был послан русским командованием на разведку в Могилев и успешно выполнил порученную ему шпионскую миссию). Это позволяло заранее занимать укрепленные пункты на пути шведов; навязывать противнику бои местного значения и устраивать засады; блокировать переправы через реки и уничтожать переправочные средства; уничтожать продовольственные и иные запасы в районах по направлению продвижения шведской армии. В результате шведы тратили время и силы на штурмы и обходные маневры, теряли в стычках людей и расходовали боеприпасы, лишались возможности организовать снабжение.
Русские отряды внезапно атаковали части шведской армии при Черной Натопе (Добром), Пирятине, Красном и Колядине, Раевке, Опошне, Рашевке, Краснокутске и Городне, в Старых Сенжарах, под Петровкой; блокировали переправы через Десну и Ворсклу; упредили шведов в занятии Мглина, Стародуба, Батурина; уничтожили переправочные средства по Днепру. При этом гибель или тяжелое ранение каждого хорошо обученного солдата-профессионала для шведов были невосполнимыми, а русские, невзирая на любые потери, получали все возрастающий численный перевес. Так, за период с 1701 по 1708 гг. штатная численность русской армии возросла с 40 до 113 тыс. военнослужащих (реальная укомплектованность частей в целом соответствовала штатным нормам несмотря на непрерывное дезертирство, объяснявшееся принудительным характером набора в армию – по оценке английского посла Витворта, в 1707 году, несмотря на отсутствие активных боевых действий, из 30 тыс. военнослужащих драгунских полков осталось только 16 тыс., а из 11 пехотных полков в Москве за два месяца дезертировали в среднем по 200 человек из каждого полка[98 - В кн.: Милюковъ П. Указ. соч. С. 131.]; по данным, которые приводит В. Молтусов, за период с 1705 по 1709 гг. было произведено пять рекрутских наборов приблизительно по 30 тыс. человек каждый, из которых до трети людей выбывало из строя в результате бегства и болезней, так что за пять лет русская армия понесла небоевые потери в количестве около 50 тыс. человек[99 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 135.]; соответственно, в русской армии имели место, например, и такие потери как смерть рекрутов от голода и болезней до прибытия к месту службы, куда их доставляли в кандалах, а в пути содержали по тюрьмам и острогам[100 - Бушков А. А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование; СПб.: НЕВА; Красноярск: Бонус, 2003. – 608 с. – С. 392, 393.]; с 1712 года рекрутов стали насильственно метить – на руке выкалывали крест, то есть русская регулярная армия по существу являлась армией рабов – оторванный от земли крепостной крестьянин переходил из-под власти помещика в рабство к воинскому начальнику[101 - Пехота Петра I // Новый солдат. – № 189. – С. 21–22.]).
При этом ничего нового стратегия русского командования не представляла. Аналогичной манеры ведения боевых действий придерживался еще византийский стратег Велизарий в войне с готами в Италии. С помощью легкой конницы он лишил подвоза большое войско готов, осаждавшее Рим, после чего, вследствие голода и вынужденного питания недоброкачественными, испорченными продуктами, среди готов началась эпидемия[102 - Прокопий Кесарийский. Война с готами. – М.: Арктос – Вика-пресс, 1996. – 336 с.]. Однако, в отличие от царя Петра и его генералов, Велизарий постоянно и последовательно уклонялся от крупных боевых столкновений, требовавших привлечения основных сил его армии.
Таким образом, в ситуации стратегического отступления противника, дополненного последовательным разорением местности и активными действиями многочисленной русской иррегулярной конницы, шведская армия оказалась в сложной оперативно-стратегической обстановке. Положение шведов характеризовалось, во-первых, постоянным сокращением численности личного состава; во-вторых, затруднениями с получением основных предметов снабжения, фуражировкой и сбором запасов продовольствия; в-третьих, отсутствием полных и достоверных сведений о противнике при невозможности скрыть собственные передвижения, что позволяло русским блокировать шведские маневры. В это время, в момент отказа от дальнейшего продвижения на Москву через Смоленск и поворота в Северскую землю Украины, шведское командование должно было адекватно оценить ситуацию и принять решение об изменении стратегического плана кампании. Однако продолжение упорного поиска дороги к Москве при четком осознании малочисленности людских и материальных ресурсов показывает, по мнению В. Молтусова, что дальнейшие военные операции шведов приобрели авантюристический характер[103 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 138.]. Таким образом, целенаправленно примененная русскими стратегия «истощения» и окружения противника завесой иррегулярной конницы привела к тому, что шведы не добились поставленной цели, но шведское командование, то есть прежде всего король Карл XII, приняло стратегически ошибочное решение о продолжении ведения кампании по той же схеме, вследствие чего в ходе военных действий наступил перелом в пользу русской стороны.
Этот перелом в войне явно обозначился в сентябре 1708 года, после того как русским удалось добиться крупного успеха в битве под Лесной против отдельного шведского корпуса под командованием генерала Адама Левенгаупта.
§ 1.3. Битва под Лесной
Лифляндский и Курляндский губернатор генерал Адам Людвиг Левенгаупт, командовавший войсками в Лифляндии (нем. Livland, одно из наименований Ливонии, обозначавшее северную часть Латвии и южные районы Эстонии) и Курляндии (западная Латвия), хорошо зарекомендовал себя в ходе боевых действий на прибалтийском театре Северной войны, где шведы после битвы под Нарвой терпели одну неудачу за другой. Так, в 1703 году он одержал победу у деревни Салаты (Saladen, лит. Салочай в 65 км к югу от Митавы, Mitau, лат. Елгава) над вчетверо превосходящим его силы русским отрядом в составе стрелецких частей, смоленского конного ополчения и литовской конницы, а в 1704 году разбил примерно такой же по составу и вдвое превосходящий по численности отряд при городе Якобштадт (латв. Екабпилс на реке Даугаве). Это были победы, одержанные регулярными шведскими войсками над иррегулярными военными формированиями противника, но 15 июля 1705 года Левенгаупт разбил под Гемауэртгофом (Gem?uerthof, Мур-Мыза, на реке Свете в 30 км к югу от Елгавы) крупный русский корпус фельдмаршала Шереметева (всего 8 драгунских полков и 3 пехотных полка – около 9 тыс. солдат и офицеров при 13 орудиях[104 - В кн.: Милюковъ П. Указ. соч. С. 129.]), пытавшийся отрезать шведские силы в Прибалтике от находившейся в Польше армии Карла XII.
Как следует из весьма неполных описаний этой битвы[105 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 38, 39; Шефов Н. А. Указ. соч. С. 172.], Левенгаупт, в распоряжении которого находились около 7 тыс. солдат и офицеров пехоты и кавалерии при 12 орудиях, в ходе боя преднамеренно или случайно произвел такой же маневр, как прусский король Фридрих II в сражении при Хотузице (Chotusitz) 17 мая 1742 года. Традиционно построившись в две линии с пехотой в центре и конницей на флангах, шведы завязали бой с русской кавалерией, составлявшей большую часть сил Шереметева, а затем отступили, открыв свой обоз, который и бросились грабить русские драгуны, попавшие при этом под огонь развернувшейся в обратную сторону второй линии шведской пехоты. Последовавшая затем удачная контратака шведской кавалерии позволила отбросить русскую конницу на собственную пехоту, которая, оставшись без поддержки, также была вынуждена отступить. В результате русские потеряли до 1600 солдат и офицеров убитыми (по другим данным 1904 человека) и 1200 ранеными, а также 13 пушек[106 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 39; Урланис Б. Ц. История военных потерь. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII–XX вв. (историко-статистическое исследование). – М.: «Издательство «Полигон»; СПб., 1998. – 558 с. – С. 55; Шефов Н. А. Указ. соч. С. 172.].
Учитывая эти успехи, 8 июня 1708 года Адам Левенгаупт получил приказ короля Карла XII собрать запасы предметов снабжения, сформировать воинский корпус и выступить на соединение с главной шведской армией в Белоруссии в районе Березины Пацовой на реке Березина (приказ был подписан в Радошковичах 25 мая). В соответствии с данным приказом, корпус из 13 тыс. солдат и офицеров (17 батальонов пехоты, из которых 12 батальонов в составе 6 пехотных полков – 8 тыс. военнослужащих, по 3 рейтарских и драгунских полка и 3 отдельных драгунских эскадрона – 2 тыс. рейтар и 2,9 тыс. драгун, 50 разведчиков-поляков в отдельной конной роте, 50–100 артиллеристов и саперов и 16 артиллерийских орудий, из которых 10–11 трехфунтовых и 5–6 шестифунтовых пушек[107 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 21; Беспалов А. В. Указ. соч. С. 88, 89.]) двинулся в поход из Риги 15 июля в сопровождении обоза, насчитывавшего около 7–8 тыс. повозок (при этом от 3 до 3,5 тыс. солдат и офицеров оставалось в гарнизонах в Курляндии и Лифляндии[108 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 15.]: три пехотных полка и кавалерийский эскадрон под общим командованием генерала Рудольфа Функена (Функ, Rudolf Funck)). Предварительно Левенгаупт написал королю письмо с «отговоркой», что выполнить прямой приказ и выступить в начале июня невозможно из-за трудностей со сбором войск и предметов снабжения для них, а также указал, что после ухода его корпуса Курляндия и Лифляндия остаются открытыми для нападений русских.
8 июля король Карл занял Могилев и здесь дожидался приближения корпуса Левенгаупта, поскольку по расчетам на путь длиной около 700 км от Митавы до Могилева корпус должен был потратить около полутора месяцев, проходя в среднем по 15 км в сутки, то есть прибыть 25–30 августа[109 - Григорьев Б. Н. Указ. соч. С. 257.]. Однако генерал потратил месяц на путь в 230 километров, делая не по 15, а по 8–9 километров в день (в 1812 году в тех же местах 50-тысячный французский корпус маршала Луи-Николя Даву (Louis-Nicolas Davout) с большим обозом преодолел 200 км за 6 дней; нормальная скорость марша пехоты в период Северной войны считалась равной 20–25 км в сутки, а форсированная – 45–50 км)[110 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 166; Цветков С. Э. Карл XII: Беллетризованная биография. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – 474 с. – С. 229, 230.]. Две недели, начиная с 16 августа, Левенгаупт провел в Долгинове (около 90 км к северу от Минска, причем в это же время колонна его корпуса под командованием генерала Стакельберга достигла Березины Пацовой, первоначально назначенной королем Карлом для соединения корпуса со шведской армией) якобы из-за починки тележных колес, которые по его же упущению не позаботились заблаговременно укрепить («оковать») железными шинами, а когда к нему здесь присоединился шедший из Ревеля Лифляндский вербованный драгунский полк Шлиппенбаха, дал ему еще неделю на отдых (шефом полка был генерал Вольмар Антон Шлиппенбах, находившийся в это время при главной шведской армии, поэтому частью командовал подполковник Арвид Юхан Каульбарс (Arvid Johan Kaulbars). – П. Б.). Впоследствии генерал объяснял задержку продвижения какими-то беспорядками среди солдат[111 - Цветков С. Э. Указ. соч. С. 230.].
В действительности, во-первых, первоначальная численность телег и повозок в обозе корпуса не должна была превышать 4,5 тыс. единиц, поскольку допускалось иметь 1300 повозок с полуторамесячным запасом для главных сил шведской армии и не более 150–200 повозок с трехмесячным запасом предметов снабжения для каждого из полков[112 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 19.] (каждая из восьми рот любого пехотного полка должна была иметь всего 10 провиантских фургонов с 40 упряжными лошадьми и неприкосновенным запасом провианта на три месяца). Однако на деле общее количество повозок оказалось в 1,5–2 раза большим как из-за того, что солдаты и офицеры взяли с собой личный транспорт (например, прапорщик Роберт Петре указывает, что Хельсингский пехотный полк имел по 15 повозок на роту, а также от одной-двух до четырех повозок на каждого офицера полка, всего 135 повозок и 594 лошади; для сравнения – личный багаж короля Карла XII занимал всего две повозки[113 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 130.]), так и потому что в пути к корпусу присоединились многочисленные торговцы и маркитанты, продававшие солдатам и офицерам алкоголь и табак, а также проститутки («нанятые на стороне распутницы»). Кроме этого, вместе с частями корпуса двигались стада скота и табуны лошадей (тот же прапорщик Петре указывает, что для обеспечения Хельсингского полка в походе им было реквизировано у крестьян и доставлено к месту расквартирования полка 1230 голов рогатого скота, 75 лошадей и стадо телят).
Соответственно, во-вторых, корпус на марше оказался рассредоточен в полосе до 100 километров по протяженности и ширине, двигаясь двумя растянутыми колоннами (одной из колонн командовал сам Левенгаупт, а другой – генерал Стакельберг), чтобы обеспечить наиболее выгодные условия для проведения реквизиций («контрибуций») продовольствия и фуража у местного населения (как свидетельствует Роберт Петре, поисковые партии Хельсингского полка рассылались для сбора «контрибуции» в стороны на 12–15 миль от основной колонны, благодаря чему он с отрядом солдат однажды нашел в лесу и отнял у местных крестьян 248 голов крупного рогатого скота, 270 овец и 62 лошади; по информации лейтенанта Уппландского полка Фредерика (Фридриха) Вейе (Fredrik Kristian Weihe), с одного только литовского городка Вильда офицерами Уппландского полка было получено 1300 рейхсталеров деньгами, 200 локтей сукна, 280 штук воловьих шкур, 600 пар чулок и 130 пар окованных колес). Иными словами, все солдаты и офицеры корпуса выступили в поход, рассчитывая грабить по пути, поэтому и захватили дополнительные повозки (к середине августа прапорщик Петре, выступивший в поход в июле с четырьмя лошадьми, имел их уже двенадцать голов), но командующий корпусом этому не препятствовал, как не препятствовал и присоединению к корпусу «нестроевого элемента».
Однако, как следствие из сложившейся ситуации, Левенгаупт стал терять контроль над командованием и личным составом корпуса. Левенгаупт отмечает, что каждый полковник или командующий офицер начал постепенно желать быть сам себе командиром, коль скоро он отходил в сторону, отдыхал и потом вновь самовольно двигался; каждый самовольно брал все, что находил; не избежали и грабежей, так что крестьяне убегали со всем имуществом в леса. Каждый полк старался быть первым и большей частью оставлял после себя все разграбленным и разрушенным, так что те, кто приходил после них, ничего не находили для людей или лошадей. Генерал-майор Стакельберг сам был одним из тех, кто всегда шел на пять, шесть и более миль впереди всех остальных полков и везде захватывал самое лучшее с помощью конной роты из своих солдат, устроенной для этой цели.
Учитывая сложившуюся ситуацию, генерал Левенгаупт периодически нуждался во времени для сбора частей и укрепления дисциплины в своем корпусе, который к тому же на 2/3 состоял из военнослужащих финского и прибалтийского происхождения[114 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 78.]. Как показали последующие события, это ему мало удалось. По мнению А. Констама, летаргическая медлительность Левенгаупта, проявленная при движении его корпуса с обозом на соединение с главными силами шведской армии, несправедливо считается причиной всех последующих бедствий шведов, поскольку такая оценка не учитывает все те проблемы в области снабжения корпуса, с которыми пришлось столкнуться Левенгаупту, остававшемуся хотя и надежным командиром, но лишенным харизматической привлекательности для своих солдат и офицеров[115 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 14.].
С другой стороны, в дальнейшем фельдмаршал Реншельд и другие старшие офицеры шведской армии обвиняли Левенгаупта, что он потерял время и подставил свой корпус под удар противника из-за утраты контроля над личным составом в связи с чрезмерным увлечением «контрибуциями», то есть грабежом населения. Характерно, что, по свидетельству Даниела Крмана, сам Левенгаупт в ходе бегства после битвы под Лесной потерял в обозе денег и ценностей на сумму около 60 тыс. рейнских флоринов, чем был очень удручен (Левенгаупт также указывает, что он был вынужден бросить экипаж и раздать своих обозных лошадей солдатам пехоты, чтобы никто не посмел обвинить его в пренебрежении интересами солдат ради личной выгоды). Второй по званию и должности в корпусе офицер – генерал Берндт Стакельберг (Штакельберг, Berndt Otto Stackelberg, эстляндский дворянин, в 1688–1690 гг. служил в составе шведских войск в Нидерландах, участвовал в нескольких военных кампаниях во Франции, в ходе Северной войны был в битвах и сражениях под Нарвой, Двиной, Якобштадтом, Биржами, Гемауэртгофом, Лесной и Полтавой), письменно жаловался королю Карлу XII на то, что продвижение корпуса задерживается из-за реквизиций, которым потворствует Левенгаупт. Особых последствий это не имело, кроме того, что Левенгаупт и Стакельберг вступили в затяжной конфликт между собой, вследствие чего Стакельберг под различными предлогами не выполнял или отменял распоряжения Левенгаупта, в том числе и в ходе битвы под Лесной. По мнению самого Левенгаупта, Стакельберг распространял о нем всякие слухи (например, что он специально пытался задержать марш, и только из-за боязни потерять свой пост был все-таки вынужден идти к королевской армии) и одновременно настроил против него некоторых командиров полков и многих других, так что люди стали терять уважение и повиновение.
С другой стороны, Роберт Петре рассказывает об интересном разговоре, который произошел между генералом Левенгауптом и фактическим командиром Хельсингского пехотного полка подполковником Кристианом (Хансом) Брюкнером (Christian Br?ckner) во время стоянки корпуса в Долгинове (командиру Хельсингского полка полковнику Георгу (Йоргу) Кноррингу (Georg Knorring) в начале августа удалось отпроситься домой, и он уехал обратно в Ригу). Согласно информации Петре, он был очевидцем того, как Брюкнер обвинил Левенгаупта в мздоимстве – Хельсингский полк во многих местах не мог реквизировать для себя предметы снабжения из-за того, что Левенгаупт выдавал местным зажиточным землевладельцам свидетельства об уплате «контрибуции» в пользу Уппландского пехотного полка, шефом которого являлся сам Левенгаупт, после чего от дальнейших поборов они освобождались. В ответ Левенгаупт попытался оправдаться тем, что свидетельства выдавались для защиты от дезертиров и мародеров, на что Брюкнер смело возразил, что в округе нет других мародеров, кроме тех, кого послал Его Королевское Величество Карл XII. При этом Брюкнер заметил, что он снял копии с выданных Левенгауптом свидетельств и направит их королю для проверки.
В то же время сам король Карл, не дождавшись подкреплений, 15 августа двинулся из Могилева на восток к реке Сож, а затем прямо на Смоленск, отвлекая своим движением внимание противника от разбойничающего в Белоруссии корпуса Левенгаупта (10 сентября русский отряд из 300 драгун и 500 казаков сжег Могилев, где сгорело более 1700 домов, причем заодно русские заживо сожгли в католическом монастыре 40 больных шведских солдат, оставленных в городе для лечения[116 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 34–35.]). Корпус в конце августа находился все еще в районе Долгиново, на расстоянии примерно 250 км от Могилева, и выступил оттуда только 31 августа – 1 сентября. К 11 сентября шведская армия достигла села Стариши и продвинулась еще восточнее, остановившись под Татарском, приблизительно в 70 км юго-западнее Смоленска. 29 августа и 5 сентября король посылал гонцов к Левенгаупту с требованиями поторопиться, однако, получив первый приказ, генерал простоял в Черее три дня, вновь собирая отставшие части и подразделения и обоз (по свидетельству Роберта Петре, здесь же шведские войска производили очередные реквизиции скота и фуража, поскольку окрестные земли принадлежали противникам короля Лещинского – роду литовских князей Огинских), а получив второй – неделю[117 - Цветков С. Э. Указ. соч. С. 235.] (с 8 по 15 сентября, хотя какой-то польский священник доставил Левенгаупту в Черею записку от генерала Юхана Мейерфельдта с просьбой поторопиться).
При этом, хотя по свидетельству прусского атташе при шведской армии подполковника Давида Зильтмана шведское командование уже 3 сентября получило от русских дезертиров информацию о приготовлениях противника к нападению на корпус Левенгаупта, в шведской армии под Старишами почти окончились запасы продовольствия и фуража – хлеба солдатам не выдавали три недели[118 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 34; Гилленкрок А. Указ. соч. С. 46.]. После совещания с высшим руководящим составом – Реншельдом, Пипером, Мейерфельдтом и Гилленкроком, 14 сентября король направил известие Левенгаупту о перемене операционного направления, приказав идти вслед через Пропойск или другим маршрутом прямо к Стародубу, а 15 сентября шведская армия выступила в Северскую землю (первым до рассвета 15 сентября двинулся авангард в составе 2 тыс. солдат и офицеров пехоты и 1 тыс. драгун при 6 орудиях под общим командованием генерала Андерса Лагеркруны, который в итоге заблудился и не решил поставленной перед ним задачи по овладению районом Мглин, Почеп, Стародуб, что позволило бы шведам контролировать Северскую землю Украины). Поскольку к 15 сентября курляндский корпус находился на расстоянии всего около 90–95 км от района Стариши, Татарск, и 30–35 км западнее Днепра, то А. Констам отмечает, что, долго ожидая войска Левенгаупта, Карл XII в итоге так и не нашел времени их дождаться[119 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 45, 52.].
По мнению В. Артамонова, роковой шаг к пропасти, обусловивший конечное поражение шведской армии во всей кампании, был сделан Карлом XII ночью 14 сентября, причем существует версия, что на это решение повлияло ложное сообщение, будто бы корпус Левенгаупта уже переправился через Днепр[120 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 37–38.]. Послания от короля прибыли только 16 и 17 сентября, хотя курьеры утверждали, что в пути они были сутки. Это дало основания Левенгаупту впоследствии утверждать, что фельдмаршал Реншельд специально задержал отправку почты, а задержка привела его к неверному решению продолжать путь корпуса с обозом по прежнему маршруту[121 - В кн.: Григорьев Б. Н. Указ. соч. С. 271.]. С другой стороны, по информации Гилленкрока, курьер, посланный к Левенгаупту с картой, где был проложен новый маршрут для корпуса, ни с чем вернулся 19 сентября в Кричев (куда пришли 18 сентября главные силы шведской армии), поскольку вражеские войска перекрыли все промежуточные дороги[122 - Гилленкрок А. Указ. соч. С. 47.].
Получив информацию («от одного еврея»), что Могилев сожжен русскими, а район между Череей и Могилевом опустошен, Левенгаупт двинулся в направлении Шклова, чтобы там переправиться через Днепр выше по течению. Ответ Левенгаупта королю с уверениями, что он выполнит полученный приказ, хотя, вероятнее всего, будет при этом атакован большими и лучшими силами противника, один из присланных курьеров доставил обратно Карлу XII тогда, когда шведская армия уже переправилась через реку Сож.
В то же время царь Петр еще 10 сентября узнал от шпионов («шпиков») о приближении крупного шведского отряда с обозом и решил его уничтожить (хотя замысел напасть на корпус Левенгаупта появился еще на военном совете в Мстиславле 1 сентября 1708 года[123 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 33–34.]). На военном совете русского командования, состоявшемся 13–14 сентября 1708 года в деревне Соболево в 35 км к югу от Смоленска, было запланировано провести для этого специальную операцию. Поскольку информация о численности шведов оказалась неточной – по показаниям перебежчиков царю передали, что противник насчитывает около 8 тыс. человек[124 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 249.], то для данной операции был сформирован сравнительно небольшой корпус, или так называемый «летучий корволант» (фр. «corpus volant», «летучий корпус», названный так из-за своей повышенной подвижности, поскольку солдаты пехотных частей, включенных в корпус, а также артиллеристы передвигались верхом на лошадях, как и драгуны; в армии Петра I первый опыт создания основы для такого объединения имел место летом-осенью 1707 года, когда подполковник Преображенского полка Марк Кирхен получил приказ царя отправить некоторые подразделения в Польшу конным порядком[125 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 103.] (Mark Kirchen, по свидетельству Мартина Нейгебауэра, за какую-то провинность царь Петр однажды лично избил его и плюнул в лицо. – П. Б.)).
В состав корпуса вошли 10 батальонов пехоты (по 3 батальона Лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков (1556 и 1664 чел.), 3 батальона Ингерманландского и один батальон Астраханского полков (1610 и 319 чел.) – 5149 солдат и офицеров, а также гренадерские роты Преображенского, Ингерманландского, Нижегородского и Ростовского полков и Лейб-регимента – около 500–600 военнослужащих) – 5700 солдат и офицеров, 9 драгунских полков (Владимирский, Вятский, Невский, Нижегородский, Ростовский, Сибирский, Смоленский, Тверской, Троицкий полки) и 3 отдельных эскадрона Лейб-регимента князя Меншикова – 7792 солдата и офицера, а также 900–1300 казаков, всего около 14,5 тыс. человек, при 19 трехфунтовых и 11 двухфунтовых полковых орудиях[126 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 45, 82; Беспалов А. В. Указ. соч. С. 68, 69, 78.].
По поводу численности «корволанта» генерал Левенгаупт отмечает, что в десяти батальонах четырех указанных выше элитных русских полков насчитывалось не менее 9 тыс. солдат и офицеров, что вместе с драгунами и казаками позволяет оценить общую численность «корволанта» в размере не менее 17–18 тыс. человек. В связи с этим интересна информация В. Артамонова, что, согласно показаниям русских пленных, взятых шведами под Лесной, в ходе непрерывной погони за корпусом Левенгаупта очень много лошадей пало или вышло из строя, в частности, в Преображенском полку таких было 278 голов[127 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 51.]. Поэтому, даже учитывая наличие запасных лошадей, численность «корволанта» должна была уменьшиться из-за оставшихся пешими и отставших солдат и офицеров. Вместе с тем русское командование изначально предполагало усилить «корволант» кавалерийским отрядом генерала Бауэра из 8 драгунских полков (около 5000 солдат и офицеров и 1200 казаков), располагавшимся в районе Кричева, а также пехотной дивизией генерала Николаса Вердена из 8 пехотных полков (около 7300 солдат и офицеров Каргопольского, Киевского, Копорского, Нарвского, Новгородского, Пермского, Устюжского и Ямбургского полков), сосредоточенных под Моготово, к югу от Смоленска[128 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 68, 69; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 204, 251.]. Учитывая соединение «корволанта» с отрядом генерала Бауэра, большинство современных событиям периодических изданий в Европе определяли численность шведов под Лесной в количестве 14 тыс. солдат и офицеров, а русских – 24 тыс.[129 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 87.], что является, вероятно, наиболее достоверной оценкой.
Установление местонахождения шведского корпуса производилось генералом Бауэром, который с 11 сентября активно высылал для этого крупные поисковые отряды из драгун и казаков. При этом Бауэр полагал, что король Карл двинется навстречу Левенгаупту, поэтому предлагал царю немедленно придать его кавалерийскому корпусу несколько пехотных полков, с которыми он всеми силами нападет на корпус Левенгаупта, уничтожит его обоз и угонит стада скота, лишив тем самым главную армию шведов возможности продолжать продвижение к Смоленску[130 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 35–36.]. Однако царь оставил главные силы пехоты под командованием фельдмаршала Шереметева, приказав ему 15 сентября двигаться вслед за шведской армией в направлении Кричева.
Левенгаупт, выполняя приказ короля двигаться на Пропойск (Славгород), 21–22 сентября переправился по понтонному мосту на восточный берег Днепра у Шклова, причем предварительно якобы подослал прямо в русский «корволант» в качестве проводника своего агента, который дезинформировал противника о времени и месте шведской переправы[131 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 70.]. Поэтому «корволант» двинулся к Орше (до этого уже сожженной русскими) и начал переправляться через Днепр, оказавшись на 30 км севернее шведов. Только показания местных жителей – мелкого дворянина (шляхтича) по фамилии Петрокович, который видел переправу шведов и стал новым проводником для «корволанта», позволили русскому командованию определить приблизительное местонахождение и направление движения шведского корпуса и организовать преследование. Вся эта ситуация известна только по русским источникам – из так называемой «Гистории Свейской войны», крайне тенденциозного официального труда, готовившегося уже после окончания войны под редакцией самого царя с целью прославления воинского искусства Петра I и силы русского оружия[132 - Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. С. 286.]. Соответственно, совершенно невозможно ответить на вопросы, каким образом генералу Левенгаупту и его офицерам в условиях спешного продвижения по совершенно незнакомой местности удалось найти человека, который согласился выполнить самоубийственное задание, поскольку его обман все равно должен был раскрыться, а наказанием за это была смерть – шведского «агента» повесили по приказу царя. Согласно В. Артамонову, в некоторых случаях агентам приходилось вести разведывательную деятельность из страха за судьбу родных и близких, взятых в заложники, но в большинстве случаев шпионами с обеих сторон выступали местные коммерсанты из еврейских общин и местечек, которые имели обширные связи и хорошо знали местность, причем они передавали как достоверные данные, так и неверные и прямо дезинформирующие сведения[133 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 29–30, 48–49.]. Например, Левенгаупт говорит в своих воспоминаниях, что 20 сентября к нему прибыл еврей, который добровольно сознался, что ведет разведку по заданию самого царя Петра и Меншикова, причем сообщил, что русские концентрируют свои силы в Чаусах, Горках и Романове, в непосредственной близости от Шклова.
С другой стороны, исходя из оперативно-стратегической целесообразности, король Карл XII должен был поступить так же, как и германское командование, и противопоставить методам войны русских аналогичную стратегию «выжженной земли» в их собственном тылу. Для этого ему требовалось накануне или в начале похода в Россию заручиться помощью крымских татар и согласовать свои операции с вторжением крымской конницы в глубокий тыл царской армии с опустошением «ближней и дальней местности» (как это обещал сделать шведскому королю гетман Мазепа, но так и не осуществил из-за отсутствия сил и нерешительности[62 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 39.]). Впоследствии, в январе 1711 года, накануне войны России с Турцией, крымский хан Девлет-Гирей II организовал вторжение в Левобережную Украину и в феврале сумел продвинуться в район Харькова, захватив и опустошив Бахмут, Змиев, Водолагу (Водолаги) и Мерефу[63 - История Северной войны. 1700–1721 гг. С. 106–107.] (татары отступили только после неудачного боевого столкновения с кавалерийским соединением генерала Иоганна Вейсбаха под Богодуховым[64 - Лубченков Ю. Н. Все полководцы мира. Новое время. – М.: Вече, 2001. – 384 с. – С. 64.]). Подобный рейд весной-летом 1709 года оказал бы огромную помощь шведам и существенно изменил оперативное положение на Украинском театре военных действий. Однако шведское военно-политическое руководство не использовало дипломатические возможности для создания коалиции против России, а шведское командование применяло опустошение территории исключительно в тактических целях, делая это в сравнительно узкой полосе, чтобы таким способом затруднить противнику подход к местам расположения своих войск, как это было зимой 1709 года при остановке шведов на «зимние квартиры» в Украине. В дальнейшем шведы использовали аналогичную ограниченную тактику опустошения местности и на своей земле, уничтожая более или менее крупные населенные пункты на отдельных участках побережья Финляндии, с целью воспрепятствовать действиям русского галерного флота, нуждавшегося в постоянном пополнении запасов дров и продовольствия[65 - В кн.: Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. С. 385.].
Разорение местности последовательно применялось русскими вплоть до Полтавской битвы, за исключением попытки усилить оборону в Белоруссии, решенной 23 июня 1708 года на военном совете («генеральном конзилиюме») в Могилеве, что почти сразу же окончилось для царской армии поражением под Головчином (3 июля)[66 - В кн.: Тарле Е. В. Указ. соч. С. 198, 199; Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 243.]. Вместе с тем, помимо опустошения местности и уничтожения материальных запасов, русская армия сковывала маневр врага за счет создания системы укрепленных позиций и препятствий на местности, а также использования иррегулярной кавалерии – казаков, татар, киргизов, каракалпаков и калмыков.
В своем исследовании В. Молтусов приводит обширные данные, касающиеся оборонительной системы инженерных сооружений, подготовленных по решению русского командования к маю 1706 года на рубеже от Пскова до Севска[67 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 94–102.]. Рубеж включал сплошную засечную линию шириной до 150 шагов из поваленных крест-накрест деревьев в лесистой местности, прикрытие позиционными укреплениями открытых участков и стратегически важных объектов – дорог, речных переправ и труднопроходимых проходов («пасов») на местности, а также кордонную систему опорных пунктов и узлов сопротивления. Так, оборонительный рубеж на линии Западной Двины опирался на узлы сопротивления в Полоцке и Витебске, по Днепру рубеж строился на базе опорных пунктов в Быхове, Могилеве, Орше и в районе Копыси, а далее к югу укреплялся Киев. В 1707–1708 гг. уже построенный рубеж дополнительно усиливался новыми инженерно-строительными мероприятиями.
Все эти мероприятия отнюдь не являлись новаторством в области оборонительной стратегии, но были всего лишь более широкомасштабным повторением работы по созданию так называемой «Белгородской засечной черты», строившейся в XVI–XVII вв. на границе Украины и России с целью противодействия набегам крымских татар в глубь России. В дальнейшем, в ходе Второй мировой войны на советско-германском фронте нечто подобное попытался воспроизвести Главнокомандующий германскими войсками Адольф Гитлер (Adolf Hitler), отдавший приказ о строительстве оборонительного рубежа стратегического значения от Балтийского до Азовского моря по линии: река Нарва, Чудское озеро, район восточнее Витебска, реки Сож, Днепр и Молочная (приказ фюрера № 10 от 11 августа 1943 года о немедленном сооружении Восточного вала[68 - В кн.: Колтунов Г. А., Соловьев Б. Г. Курская битва. – М.: Воениздат, 1970. – 400 с. – С. 328–329.]). Характерно, что во всех перечисленных случаях показанная оборонная эффективность такой инженерной подготовки местности совершенно не соответствовала затратам на эту подготовку. Однако, поскольку в сметах расходов и доходов царской казны в период за 1706–1708 гг. данные о расходах на указанные укрепления отсутствуют (эти сметы, в числе прочих, приводятся в исследовании П. Милюкова «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого»[69 - В кн.: Милюковъ П. Указ. соч. С. 646–669.]), то можно заключить, что все работы финансировались за счет местных средств и осуществлялись силами местного населения (В. Молтусов указывает на неоднократное привлечение к работам жителей в районе Орши и Могилева, а также в Смоленском и Брянском уездах, отмечая при этом, что все повинности по постройке засек, возведению укреплений, перевозке материалов и запасов выполнялись белорусскими и русскими крестьянами как обязательная личная повинность без всякого вознаграждения, точно так же, как и несение натуральной повинности по продовольственному и кормовому обеспечению царских войск[70 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 99, 100, 116.]).
Как видно, в данном случае царь Петр в очередной раз явился основоположником практики принудительного использования населения в военных целях, к чему впоследствии неоднократно прибегало как царское, так и советское военно-политическое руководство. В связи с этим необходимо вновь отметить то пренебрежение к собственному народу со стороны Петра I, который не только решил опустошать свою и чужую территорию, но еще и возложил на местные власти расходы по подготовке огромной оборонительной системы, но при этом совершенно не рассчитал эффективность требуемых мероприятий (вероятно, даже не подумал об этом, именно потому, что расходы обременяли не государственный «царевый» бюджет, а население). Вся та гигантская подготовка, осуществленная русскими податными сословиями на западной границе России, о которой говорит в своем исследовании В. Молтусов, оказалась на деле совершенно напрасной тратой сил и средств.
Как отмечает сам В. Молтусов, вследствие размаха инженерных работ, которые нельзя было скрыть или замаскировать, шведское командование не могло о них не знать[71 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 100.]. Согласно воспоминаниям генерал-квартирмейстера шведской армии полковника Акселя Гилленкрока (Юлленкрук, Axel Gyllenkrok, Gullenkrook, был взят в плен русскими уже после битвы под Полтавой, в сентябре 1709 года под городом Черновцы, в ходе неудачного разведывательного поиска небольшого отряда шведов, который, возможно, имел целью спровоцировать войну между Турцией и Россией), он предупреждал короля Карла о подготовке противником укрепленной линии с целью удержания оборонительных сооружений в труднопроходимых местах на главных дорогах из Белоруссии к Смоленску и Москве[72 - Гилленкрок А. Указ. соч. С. 10–30.]. Даже преодолев эту линию, шведская армия могла быть легко отрезана русскими, которые вновь блокируют дороги за спиной шведов, а впереди будет лежать выжженная неприятелем местность, что неминуемо приведет к нехватке продовольствия и фуража. Поэтому Гилленкрок посоветовал Карлу обойти основную часть вражеского рубежа, начав наступление из Белоруссии в Прибалтику, в общем направлении на Псков (для этого Гилленкроком заблаговременно был составлен подробный оперативно-стратегический план ведения военных действий на северо-западном театре, включавшем важнейшие направления от Риги до Выборга). Однако король отверг этот вариант, практически не объяснив мотивы своего решения.
Тем не менее шведская армия так и не предприняла попыток преодолеть построенный русскими оборонительный рубеж, повернув от Смоленска на юг, в Северскую землю Украины. Однако объяснялось данное решение шведского командования вовсе не опасениями перед оборонительными сооружениями противника, но острой нехваткой продовольствия, обусловленной вражескими мероприятиями по опустошению и выжиганию местности. При этом, в случае возобновления наступления на Москву, шведы обходили весь оборонительный рубеж неприятеля с юга. Другой вопрос, что принятое шведами решение, принципиально верное в иной ситуации, оказалось в итоге стратегическим просчетом, поскольку не учитывало ряда факторов, среди которых, прежде всего, отсутствие реальной возможности пополнения армии личным составом, а также непреодолимые трудности с получением предметов снабжения и ограничение возможности скрытно маневрировать в связи с активными действиями вражеской иррегулярной кавалерии и слабостью собственной легкой конницы.
Относительно использования русскими иррегулярной кавалерии – ее точное количество ни в одном из источников не приводится, однако в конце Северной войны численность русской иррегулярной конницы составляла 30–35 тыс. человек; по другим данным численность всей русской кавалерии за время Северной войны доходила до 84 тыс., причем количество драгун в 30 фузилерных и 3 гренадерских драгунских полках, составлявших всю регулярную кавалерию действующей армии, в 1720 году равнялась 36,6 тыс., а в 1724 году – 38 тыс. солдат и офицеров, то есть на долю иррегулярной конницы приходится более 40 тыс. человек; тем не менее, по сведениям, которые приводит Е. Тарле, когда 6 июля 1709 года производился смотр русской армии, численность иррегулярных сил составляла 91 тыс. человек[73 - В кн.: Денисон Дж. История конницы. Кн. 1. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 480 с. – С. 277; Р. Эрнест Дюпюи и Тревор Н. Дюпюи. Харперская энциклопедия военной истории с комментариями издательства «Полигон». ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ВОЙН. Книга вторая. – М.: “Издательство Полигон”; СПб., 1997. – 896 с. – С. 699; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 521.]. Отсюда неудивительно, что воспоминания и свидетельства участников похода шведской армии (Густава Адлерфельта, Фредрика Вейе, Акселя Гилленкрока, Джеймса Джеффриса, Давида Зильтмана, Даниела Крмана, Адама Левенгаупта, Йорана Нордберга, Йохана Норсберга, Роберта Петре, Станислава Понятовского и др.) полны упоминаниями о постоянных набегах вражеской иррегулярной конницы, которая затрудняла разведку, фуражировки и работу интендантских партий.
Касаясь возможностей самих шведов дифференцированно использовать свою кавалерию, необходимо заметить, что задачи по ведению разведки и осуществлению рейдов в тыл противника и на его коммуникации не могли быть решены силами армейских рейтарских и драгунских полков, поскольку они имели крупных и тяжелых лошадей, специально закупленных в Германии и Дании[74 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 301.]. Этого требовала тактика боя шведской кавалерии, заключавшаяся в ударном натиске на противника плотно сомкнутым строем эскадрона в поэскадронном линейном боевом порядке. Крупные лошади предоставляли преимущество в таком бою, но быстро утомлялись и требовали тщательного ухода и питания, то есть не годились для длительных маршей по сильно пересеченной местности в условиях содержания на подножном корму. В этом заключалось важное отличие лошадей шведской регулярной кавалерии от конского состава русской армии, где неприхотливые малорослые лошади позволяли использовать драгунские полки при осуществлении глубоких кавалерийских рейдов. Напротив, в шведской армии вся нагрузка по решению задач разведки и рейдирования возлагалась на собственно легкую кавалерию, представленную иррегулярной конницей.
В начале «Русской» кампании, когда боевые действия велись на территории Польши и Белоруссии, легкая иррегулярная кавалерия шведской армии – валашский гусарский полк в составе 12 хоругвей численностью до 2 тыс. всадников, по всей видимости, обеспечивал свое командование достаточно точными разведывательными данными (полк валахов или волохов, швед. «vallacks», называвших себя «товарищами», начал формироваться по предложению генерала Магнуса Стенбока в 1702 году, после битвы под Клишовом, в связи с необходимостью в маневренных конных отрядах при ведении войны в Польше[75 - Брикс Г. Примечания к «Истории конницы» Денисона // Денисон Дж. История конницы. Кн. 2. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 480 с. – С. 154.]). Об этом свидетельствует то, что шведам зимой 1708 года с помощью простых обходных маневров удалось вытеснить царские войска с Вислинской линии. Королевская армия за месяц без задержек прошла по лесисто-болотистой местности Мазурских лесов почти 300 верст, обойдя русских, стоявших под командованием Меншикова на переправах через Нарев, а затем кавалерийский отряд во главе с самим Карлом XII с хода овладел ключевым Гродненским мостом через Неман.
В начале лета 1708 года шведская армия была расположена между Гродно и Радошковичами, насчитывая после изнурительного марша через Мазурию и весенних боевых действий теперь уже около 35 тыс. солдат и офицеров, тогда как русские главные силы составляли около 50–55 тыс. военнослужащих[76 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 34.]. Вместе с тем русские войска были распределены вдоль линии от Полоцка на Двине до Могилева на Днепре, прикрывая как направление на Москву, за которое отвечал фельдмаршал Борис Шереметев, так и Псков, где командование предполагал осуществлять сам царь Петр. Король Карл, отвергнув мирные предложения русского царя, а также советы первого министра Карла Пипера принять план генерал-квартирмейстера полковника Акселя Гилленкрока и начать наступление на псковском направлении, решил двигаться на Москву через так называемые «Речные ворота», по проходу между реками Двина и Днепр, который был защищен Смоленском.
Реализуя это решение, в июне 1708 года шведы форсировали Березину у Сапежинской Березы (Березино), в то время как русская армия ожидала их продвижения на Борисов, Чашников или Уллу (по этому случаю Петр писал к Меншикову: «Письмо ваше получил и видел, что неприятель вас обманул, перебравшись реку Березу в ином месте»). 6 июня шведская армия выступила из Радошковичей и двинулась к Березине. Проходя через Минск, король Карл выделил отряд под командованием генерала Акселя Спарре (Axel Sparre) для дальнейшего марша прямо на восток к переправе через Березину в Борисове, чтобы ввести в заблуждение фельдмаршала Гольца, стоявшего там же с кавалерийским корпусом из трех бригад в составе около 6,5 тыс. солдат и офицеров и 1,5 тыс. казаков. Для обороны переправы в Борисове русские сосредоточили 8 орудий, в том числе 6 средних полевых пушек, размещенных на заранее подготовленных позициях под прикрытием Каргопольского пехотного полка[77 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 384.]. В то же время главные силы шведской армии повернули к югу, 15 июня вышли к Березине южнее Борисова и под прикрытием артиллерии переправились через реку в трех местах.
Точно так же река Друть была форсирована 10 верстами севернее Белыничей, занятых русскими[78 - Бескровный Л. Г. Стратегия и тактика русской армии в полтавский период Северной войны // Полтава: К 250-летию Полтавского сражения. Сб. статей. – М.: Изд. АН СССР, 1959. – С. 21–62. – С. 42.]. Таким способом шведы дважды пытались отрезать от основных сил русских отдельный кавалерийский корпус под командованием фельдмаршала Гольца, но плохие дороги в болотистой местности замедляли продвижение, поэтому противнику в обоих случаях удалось заблаговременно отступить.
Перед битвой при Головчине, которая позволила Карлу XII овладеть узловым пунктом дорожной сети и открыть путь к Могилеву и Днепровским переправам, шведы установили наличие разрыва между группировками русской армии, благодаря чему смогли в сложных условиях, форсируя речку Бабич (Вабич, 30 км к западу от Днепра), нанести концентрированный удар и овладеть изолированной позицией дивизии Аникиты (Никиты) Репнина. После этого русским пришлось срочно выводить войска из укреплений, созданных ниже по течению Днепра, а также в Орше и Шклове, то есть оставить оборонительный рубеж, который готовился с 1707 года[79 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 110.], а шведы заняли Могилев, где пополнили запасы продовольствия, поскольку русские войска не успели разорить и выжечь окрестности города (еще часть предметов снабжения удалось захватить в обозе дивизии Репнина).
Однако с момента задержки шведской армии под Могилевом положение начало изменяться. Прежде всего, русские получили помощь в виде отряда из нескольких тысяч литовской и татарской конницы от литовского польного гетмана Григория Огинского. Этот отряд, разделенный на мелкие группы, дежурившие на переправах, также активно участвовал вместе с русскими драгунами, казаками и калмыками в опустошении белорусских земель, противодействии разведке противника, перехватывании шведских продовольственных партий и фуражиров. Кроме этого, иррегулярная конница успешно блокировала попытки доставлять шведской армии предметы снабжения со стороны, на коммерческой основе. Например, когда несколько сотен купцов-евреев попытались вместе доставить шведам продовольствие и товары в сентябре 1708 года (торговым обеспечением шведской армии занималось около четырех тысяч евреев), их обоз перехватили калмыки, разграбили, а евреям отрезали уши и носы, после чего немецкие и еврейские купцы, двигавшиеся с той же целью из Кенигсберга, испугались и остановились в Литве[80 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 103.].
Напротив, после вступления в Северскую землю Украины, шведские валахи, а также конные части из гетманских (с начала ноября 1708 года) и запорожских (с начала апреля 1709 года) казаков фактически вообще не смогли решить задачу по ведению разведки и действиям на коммуникациях русской армии, которая широко и беспрепятственно пользовалась подвозом предметов снабжения из тыла (так, уже находясь под Полтавой, 24 июня 1709 года царь требовал от воронежского коменданта Степана Колычева присылки через Белгород к своему лагерю трех тысяч лопат и тысячи кирок для производства земляных работ при строительстве полевых укреплений[81 - В кн.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. IX (январь-декабрь 1709 года). С. 222 (вып. 1).]). Царская армия стала опережать неприятеля при занятии ключевых позиций, что указывает на отсутствие у шведского командования точных и оперативно поступающих данных как об оптимальных маршрутах для движения своих войск, так и о перемещениях противника. Причем, судя по изменению в характере боевых действий, решающий количественный и качественный перевес русской иррегулярной конницы оказался достигнут именно после перенесения военных действий на территорию Украины (при этом, по данным А. Констама, ко времени вступления в Северскую землю Украины шведская армия насчитывала уже всего лишь 25 тыс. солдат и офицеров[82 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 45.]).
По некоторым данным[83 - В кн.: Беспалов А. В. Указ. соч. С. 106–113, 179; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 383, 422.], всего к началу XVIII в. украинское казачье войско насчитывало 25–30 тыс. городовых (10 полков) и 4–7 тыс. компанейских (7 полков) казаков. Осенью 1708 года в Украине оставались 10 казацких полков (3 городовых и 7 компанейских) общей численностью приблизительно 10 тыс. казаков. Из Батурина в октябре 1708 года Мазепа привел к шведам около 3 тыс. казаков, а 2 тыс. человек из его отряда разбежались. При штурме Батурина русскими войсками под командованием генералов Меншикова и Голицына были убиты 6 тыс. человек – весь гарнизон и часть жителей города. Следовательно, из всего гетманского казацкого войска в Украине 3 тыс. казаков вначале примкнули к шведам, большая часть остальных либо разбежалась, либо погибла, а 9 городовых, 3 компанейских и 1 сердюцкий полки (около 15–20 тыс. чел.) остались на стороне царских войск или перешли к ним из-под командования Мазепы до начала 1709 года.
Максимальное число запорожских казаков в шведской армии после разгрома Сечи в апреле-мае 1709 года доходило до 6–7 тыс., а вместе с казаками Мазепы – около 8 тыс. человек. Учитывая пропорцию между конницей и пехотой в казацких полках (? или ?), русские имели 10–15 тыс. конных украинских казаков, а шведы до прихода запорожцев – от 1,5 до 2,5 тыс. человек, а вместе с запорожцами – приблизительно 6–8 тысяч. Следовательно, общее количество иррегулярной конницы у шведов с учетом валашского полка равнялось до мая 1709 года 3–4 тыс., а с мая – 8–10 тыс. всадников.
Согласно другим оценкам, после того как к шведам присоединился гетман Мазепа, их иррегулярная конница увеличилась с 1–1,5 тыс. валахов до 3 тыс. всадников. Согласно имеющимся сведениям, на декабрь 1708 года численность казаков в шести полках, остававшихся под командованием Мазепы, не превышала 1,5 тыс. человек, включая пеших казаков, но к июню их число уменьшилось до 1 тыс. казаков в четырех полках, тогда как число валахов накануне Полтавской битвы составляло не более 500 человек, сократившись в основном из-за дезертирства[84 - В кн.: Беспалов А. В. Указ. соч. С. 179; Молтусов В. А. Указ. соч. С. 170, 284–286; Энглунд П. Указ. соч. С. 74–75.]. Другими союзниками шведов, выставлявшими иррегулярное конное войско, являлись запорожские казаки. Часть запорожцев сразу же примкнула к шведской армии в марте 1709 года, после присяги королю Карлу, а часть некоторое время действовала против русских самостоятельно или занимала выжидательную позицию. Однако, после разгрома Запорожской Сечи и укрепленных пунктов запорожцев по нижнему течению Днепра, эти казаки в основном также были вынуждены присоединиться к шведам. В феврале 1709 года общая численность запорожцев оценивалась русскими в количестве до 5 тыс. конных и 1 тыс. пеших казаков, но к июню их число снизилось до 3–4 тыс. человек в связи с потерями при осаде Полтавы[85 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 285.]. Поэтому во второй половине мая 1709 года численность всей иррегулярной кавалерии у шведов достигла наибольшего значения, составляя до 7–7,5 тыс. человек, а затем постепенно сокращалась вплоть до Полтавской битвы.
С другой стороны, в распоряжении русского командования к указанному времени имелось свыше 15 000 украинских казаков, от 1000 до 5000 донских, терских и яицких казаков, а также до 15 000 уральских и заволжских уроженцев: татар, киргизов, каракалпаков, калмыков[86 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 73.].
Показательны также следующие сведения[87 - В кн.: Беспалов А. В. Указ. соч. С. 81–90, 104, 109, 138, 182; Керсновский А. А. История русской армии в 4 томах. Т. 1. – М.: Голос, 1999. – 304 с. – С. 31; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 131.], касающиеся применения русскими иррегулярной казацкой кавалерии. В 1701 году при войске Шереметева, выступившем из Пскова, состояло около 5 тыс. человек иррегулярной пехоты и кавалерии, из которых более 4,5 тыс. составляли украинские казаки (черкасы), а остальные – татары. В феврале 1706 года гетман Мазепа обещал царю привести в Минск 5 тыс. гетманской пехоты и несколько тысяч конницы, причем царь в письмах жаловался Меншикову, что конницы в Белоруссии очень мало. Осенью 1706 года в армии Меншикова, действовавшей на Волыни, было 20 тыс. конных казаков. К лету 1708 года при царской армии в Белоруссии находилось четыре украинских казацких городовых полка. В сражении при Головчине главные силы русских включали 4 тыс. всадников иррегулярной конницы, а при «летучем корволанте» под Лесной их было от 900 до 2500 человек. Под Полтавой у гетмана Скоропадского было 16 тыс. конных и пеших казаков. Учитывая то, что украинские казацкие полки имели смешанный конно-пехотный состав, причем, конница составляла от ? до ? всего состава, средняя численность иррегулярной конницы украинских казаков при главных силах русской армии в 1701–1709 гг. в среднем достигала 5–6 тыс. человек.
По данным Г. Брикса (Heinrich Otto Brix)[88 - Брикс Г. Примечания к «Истории конницы» Денисона. С. 161.], к 1725 году основой русской иррегулярной конницы являлась многочисленная казачья конница: донские и волжские казаки – около 20 000 человек; терские и гребенские – около 500 постоянно находившихся на службе человек; яицкие (по названию реки Яик, впоследствии река Урал и уральские казаки) – 3196 человек; малороссийские – 10 городовых и 3 компанейских полка; 5 полков слободских казаков, бахмутские, хоперские, семейные и сибирские казаки; чугуевцы, калмыки, башкиры и иррегулярные отряды армян и грузин, состоявшие при корпусе, расположенном на персидской границе, то есть всего иррегулярных всадников было не менее 125 000.
Численный перевес давал русской иррегулярной коннице возможность заранее предупредить любые поисковые мероприятия противника, окружив шведов густой цепью постов и пикетов[89 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 224.]. Поэтому английский посол в России с весны 1705 года Чарльз Витворт (Уитворт, Charles Whitworth, 1-st Baron Whitworth, 1-й Барон Витворт) считал, что действия русской иррегулярной конницы явились для шведов величайшим бедствием, которое Карлу XII следовало заранее предусмотреть и обезопасить свою армию, увеличив число легкой конницы за счет набора среди польской шляхты. Вместо этого Карл XII взял в поход только маленький польский отряд под командованием генерала артиллерии польской службы и мазовецкого воеводы Станислава Понятовского (Stanislaw Poniatowski, его сын Станислав Август Понятовский впоследствии стал последним королем независимой Польши). Возможно, так произошло потому, что в польском войске того времени практически отсутствовала дисциплина[90 - Валишевский К. Указ. соч. С. 258.]. Хотя, дисциплиной не отличались и волохи – например, 21 апреля 1709 года из их отряда дезертировали 3 офицера и 38 рядовых[91 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 447.]. Пастор корпуса Лейб-драбантов Михаэль Шенеман (Енеман, Michael Scheneman) объясняет отказ от привлечения польско-литовской легкой конницы жадностью шведского командования, желавшего воевать без союзников, чтобы ни с кем не делиться славой и добычей[92 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 400.].
Вместе с тем при исследовании данного вопроса необходимо учитывать и субъективный фактор, поскольку именно ко времени задержки шведской армии под Могилевом относится такой внешне незначительный эпизод войны, как пленение генерал-адьютанта короля Карла подполковника Габриэля Отто Канефера (Канифер, Gabriel Otto Kanefer, Kanefehr), который руководил всеми действиями иррегулярной шведской конницы. Канефер был взят в плен 1 августа 1708 года в результате внезапного нападения специальной группы («партии») под командованием полковника Иоганна Вейсбаха (Johann Bernhard Wei?bach, уроженец Богемии, служил в Австрии, в 1707 году перешел на русскую службу в звании полковника и был назначен командиром Сибирского драгунского полка) из корпуса генерала Ренне на лагерь под Смолянами (Смолевичи, Смольяны), где располагался конный отряд Канефера численностью около 200–300 человек, в том числе 50 шведских солдат-драгун и 2 офицера[93 - Лубченков Ю. Н. Указ. соч. С. 64.] (история этого эпизода Северной войны в действительности заслуживает отдельного исследования, поскольку в плен был взят фактически руководитель армейской разведки шведов, располагавший ценнейшей информацией о планах шведского Главного командования). Подполковник Канефер, пользовавшийся большим расположением короля Карла – генерал-адъютант с 1706 года, характеризовался как смелый кавалерийский командир, умело организовывавший диверсионные и разведывательные конные рейды. В частности, русские источники отмечают его удачные действия при организации переправы шведской армии через Березу[94 - В кн.: Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. С. 279–280.]. Поэтому, вероятно, именно его пленение привело к снижению эффективности действий шведской иррегулярной конницы. Обмен Канефера на русских военнопленных организован не был, так что он оставался в плену до окончания Северной войны (вначале Канефер был любезно принят в Москве комендантом князем Матвеем Петровичем Гагариным, но затем вместе с бывшим комендантом Нарвы генералом Хеннингом Горном обвинен в шпионаже и помещен под стражу (царь Петр обвинил его в сокрытии «под божбою» планов короля Карла о повороте шведской армии в Украину, хотя ко времени пленения Канефера таких планов еще не существовало[95 - В кн.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. IX (январь-декабрь 1709 года). С. 354–355 (вып. 1).]), потом выслан в Тобольск, поскольку русское командование опасалось попыток побега с его стороны, а после обвинения Сибирского губернатора князя Матвея Гагарина в попытке организовать переворот с помощью военнопленных-шведов – заключен в крепость в Санкт-Петербурге (освобожден оттуда в декабре 1723 года по ходатайству герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского (герцог Голштинский, Karl Friedrich, Herzog zu Holstein-Gottorp), находившегося в России в связи с намерением сочетаться браком с дочерью Петра I, цесаревной Анной Петровной[96 - Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, с 1721 по 1725 год. В 4 ч. Ч. 3 / Ф. В. Берхгольц; пер. с нем. И. Аммона. – 2-е изд. – М.: тип. Лазаревского ин-та восточных языков, 1860. – 186 с. – С. 178.])).
Наряду с этим здесь также следует указать и на другой субъективный фактор – психологию восприятия местным православным населением протестантов-шведов. Помимо увеличения количества легкой конницы и пленения Канефера, местные условия в православных Белоруссии и Украине, в отличие от католической Польши, благоприятствовали ведению агентурной работы в интересах русских (как писал Меншикову сам царь: «… с помощью шпигов (лучше, чем попы, не придумать)…»[97 - В кн.: Серчик В. А. Указ. соч. С. 93.]), поэтому царское командование было хорошо осведомлено о движениях шведской армии (некий православный поп Елисей из Мстиславля был послан русским командованием на разведку в Могилев и успешно выполнил порученную ему шпионскую миссию). Это позволяло заранее занимать укрепленные пункты на пути шведов; навязывать противнику бои местного значения и устраивать засады; блокировать переправы через реки и уничтожать переправочные средства; уничтожать продовольственные и иные запасы в районах по направлению продвижения шведской армии. В результате шведы тратили время и силы на штурмы и обходные маневры, теряли в стычках людей и расходовали боеприпасы, лишались возможности организовать снабжение.
Русские отряды внезапно атаковали части шведской армии при Черной Натопе (Добром), Пирятине, Красном и Колядине, Раевке, Опошне, Рашевке, Краснокутске и Городне, в Старых Сенжарах, под Петровкой; блокировали переправы через Десну и Ворсклу; упредили шведов в занятии Мглина, Стародуба, Батурина; уничтожили переправочные средства по Днепру. При этом гибель или тяжелое ранение каждого хорошо обученного солдата-профессионала для шведов были невосполнимыми, а русские, невзирая на любые потери, получали все возрастающий численный перевес. Так, за период с 1701 по 1708 гг. штатная численность русской армии возросла с 40 до 113 тыс. военнослужащих (реальная укомплектованность частей в целом соответствовала штатным нормам несмотря на непрерывное дезертирство, объяснявшееся принудительным характером набора в армию – по оценке английского посла Витворта, в 1707 году, несмотря на отсутствие активных боевых действий, из 30 тыс. военнослужащих драгунских полков осталось только 16 тыс., а из 11 пехотных полков в Москве за два месяца дезертировали в среднем по 200 человек из каждого полка[98 - В кн.: Милюковъ П. Указ. соч. С. 131.]; по данным, которые приводит В. Молтусов, за период с 1705 по 1709 гг. было произведено пять рекрутских наборов приблизительно по 30 тыс. человек каждый, из которых до трети людей выбывало из строя в результате бегства и болезней, так что за пять лет русская армия понесла небоевые потери в количестве около 50 тыс. человек[99 - В кн.: Молтусов В. А. Указ. соч. С. 135.]; соответственно, в русской армии имели место, например, и такие потери как смерть рекрутов от голода и болезней до прибытия к месту службы, куда их доставляли в кандалах, а в пути содержали по тюрьмам и острогам[100 - Бушков А. А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование; СПб.: НЕВА; Красноярск: Бонус, 2003. – 608 с. – С. 392, 393.]; с 1712 года рекрутов стали насильственно метить – на руке выкалывали крест, то есть русская регулярная армия по существу являлась армией рабов – оторванный от земли крепостной крестьянин переходил из-под власти помещика в рабство к воинскому начальнику[101 - Пехота Петра I // Новый солдат. – № 189. – С. 21–22.]).
При этом ничего нового стратегия русского командования не представляла. Аналогичной манеры ведения боевых действий придерживался еще византийский стратег Велизарий в войне с готами в Италии. С помощью легкой конницы он лишил подвоза большое войско готов, осаждавшее Рим, после чего, вследствие голода и вынужденного питания недоброкачественными, испорченными продуктами, среди готов началась эпидемия[102 - Прокопий Кесарийский. Война с готами. – М.: Арктос – Вика-пресс, 1996. – 336 с.]. Однако, в отличие от царя Петра и его генералов, Велизарий постоянно и последовательно уклонялся от крупных боевых столкновений, требовавших привлечения основных сил его армии.
Таким образом, в ситуации стратегического отступления противника, дополненного последовательным разорением местности и активными действиями многочисленной русской иррегулярной конницы, шведская армия оказалась в сложной оперативно-стратегической обстановке. Положение шведов характеризовалось, во-первых, постоянным сокращением численности личного состава; во-вторых, затруднениями с получением основных предметов снабжения, фуражировкой и сбором запасов продовольствия; в-третьих, отсутствием полных и достоверных сведений о противнике при невозможности скрыть собственные передвижения, что позволяло русским блокировать шведские маневры. В это время, в момент отказа от дальнейшего продвижения на Москву через Смоленск и поворота в Северскую землю Украины, шведское командование должно было адекватно оценить ситуацию и принять решение об изменении стратегического плана кампании. Однако продолжение упорного поиска дороги к Москве при четком осознании малочисленности людских и материальных ресурсов показывает, по мнению В. Молтусова, что дальнейшие военные операции шведов приобрели авантюристический характер[103 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 138.]. Таким образом, целенаправленно примененная русскими стратегия «истощения» и окружения противника завесой иррегулярной конницы привела к тому, что шведы не добились поставленной цели, но шведское командование, то есть прежде всего король Карл XII, приняло стратегически ошибочное решение о продолжении ведения кампании по той же схеме, вследствие чего в ходе военных действий наступил перелом в пользу русской стороны.
Этот перелом в войне явно обозначился в сентябре 1708 года, после того как русским удалось добиться крупного успеха в битве под Лесной против отдельного шведского корпуса под командованием генерала Адама Левенгаупта.
§ 1.3. Битва под Лесной
Лифляндский и Курляндский губернатор генерал Адам Людвиг Левенгаупт, командовавший войсками в Лифляндии (нем. Livland, одно из наименований Ливонии, обозначавшее северную часть Латвии и южные районы Эстонии) и Курляндии (западная Латвия), хорошо зарекомендовал себя в ходе боевых действий на прибалтийском театре Северной войны, где шведы после битвы под Нарвой терпели одну неудачу за другой. Так, в 1703 году он одержал победу у деревни Салаты (Saladen, лит. Салочай в 65 км к югу от Митавы, Mitau, лат. Елгава) над вчетверо превосходящим его силы русским отрядом в составе стрелецких частей, смоленского конного ополчения и литовской конницы, а в 1704 году разбил примерно такой же по составу и вдвое превосходящий по численности отряд при городе Якобштадт (латв. Екабпилс на реке Даугаве). Это были победы, одержанные регулярными шведскими войсками над иррегулярными военными формированиями противника, но 15 июля 1705 года Левенгаупт разбил под Гемауэртгофом (Gem?uerthof, Мур-Мыза, на реке Свете в 30 км к югу от Елгавы) крупный русский корпус фельдмаршала Шереметева (всего 8 драгунских полков и 3 пехотных полка – около 9 тыс. солдат и офицеров при 13 орудиях[104 - В кн.: Милюковъ П. Указ. соч. С. 129.]), пытавшийся отрезать шведские силы в Прибалтике от находившейся в Польше армии Карла XII.
Как следует из весьма неполных описаний этой битвы[105 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 38, 39; Шефов Н. А. Указ. соч. С. 172.], Левенгаупт, в распоряжении которого находились около 7 тыс. солдат и офицеров пехоты и кавалерии при 12 орудиях, в ходе боя преднамеренно или случайно произвел такой же маневр, как прусский король Фридрих II в сражении при Хотузице (Chotusitz) 17 мая 1742 года. Традиционно построившись в две линии с пехотой в центре и конницей на флангах, шведы завязали бой с русской кавалерией, составлявшей большую часть сил Шереметева, а затем отступили, открыв свой обоз, который и бросились грабить русские драгуны, попавшие при этом под огонь развернувшейся в обратную сторону второй линии шведской пехоты. Последовавшая затем удачная контратака шведской кавалерии позволила отбросить русскую конницу на собственную пехоту, которая, оставшись без поддержки, также была вынуждена отступить. В результате русские потеряли до 1600 солдат и офицеров убитыми (по другим данным 1904 человека) и 1200 ранеными, а также 13 пушек[106 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 39; Урланис Б. Ц. История военных потерь. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII–XX вв. (историко-статистическое исследование). – М.: «Издательство «Полигон»; СПб., 1998. – 558 с. – С. 55; Шефов Н. А. Указ. соч. С. 172.].
Учитывая эти успехи, 8 июня 1708 года Адам Левенгаупт получил приказ короля Карла XII собрать запасы предметов снабжения, сформировать воинский корпус и выступить на соединение с главной шведской армией в Белоруссии в районе Березины Пацовой на реке Березина (приказ был подписан в Радошковичах 25 мая). В соответствии с данным приказом, корпус из 13 тыс. солдат и офицеров (17 батальонов пехоты, из которых 12 батальонов в составе 6 пехотных полков – 8 тыс. военнослужащих, по 3 рейтарских и драгунских полка и 3 отдельных драгунских эскадрона – 2 тыс. рейтар и 2,9 тыс. драгун, 50 разведчиков-поляков в отдельной конной роте, 50–100 артиллеристов и саперов и 16 артиллерийских орудий, из которых 10–11 трехфунтовых и 5–6 шестифунтовых пушек[107 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 21; Беспалов А. В. Указ. соч. С. 88, 89.]) двинулся в поход из Риги 15 июля в сопровождении обоза, насчитывавшего около 7–8 тыс. повозок (при этом от 3 до 3,5 тыс. солдат и офицеров оставалось в гарнизонах в Курляндии и Лифляндии[108 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 15.]: три пехотных полка и кавалерийский эскадрон под общим командованием генерала Рудольфа Функена (Функ, Rudolf Funck)). Предварительно Левенгаупт написал королю письмо с «отговоркой», что выполнить прямой приказ и выступить в начале июня невозможно из-за трудностей со сбором войск и предметов снабжения для них, а также указал, что после ухода его корпуса Курляндия и Лифляндия остаются открытыми для нападений русских.
8 июля король Карл занял Могилев и здесь дожидался приближения корпуса Левенгаупта, поскольку по расчетам на путь длиной около 700 км от Митавы до Могилева корпус должен был потратить около полутора месяцев, проходя в среднем по 15 км в сутки, то есть прибыть 25–30 августа[109 - Григорьев Б. Н. Указ. соч. С. 257.]. Однако генерал потратил месяц на путь в 230 километров, делая не по 15, а по 8–9 километров в день (в 1812 году в тех же местах 50-тысячный французский корпус маршала Луи-Николя Даву (Louis-Nicolas Davout) с большим обозом преодолел 200 км за 6 дней; нормальная скорость марша пехоты в период Северной войны считалась равной 20–25 км в сутки, а форсированная – 45–50 км)[110 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 166; Цветков С. Э. Карл XII: Беллетризованная биография. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – 474 с. – С. 229, 230.]. Две недели, начиная с 16 августа, Левенгаупт провел в Долгинове (около 90 км к северу от Минска, причем в это же время колонна его корпуса под командованием генерала Стакельберга достигла Березины Пацовой, первоначально назначенной королем Карлом для соединения корпуса со шведской армией) якобы из-за починки тележных колес, которые по его же упущению не позаботились заблаговременно укрепить («оковать») железными шинами, а когда к нему здесь присоединился шедший из Ревеля Лифляндский вербованный драгунский полк Шлиппенбаха, дал ему еще неделю на отдых (шефом полка был генерал Вольмар Антон Шлиппенбах, находившийся в это время при главной шведской армии, поэтому частью командовал подполковник Арвид Юхан Каульбарс (Arvid Johan Kaulbars). – П. Б.). Впоследствии генерал объяснял задержку продвижения какими-то беспорядками среди солдат[111 - Цветков С. Э. Указ. соч. С. 230.].
В действительности, во-первых, первоначальная численность телег и повозок в обозе корпуса не должна была превышать 4,5 тыс. единиц, поскольку допускалось иметь 1300 повозок с полуторамесячным запасом для главных сил шведской армии и не более 150–200 повозок с трехмесячным запасом предметов снабжения для каждого из полков[112 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 19.] (каждая из восьми рот любого пехотного полка должна была иметь всего 10 провиантских фургонов с 40 упряжными лошадьми и неприкосновенным запасом провианта на три месяца). Однако на деле общее количество повозок оказалось в 1,5–2 раза большим как из-за того, что солдаты и офицеры взяли с собой личный транспорт (например, прапорщик Роберт Петре указывает, что Хельсингский пехотный полк имел по 15 повозок на роту, а также от одной-двух до четырех повозок на каждого офицера полка, всего 135 повозок и 594 лошади; для сравнения – личный багаж короля Карла XII занимал всего две повозки[113 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 130.]), так и потому что в пути к корпусу присоединились многочисленные торговцы и маркитанты, продававшие солдатам и офицерам алкоголь и табак, а также проститутки («нанятые на стороне распутницы»). Кроме этого, вместе с частями корпуса двигались стада скота и табуны лошадей (тот же прапорщик Петре указывает, что для обеспечения Хельсингского полка в походе им было реквизировано у крестьян и доставлено к месту расквартирования полка 1230 голов рогатого скота, 75 лошадей и стадо телят).
Соответственно, во-вторых, корпус на марше оказался рассредоточен в полосе до 100 километров по протяженности и ширине, двигаясь двумя растянутыми колоннами (одной из колонн командовал сам Левенгаупт, а другой – генерал Стакельберг), чтобы обеспечить наиболее выгодные условия для проведения реквизиций («контрибуций») продовольствия и фуража у местного населения (как свидетельствует Роберт Петре, поисковые партии Хельсингского полка рассылались для сбора «контрибуции» в стороны на 12–15 миль от основной колонны, благодаря чему он с отрядом солдат однажды нашел в лесу и отнял у местных крестьян 248 голов крупного рогатого скота, 270 овец и 62 лошади; по информации лейтенанта Уппландского полка Фредерика (Фридриха) Вейе (Fredrik Kristian Weihe), с одного только литовского городка Вильда офицерами Уппландского полка было получено 1300 рейхсталеров деньгами, 200 локтей сукна, 280 штук воловьих шкур, 600 пар чулок и 130 пар окованных колес). Иными словами, все солдаты и офицеры корпуса выступили в поход, рассчитывая грабить по пути, поэтому и захватили дополнительные повозки (к середине августа прапорщик Петре, выступивший в поход в июле с четырьмя лошадьми, имел их уже двенадцать голов), но командующий корпусом этому не препятствовал, как не препятствовал и присоединению к корпусу «нестроевого элемента».
Однако, как следствие из сложившейся ситуации, Левенгаупт стал терять контроль над командованием и личным составом корпуса. Левенгаупт отмечает, что каждый полковник или командующий офицер начал постепенно желать быть сам себе командиром, коль скоро он отходил в сторону, отдыхал и потом вновь самовольно двигался; каждый самовольно брал все, что находил; не избежали и грабежей, так что крестьяне убегали со всем имуществом в леса. Каждый полк старался быть первым и большей частью оставлял после себя все разграбленным и разрушенным, так что те, кто приходил после них, ничего не находили для людей или лошадей. Генерал-майор Стакельберг сам был одним из тех, кто всегда шел на пять, шесть и более миль впереди всех остальных полков и везде захватывал самое лучшее с помощью конной роты из своих солдат, устроенной для этой цели.
Учитывая сложившуюся ситуацию, генерал Левенгаупт периодически нуждался во времени для сбора частей и укрепления дисциплины в своем корпусе, который к тому же на 2/3 состоял из военнослужащих финского и прибалтийского происхождения[114 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 78.]. Как показали последующие события, это ему мало удалось. По мнению А. Констама, летаргическая медлительность Левенгаупта, проявленная при движении его корпуса с обозом на соединение с главными силами шведской армии, несправедливо считается причиной всех последующих бедствий шведов, поскольку такая оценка не учитывает все те проблемы в области снабжения корпуса, с которыми пришлось столкнуться Левенгаупту, остававшемуся хотя и надежным командиром, но лишенным харизматической привлекательности для своих солдат и офицеров[115 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 14.].
С другой стороны, в дальнейшем фельдмаршал Реншельд и другие старшие офицеры шведской армии обвиняли Левенгаупта, что он потерял время и подставил свой корпус под удар противника из-за утраты контроля над личным составом в связи с чрезмерным увлечением «контрибуциями», то есть грабежом населения. Характерно, что, по свидетельству Даниела Крмана, сам Левенгаупт в ходе бегства после битвы под Лесной потерял в обозе денег и ценностей на сумму около 60 тыс. рейнских флоринов, чем был очень удручен (Левенгаупт также указывает, что он был вынужден бросить экипаж и раздать своих обозных лошадей солдатам пехоты, чтобы никто не посмел обвинить его в пренебрежении интересами солдат ради личной выгоды). Второй по званию и должности в корпусе офицер – генерал Берндт Стакельберг (Штакельберг, Berndt Otto Stackelberg, эстляндский дворянин, в 1688–1690 гг. служил в составе шведских войск в Нидерландах, участвовал в нескольких военных кампаниях во Франции, в ходе Северной войны был в битвах и сражениях под Нарвой, Двиной, Якобштадтом, Биржами, Гемауэртгофом, Лесной и Полтавой), письменно жаловался королю Карлу XII на то, что продвижение корпуса задерживается из-за реквизиций, которым потворствует Левенгаупт. Особых последствий это не имело, кроме того, что Левенгаупт и Стакельберг вступили в затяжной конфликт между собой, вследствие чего Стакельберг под различными предлогами не выполнял или отменял распоряжения Левенгаупта, в том числе и в ходе битвы под Лесной. По мнению самого Левенгаупта, Стакельберг распространял о нем всякие слухи (например, что он специально пытался задержать марш, и только из-за боязни потерять свой пост был все-таки вынужден идти к королевской армии) и одновременно настроил против него некоторых командиров полков и многих других, так что люди стали терять уважение и повиновение.
С другой стороны, Роберт Петре рассказывает об интересном разговоре, который произошел между генералом Левенгауптом и фактическим командиром Хельсингского пехотного полка подполковником Кристианом (Хансом) Брюкнером (Christian Br?ckner) во время стоянки корпуса в Долгинове (командиру Хельсингского полка полковнику Георгу (Йоргу) Кноррингу (Georg Knorring) в начале августа удалось отпроситься домой, и он уехал обратно в Ригу). Согласно информации Петре, он был очевидцем того, как Брюкнер обвинил Левенгаупта в мздоимстве – Хельсингский полк во многих местах не мог реквизировать для себя предметы снабжения из-за того, что Левенгаупт выдавал местным зажиточным землевладельцам свидетельства об уплате «контрибуции» в пользу Уппландского пехотного полка, шефом которого являлся сам Левенгаупт, после чего от дальнейших поборов они освобождались. В ответ Левенгаупт попытался оправдаться тем, что свидетельства выдавались для защиты от дезертиров и мародеров, на что Брюкнер смело возразил, что в округе нет других мародеров, кроме тех, кого послал Его Королевское Величество Карл XII. При этом Брюкнер заметил, что он снял копии с выданных Левенгауптом свидетельств и направит их королю для проверки.
В то же время сам король Карл, не дождавшись подкреплений, 15 августа двинулся из Могилева на восток к реке Сож, а затем прямо на Смоленск, отвлекая своим движением внимание противника от разбойничающего в Белоруссии корпуса Левенгаупта (10 сентября русский отряд из 300 драгун и 500 казаков сжег Могилев, где сгорело более 1700 домов, причем заодно русские заживо сожгли в католическом монастыре 40 больных шведских солдат, оставленных в городе для лечения[116 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 34–35.]). Корпус в конце августа находился все еще в районе Долгиново, на расстоянии примерно 250 км от Могилева, и выступил оттуда только 31 августа – 1 сентября. К 11 сентября шведская армия достигла села Стариши и продвинулась еще восточнее, остановившись под Татарском, приблизительно в 70 км юго-западнее Смоленска. 29 августа и 5 сентября король посылал гонцов к Левенгаупту с требованиями поторопиться, однако, получив первый приказ, генерал простоял в Черее три дня, вновь собирая отставшие части и подразделения и обоз (по свидетельству Роберта Петре, здесь же шведские войска производили очередные реквизиции скота и фуража, поскольку окрестные земли принадлежали противникам короля Лещинского – роду литовских князей Огинских), а получив второй – неделю[117 - Цветков С. Э. Указ. соч. С. 235.] (с 8 по 15 сентября, хотя какой-то польский священник доставил Левенгаупту в Черею записку от генерала Юхана Мейерфельдта с просьбой поторопиться).
При этом, хотя по свидетельству прусского атташе при шведской армии подполковника Давида Зильтмана шведское командование уже 3 сентября получило от русских дезертиров информацию о приготовлениях противника к нападению на корпус Левенгаупта, в шведской армии под Старишами почти окончились запасы продовольствия и фуража – хлеба солдатам не выдавали три недели[118 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 34; Гилленкрок А. Указ. соч. С. 46.]. После совещания с высшим руководящим составом – Реншельдом, Пипером, Мейерфельдтом и Гилленкроком, 14 сентября король направил известие Левенгаупту о перемене операционного направления, приказав идти вслед через Пропойск или другим маршрутом прямо к Стародубу, а 15 сентября шведская армия выступила в Северскую землю (первым до рассвета 15 сентября двинулся авангард в составе 2 тыс. солдат и офицеров пехоты и 1 тыс. драгун при 6 орудиях под общим командованием генерала Андерса Лагеркруны, который в итоге заблудился и не решил поставленной перед ним задачи по овладению районом Мглин, Почеп, Стародуб, что позволило бы шведам контролировать Северскую землю Украины). Поскольку к 15 сентября курляндский корпус находился на расстоянии всего около 90–95 км от района Стариши, Татарск, и 30–35 км западнее Днепра, то А. Констам отмечает, что, долго ожидая войска Левенгаупта, Карл XII в итоге так и не нашел времени их дождаться[119 - Konstam A. Poltava 1709. Russia comes of age. P. 45, 52.].
По мнению В. Артамонова, роковой шаг к пропасти, обусловивший конечное поражение шведской армии во всей кампании, был сделан Карлом XII ночью 14 сентября, причем существует версия, что на это решение повлияло ложное сообщение, будто бы корпус Левенгаупта уже переправился через Днепр[120 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 37–38.]. Послания от короля прибыли только 16 и 17 сентября, хотя курьеры утверждали, что в пути они были сутки. Это дало основания Левенгаупту впоследствии утверждать, что фельдмаршал Реншельд специально задержал отправку почты, а задержка привела его к неверному решению продолжать путь корпуса с обозом по прежнему маршруту[121 - В кн.: Григорьев Б. Н. Указ. соч. С. 271.]. С другой стороны, по информации Гилленкрока, курьер, посланный к Левенгаупту с картой, где был проложен новый маршрут для корпуса, ни с чем вернулся 19 сентября в Кричев (куда пришли 18 сентября главные силы шведской армии), поскольку вражеские войска перекрыли все промежуточные дороги[122 - Гилленкрок А. Указ. соч. С. 47.].
Получив информацию («от одного еврея»), что Могилев сожжен русскими, а район между Череей и Могилевом опустошен, Левенгаупт двинулся в направлении Шклова, чтобы там переправиться через Днепр выше по течению. Ответ Левенгаупта королю с уверениями, что он выполнит полученный приказ, хотя, вероятнее всего, будет при этом атакован большими и лучшими силами противника, один из присланных курьеров доставил обратно Карлу XII тогда, когда шведская армия уже переправилась через реку Сож.
В то же время царь Петр еще 10 сентября узнал от шпионов («шпиков») о приближении крупного шведского отряда с обозом и решил его уничтожить (хотя замысел напасть на корпус Левенгаупта появился еще на военном совете в Мстиславле 1 сентября 1708 года[123 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 33–34.]). На военном совете русского командования, состоявшемся 13–14 сентября 1708 года в деревне Соболево в 35 км к югу от Смоленска, было запланировано провести для этого специальную операцию. Поскольку информация о численности шведов оказалась неточной – по показаниям перебежчиков царю передали, что противник насчитывает около 8 тыс. человек[124 - Тарле Е. В. Указ. соч. С. 249.], то для данной операции был сформирован сравнительно небольшой корпус, или так называемый «летучий корволант» (фр. «corpus volant», «летучий корпус», названный так из-за своей повышенной подвижности, поскольку солдаты пехотных частей, включенных в корпус, а также артиллеристы передвигались верхом на лошадях, как и драгуны; в армии Петра I первый опыт создания основы для такого объединения имел место летом-осенью 1707 года, когда подполковник Преображенского полка Марк Кирхен получил приказ царя отправить некоторые подразделения в Польшу конным порядком[125 - Молтусов В. А. Указ. соч. С. 103.] (Mark Kirchen, по свидетельству Мартина Нейгебауэра, за какую-то провинность царь Петр однажды лично избил его и плюнул в лицо. – П. Б.)).
В состав корпуса вошли 10 батальонов пехоты (по 3 батальона Лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков (1556 и 1664 чел.), 3 батальона Ингерманландского и один батальон Астраханского полков (1610 и 319 чел.) – 5149 солдат и офицеров, а также гренадерские роты Преображенского, Ингерманландского, Нижегородского и Ростовского полков и Лейб-регимента – около 500–600 военнослужащих) – 5700 солдат и офицеров, 9 драгунских полков (Владимирский, Вятский, Невский, Нижегородский, Ростовский, Сибирский, Смоленский, Тверской, Троицкий полки) и 3 отдельных эскадрона Лейб-регимента князя Меншикова – 7792 солдата и офицера, а также 900–1300 казаков, всего около 14,5 тыс. человек, при 19 трехфунтовых и 11 двухфунтовых полковых орудиях[126 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 45, 82; Беспалов А. В. Указ. соч. С. 68, 69, 78.].
По поводу численности «корволанта» генерал Левенгаупт отмечает, что в десяти батальонах четырех указанных выше элитных русских полков насчитывалось не менее 9 тыс. солдат и офицеров, что вместе с драгунами и казаками позволяет оценить общую численность «корволанта» в размере не менее 17–18 тыс. человек. В связи с этим интересна информация В. Артамонова, что, согласно показаниям русских пленных, взятых шведами под Лесной, в ходе непрерывной погони за корпусом Левенгаупта очень много лошадей пало или вышло из строя, в частности, в Преображенском полку таких было 278 голов[127 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 51.]. Поэтому, даже учитывая наличие запасных лошадей, численность «корволанта» должна была уменьшиться из-за оставшихся пешими и отставших солдат и офицеров. Вместе с тем русское командование изначально предполагало усилить «корволант» кавалерийским отрядом генерала Бауэра из 8 драгунских полков (около 5000 солдат и офицеров и 1200 казаков), располагавшимся в районе Кричева, а также пехотной дивизией генерала Николаса Вердена из 8 пехотных полков (около 7300 солдат и офицеров Каргопольского, Киевского, Копорского, Нарвского, Новгородского, Пермского, Устюжского и Ямбургского полков), сосредоточенных под Моготово, к югу от Смоленска[128 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 68, 69; Тарле Е. В. Указ. соч. С. 204, 251.]. Учитывая соединение «корволанта» с отрядом генерала Бауэра, большинство современных событиям периодических изданий в Европе определяли численность шведов под Лесной в количестве 14 тыс. солдат и офицеров, а русских – 24 тыс.[129 - В кн.: Артамонов В. А. Указ. соч. С. 87.], что является, вероятно, наиболее достоверной оценкой.
Установление местонахождения шведского корпуса производилось генералом Бауэром, который с 11 сентября активно высылал для этого крупные поисковые отряды из драгун и казаков. При этом Бауэр полагал, что король Карл двинется навстречу Левенгаупту, поэтому предлагал царю немедленно придать его кавалерийскому корпусу несколько пехотных полков, с которыми он всеми силами нападет на корпус Левенгаупта, уничтожит его обоз и угонит стада скота, лишив тем самым главную армию шведов возможности продолжать продвижение к Смоленску[130 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 35–36.]. Однако царь оставил главные силы пехоты под командованием фельдмаршала Шереметева, приказав ему 15 сентября двигаться вслед за шведской армией в направлении Кричева.
Левенгаупт, выполняя приказ короля двигаться на Пропойск (Славгород), 21–22 сентября переправился по понтонному мосту на восточный берег Днепра у Шклова, причем предварительно якобы подослал прямо в русский «корволант» в качестве проводника своего агента, который дезинформировал противника о времени и месте шведской переправы[131 - Беспалов А. В. Указ. соч. С. 70.]. Поэтому «корволант» двинулся к Орше (до этого уже сожженной русскими) и начал переправляться через Днепр, оказавшись на 30 км севернее шведов. Только показания местных жителей – мелкого дворянина (шляхтича) по фамилии Петрокович, который видел переправу шведов и стал новым проводником для «корволанта», позволили русскому командованию определить приблизительное местонахождение и направление движения шведского корпуса и организовать преследование. Вся эта ситуация известна только по русским источникам – из так называемой «Гистории Свейской войны», крайне тенденциозного официального труда, готовившегося уже после окончания войны под редакцией самого царя с целью прославления воинского искусства Петра I и силы русского оружия[132 - Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. С. 286.]. Соответственно, совершенно невозможно ответить на вопросы, каким образом генералу Левенгаупту и его офицерам в условиях спешного продвижения по совершенно незнакомой местности удалось найти человека, который согласился выполнить самоубийственное задание, поскольку его обман все равно должен был раскрыться, а наказанием за это была смерть – шведского «агента» повесили по приказу царя. Согласно В. Артамонову, в некоторых случаях агентам приходилось вести разведывательную деятельность из страха за судьбу родных и близких, взятых в заложники, но в большинстве случаев шпионами с обеих сторон выступали местные коммерсанты из еврейских общин и местечек, которые имели обширные связи и хорошо знали местность, причем они передавали как достоверные данные, так и неверные и прямо дезинформирующие сведения[133 - Артамонов В. А. Указ. соч. С. 29–30, 48–49.]. Например, Левенгаупт говорит в своих воспоминаниях, что 20 сентября к нему прибыл еврей, который добровольно сознался, что ведет разведку по заданию самого царя Петра и Меншикова, причем сообщил, что русские концентрируют свои силы в Чаусах, Горках и Романове, в непосредственной близости от Шклова.