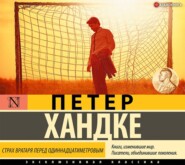По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Второй меч
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Второй меч
Петер Хандке
Loft. Нобелевская премия: коллекция
Петер Хандке – лауреат Нобелевской премии 2019 года, яркий представитель немецкоязычной литературы, талантливый стилист, сценарист многих известных кинофильмов, в числе которых «Небо над Берлином» и «Страх вратаря перед пенальти».
«Второй меч» – последнее на данный момент произведение Хандке, написанное сразу после получения писателем Нобелевской премии.
Громко и ясно звучит голос Хандке, и в многочисленных метафорах, едва уловимых аллюзиях угадываются отголоски мыслей и настроений автора. Что есть несправедливость и что есть месть? И в чем настоящая важность историй?
«Второй меч» – книга, как это часто бывает у Хандке, о духовном путешествии и бесконечном созерцании окружающего мира. В каждой детали Хандке отыщет поэзию, которую сложно представить. Даже самые обычные улицы Парижа, даже стук трамвайных колес на его страницах заиграют новыми, яркими красками.
Петер Хандке
Второй меч
Посвящается Раймунду Феллингеру
Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч;
Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.
Лк. 22:36-38
1. Запоздалая месть
«Так это и есть, значит, лицо мстителя!» – сказал я себе, когда в то самое утро, прежде чем отправиться в путь, глядел на себя в зеркало. Эта фраза вышла у меня совершенно беззвучно, однако же я ее четко артикулировал; я шевелил губами, выговаривая ее, исключительно четко шевелил, как будто считывал ее с моего зеркала, чтобы заучить наизусть раз и навсегда.
Подобного рода разговоры с самим собой, которые я, впрочем, так или иначе – и началось это далеко не в последние годы – иногда дни напролет вел в одиночестве, я в этот момент ощутил как нечто уникальное, только мое личное да и вообще неслыханное, в любом смысле.
Так говорило и появлялось существо человеческое, которое собиралось после долгих лет колебаний, отсрочек, а порой и забвения выйти из дома и осуществить наконец свою месть; давно пора было, пусть, может быть, на свой страх и риск, однако же, как ни крути, в интересах мира и во имя мирового закона или заодно просто – почему «просто?» – дабы припугнуть и, следовательно, разбудить общественность. Какую? Да как раз ту самую.
Вот что странно: пока я разглядывал себя в зеркале, «мстителя» в образе воплощенного покоя и высшей инстанции над всеми остальными инстанциями, – с час прямо-таки изучал, особенно оба моих глаза, у которых ни единая ресница не дрогнула, – мне разом стало тяжело на сердце, до боли, и меня погнало прочь от зеркала, прочь из дома, за калитку.
Эти мои привычные разговоры с самим собой бывали всякий раз многословны, однако при этом не только беззвучны, но иногда и совершенно бессодержательны и для других – как мне казалось – незаметны. Либо я выкрикивал их из себя, один в доме и вместе с тем – опять же, в моем воображении – один в открытом поле, от радости, от злости, как правило, без слов, один только крик, внезапный вопль. Как мститель, однако, я теперь открывал, округлял, распяливал, растягивал рот, распахивал его, оставаясь немым, следуя четкому, давно сформировавшемуся, не мной лично придуманному ритуалу, который со временем превратился в определенную ритмику перед зеркалом. Сперва появился ритм, из него теперь образовались звуки. Из меня, мстителя, исторглось пение, монотонное гудение, незамысловатая мелодия, без слов, угрожающая. От этого сердце и заболело.
«Хватит петь!» – крикнул я своему отражению. И оно тут же послушалось и прекратило свое вытье, но сердце заныло вдвое горше. Потому что теперь назад дороги нет. «Наконец-то!» (Опять крик).
Вперед, мститель, отправляйся в свой поход, один, единолично. Первый раз, лет десять назад, я утром принимал ванну – обычно-то я просто мылся под душем, – влез затем, одна нога за другой и одна рука за другой, как положено, в темно-серый, заранее аккуратно разложенный на кровати, вместе с собственноручно поглаженной белой рубашкой, костюм от «Диор». У рубашки на поясе справа вышита жирно-черная бабочка, которую я оставил на виду на палец над ремнем. Дорожную сумку, которая сама по себе тяжелее, чем ее содержимое, забросил на плечо и пошел из дома, не заперев двери, по старой привычке не запирать дом, даже если отлучался надолго.
Между тем я всего три дня назад вернулся в мое родное предместье к юго-западу от Парижа после нескольких недель бродяжничества в северной глубинке. И впервые меня потянуло домой, меня, который, после того как безвременно окончилось, чтобы не сказать резко оборвалось, мое детство, страшился любого возвращения домой или, того хуже, – на место своего рождения (да что там, замирал от ужаса – сжатие в теле вплоть до самой последней кишки со всеми отростками) – особенно возвращения туда.
И в эти два-три дня после моего позднего, но все-таки впервые в жизни не «счастливого» (держись от меня подальше, такое счастье!), скорее даже гармоничного возвращения домой я как-то прочно осознал, что вот я на своем месте, раз и навсегда. Ничто больше не поставит под сомнение мою принадлежность и привязанность к этому месту. Это была радость этому месту, неуклонная, растущая днем (и ночью) радость, и она, не то что почти три десятилетия назад, не ограничивалась домом и садом, не зависела никоим образом ни от того ни от другого, я просто радовался этому месту. «В какой степени месту? Месту в целом? Или месту особенно?» – «Этому месту».
Моей нежданной месторадости, а впоследствии чуть ли не местоблагоговению (или, если угодно, моему запоздалому местечковому патриотизму, который обычно свойствен как раз детям) способствовало еще и то, что в этой местности именно теперь объявлены были каникулы, одни из многочисленных, с годами умножившихся, и не только во Франции, это были не такие длинные, как летом, это были пасхальные каникулы, продленные именно в тот сомнительный год, когда свершилась история моей мести, поскольку от них перекинули мостик еще до первого мая.
Так отлучки, вроде моей последней, пошли на пользу этому моему месточувству, день ото дня растущему, а в решающие моменты и вовсе безграничному. Дни напролет никакого собачьего рычания за живой изгородью, при котором моя рука, писала ли она в это время слова или цифры (чек или налоговую декларацию), начинала скакать по бумаге и черкала вкривь и вкось по бумаге полосы, да еще какой толщины! Будь то чек или что угодно другое. Если и лаяла теперь собака, то где-то далеко, как по вечерам в деревне, и от этого лишь возрастали ощущение пространства и чувство дома или предвкушение возвращения домой.
В это время улицы были пусты. Не то что обычно. Кажется, я встречал в местечке и на вокзале, обычно переполненном с утра до вечера, человек двух-трех, и все больше незнакомых. Но тот или иной, с виду знакомый, кто шел, стоял, сидел (все больше сидел), казался чужим? Каким-то другим. И знакомый или незнакомый: мы все равно здоровались, одно короткое приветствие. У меня часто спрашивали дорогу, и я всегда знал, где что находится. Или почти всегда. Но именно когда какой-нибудь из местных закоулков оказывался мне неведом, туда-то больше всего и тянуло и меня, и другого.
Все эти три дня после моего возвращения домой ни разу не рокотал вертолет, которые обычно доставляют официальных гостей с военного аэродрома на плато Иль-де-Франс в долине Сены к Елисейскому дворцу и обратно. Ни разу с военного аэродрома с весенним ветром к «нам», так я непроизвольно думал теперь о себе и моих соседях, не долетали обрывки траурных маршей, с которыми в обычное время встречало французское отечество гробы с телами солдат, погибших в Африке, Афганистане или еще где-либо, когда их выгружали из государственных самолетов и помещали на почетный подиум под названием «термак»[1 - Tarmac (англ. разг.) – предангарная бетонированная площадка из термакадама или дёгтебетона. (Здесь и далее примечания переводчика.)]. Небо – все исчерченное, иссеченное виражами, исчерканное, испещренное (первые ласточки) и простреленное (у нас постреливают, а кроме того, сезонно появляются соколы и прочие когтистые) всеми возможными птицами, но при этом, опять же, никаких орлов, каждое лето одиноко нарезающих круги в зените, с одним таким я однажды, в одно беззвучное утро в самый разгар лета, столкнулся с полным ощущением, будто я совершенно один тут, на Земле, привидится же такое, апокалиптическое, жуткое: вот последняя дыра в небе, вот в ней гигантский орел нацелился на меня, и вот я, последний человек на Земле.
И возвращаясь с небес на землю, на мощеные брусчатые улочки и булыжные мостовые: кроме того, все три дня никакого громыхания мусорных баков ни свет ни заря или никакого обычного беспрерывного шумогрохота, и уж если где и зашумит, то за три квартала, еле слышно, потом ближе – за три броска камня после поворота, и теперь, спустя несколько сонных минут, мусорный бак перед домом ближайших соседей, тех самых, которые, насколько я знаю, с детства не покидали пределов этого места. И здесь тоже, как и там, далеко, никакого грохота не издает мусорный бак этих соседей, когда его опустошают, как будто он и так уже пуст, даже никакого дребезжания, только шелест, почти шуршание, как будто тайный знак; наконец, бесшумно-ставим-контейнер-на-место, спасибо нашим особенным местным мусорщикам, с которыми я иногда за компанию выпиваю в нашем баре. И дальше – снова продолжаем смотреть предрассветные сны, настраиваемся на грядущий день.
Снова и снова по жизни мне приходила в голову старинная, более или менее библейская история о человеке, которого Бог или иная высшая сила схватила за волосы и от родного дома забросила куда-то далеко, в другую страну. А вот лично мне хотелось бы, в противоположность герою этой истории, который, сдается мне, лучше бы остался на своем месте, чтобы меня вот так тоже куда-нибудь, лучше, конечно, не за волосы, какая-нибудь милостивая сверхсила перенесла по воздуху куда-нибудь? Не надо мне никуда! Никуда не хочу прочь от здесь и сейчас!
В течение трех дней накануне моего я-отправляюсь-в-путь во имя свершения мести я почти ежечасно сам себя дергал за волосы, но не для того, чтобы поднять самого себя над землей и увлечь прочь за горизонт, но для того, чтобы закрепиться, укорениться в почве обеими ногами, там, где я был, здесь и сейчас, о чудо или не чудо, я был дома. Так я дергал себя каждое утро после пробуждения за волосы, сперва левой рукой, потом – правой, дергал, трепал, сильнее и сильнее, почти драл, как будто истязал самого себя – со стороны, вероятно, так и казалось, будто я готов сам себе голову оторвать, – и ощущал это как благо, которое сверху вниз постепенно до бедра, до колен, до пальцев ног разливается по телу, тихо наполняет его, беззвучно пропитывает от часа к часу все больше новой хрупкой укорененностью на этом месте.
К этой особенности – каждые пару лет новой, всякий раз являвшейся мне как озарение, – прибавилось еще и то, что день ото дня то там, то тут какой-нибудь из домов, в пору пасхальных каникул обычно пустующих, для меня оживал. Как будто это было такое правило или даже местный закон, так мне казалось, когда я проходил мимо дюжины закрытых или опущенных ставней и оказывался перед домом, где как минимум одно, если не все окна, особенно на первом этаже, позволяли заглянуть внутрь, в гостиную и столовую. Иногда как нарочно были отдернуты занавески, и даже без накрытого стола выглядело как-то гостеприимно, вроде как добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, кто бы вы ни были! При этом все комнаты пусты, ни души. И именно это безлюдье и манило больше всего подойти ближе и пробуждало аппетит, еще какой. Немыслимо, что где-то в светлом пространстве этого дома кто-нибудь, господин или госпожа собственник или оба сразу, а то и целый клан из укромного уголка внутри наблюдают за кем-нибудь, будь то живое существо или изображение на экране. Мне всегда казалось, что за мной как будто подглядывают, но доброжелательно и любезно. Эти дома в ту пору были пусты. Вот еще секунда, и меня пригласят войти, с самой неожиданной стороны, может, на французском, немецком, арабском (как угодно, только не welcome![2 - Добро пожаловать (англ.).]). И сразу детские голоса, как будто откуда-то сверху, из крон деревьев.
И однажды, на второе или третье – и пока что последнее – утро моего возвращения домой возле одного из таких безлюдных гостеприимных домов в крошечном палисаднике, где вместо привычного газона росла трава как трава, или еще что-то там, задымилась импровизированная из железных прутьев и словно бы старинная жаровня-мангал-барбекю, два столбика дыма из двух соединенных жаровен, причем из одной дым классически вертикально и равномерно устремлялся в небо, а из другой – так же классически стлался по земле, густой темный чад, особенно вначале, когда клубами вырывался из жаровни, потому что потом, поклубившись над землей, обходными путями, опровергая допотопную историю о братоубийстве, и этот второй дым тоже вертикально устремлялся в небо, черный чад переходил в белые перьевые облачка, которые можно было спутать (почти) с тем первым дымком из жаровни-близнеца; что еще удивительнее, вот уж небывальщина, оба столба дыма встречались вверху, перед тем как сделаться взаимно-прозрачными и раствориться в воздушном пространстве, и даже еще на какое-то мгновение сопрягались, переплетались и постоянно по-новому и в иной форме и степени, в зависимости от все новых воздымлений двух жаровен внизу.
И вот гляди-ка: кто теперь вышел из якобы пустого дома и пригласил меня в сад приятно провести время, это была, в сопровождении своего мужа, на пару шагов позади, бывшая наша почтальонша, factrice, которая несколько месяцев назад вышла на пенсию, как и ее муж, тоже почтальон, facteur, который уже несколько лет как пенсионер. Я все еще храню записку, где она votre factrice Agnes[3 - Ваша почтальон Агнес (фр.).], нам, жителям этого местечка, сообщает, что она, как всегда на велосипеде, «10 июля 20… г. совершает свой последний объезд, tournеe», и однажды, когда я полагал, что потерял эту бумажку, я, который так много всего терял в этой жизни без малейшего сожаления, горевал и убивался, и – о счастье – потом, даже без всяких поисков, случайно наткнулся именно на эту записку среди кучи всякой писанины на столе. Мы снова сидели в саду втроем до самого вечера, и супруги-почтальоны рассказывали, как они, муж – из Арденн на северо-востоке Франции, жена – из горного региона на юго-западе Франции, наняты были на работу в центральное почтовое управление и направлены сюда, ближе к Парижу, в Иль-де-Франс, когда люди, что называется, от сохи, однако же крепче и выносливей, чем столичные, как раз понадобились, чтобы развозить почту на велосипеде – тогда, ясное дело, еще без мотора – в бесчисленных разросшихся городках и предместьях Большого парижского округа, они были просто созданы, чтобы жать на педали на путях-дорогах Иль-де-Франс с его региональной спецификой; велосипедисты на своем языке, в том числе во время «Тур де Франс», зовут это faux plat, «ложная равнина», едва ощутимые, но для велосипедиста еще как ощутимые, бесконечные трассы с крутым уклоном, подъемами и спусками.
Хотя до лета было еще далеко, тот день, все те три дня остались у меня в памяти как самые длинные в году: как будто ночь не решалась перешагнуть естественную границу дня и ночи и солнце, будто по волшебству, не клонилось к закату, по крайней мере, пока я был дома те три дня, один день, и еще один, и еще один. Да и ночи, такое было ощущение, вроде бы как и не темны вовсе.
И снова гляди-ка! На окнах некоторых частных домиков были опущены жалюзи, с тех пор как соседи уже лет десять назад один за другим умерли – цвет, добротная покраска нигде не облетела, – но через запущенный сад, где там и тут пышнее обыкновенного расцветали розы, тянулась бельевая веревка, сплошь увешанная исключительно детскими вещами, все больше темненькими, как прежде говорили – убогонькими.
И вот слушай: на лесных тропинках по холмам треск и скрип веток, трущихся друг о друга на ветру, как будто повторение гостеприимно открывающихся садовых калиток, дверей домов и винных погребов в нашем местечке (та жаровня была у нас не единственной).
И вот еще смотри-ка: поляна, откуда обычно на всю округу раздавалось щелканье сотен шаров для игры в петанк, теперь пустая, только на краю – один автомобиль, за рулем – мужчина, с вечно открытыми глазами, невозмутимо не сводил взгляда с поляны, обширной площадки, посыпанной гравием, со следами, оставленными после игры, нарочно для того и остановившись на этом месте, точно так же, так говорят, некие португальцы из глубинки ездят на побережье, не имея в виду ничего другого, кроме как безвылазно оставаться в машине, созерцая перед собой океан. А может, вон тот человек и в самом деле португалец, каменщик, один из тех, у кого нынче часто волосы посыпаны цементной пылью, один из моих соседей вечерами в привокзальном баре?
Так вот слушай: шум глубоко под переулком: это не может быть канализация! – но что это? откуда? – это ручей или речка, которая тысячелетиями прокладывала себе путь через нашу, пусть не такую уж и длинную, долину, от истока вверху рядом с сегодняшним замком, от Версаля до впадения в Сену, заключенная под землю больше столетия назад. Так и шумит там в глубине скрытый наш Маривель? – Да, он самый, таково его имя, и смотри, улица поворачивает, в точности следуя изгибам Маривеля. Какой особенный шум. Так шумит вода не в унитазе, не в шланге стиральной машины и не в пожарном шланге – так может шуметь только ручей. И ты скоро увидишь его воды, он явится перед тобой при свете дня, ты умоешься его водой, напьешься из него (ну ладно, пить, впрочем, лучше не надо). – Как это? – А вот смотри, колонка, литая, чугунная, в заросшем саду. Ступай к ней и качай воду! – Да она же заржавела. – Смахни ржавчину и качай, качай. – А, вот что-то появляется, скорее ил или грязь буро-коричневая. – Да ты качай, качай, дружок, знай себе качай. – Вот, гляди!
Те дни свободного времени, как же они были скоротечны, им был отпущен ощутимый срок, и острее всего я эту их мимолетность почувствовал, когда глядел с улицы в еще пустые школьные классы. Все большие окна были вымыты, полы и столы начищены и надраены. И вот она – эта картина скоротечности и определенного срока, схожая со всеми прочими местными явлениями, которым во времени положен определенный предел, никакой неопределенности. На подоконниках и вообще повсюду громоздились и возвышались, очевидно, давно накопившиеся и лишь недавно разобранные книги, атласы и прочие «учебные материалы», из закоулка позади доски мерцал глобус, и это все, вместе с чистотой оконных стекол и благоустроенностью в светлых, спокойных, застывших в ожидании классных интерьерах так на меня подействовало, что меня прямо-таки почти потянуло за школьную парту, как будто это был не я лично, а если я, то тот, прошлый, давным-давно, каким был когда-то – неужели был на самом деле? – На самом деле?
Прекрасно, срок установлен, и для этого места, и для этого, это пока они пусты и замкнуты, но вот какое ощущение: погодите, дайте время, и здесь, и там, и там, и там предстоит скоро открытие, начнется что-то новое, неопределенное, к счастью, непонятное, но только оттуда точно повеет свежим ветром.
С незапамятных времен отель, вместе с баром «Des Voyageurs», «Путешественники», находился наискосок от вокзала, теперь же там нет ни отеля, ни бара. Третий, самый верхний, этаж перестроили под однокомнатные апартаменты, их обитатели появлялись лишь как отдаленные силуэты. Зато еще оставшиеся обитатели нижних этажей были тем зримее и заметнее, не постояльцы отеля, а те, кого жизнь ли, государство ли выбросили на обочину и поселили в задних комнатах бывшей гостиницы. Когда-то прежде, в отеле, их было большинство. Но потом приток новеньких прекратился, и среди старожилов, которым соответствующее учреждение и дальше предоставляло проживание и как-то более или менее опекало, большинство умерли в следующие два десятилетия, как правило, в одном из бывших номеров отеля, за одним из окон с выбитым стеклом, заклеенным картоном или древесными панелями, незаметно для окружающего мира – я никогда еще не видал, чтобы выносили хоть один гроб (для этого хватило бы и одного носильщика) из боковой двери (в «Путешественниках» еще оставался черный ход). На такие похороны приходили только, если вообще приходили, еще оставшиеся в живых соседи по комнате или по чулану. Случалось редко, что у покойного оставалась семья, жена, брат, ребенок, и их тогда извещали о смерти родственника. Но ни разу ни одна семья не показалась на кладбище. Как будто этой смерти давно ждали, бывшая супруга, сын, а то и мать, получив печальное известие, лишь молча поднимали брови или, если им сообщали об этом по телефону, точно так же без единого слова клали трубку.
Стайка из трех или четырех последних жильцов, вместо того чтобы прятаться в своих комнатушках, располагалась, сговорившись или нет, с утра до вечера почти при любой погоде на ступеньках перед стеклянной дверью, замкнутой цепями и еще бог знает чем, бывшего бара «Путешественники». До недавнего времени они и правда напоминали какую-то кучку, один карабкался на костылях ступенька за ступенькой, другой скалил свой единственный зуб, зато огромный третий, намеренно или потому, что не мог больше ничего другого, день за днем торчал ровно у одного из платанов, откуда птицы, большие и малые, до поздней ночи гадили; ну разумеется, у каждого из них была потребность застыть без движения на одной определенной ступеньке; им шло на пользу, когда они снова и снова ощущали у себя на голове, руках, коленях то или иное птичье дерьмо; это был триумф – угадать заранее, что вот сейчас сверху снизойдет особое благословение, и подставить лоб в нужный момент куда следует. И тем четверым, вернее, вскоре уже троим, хватало их компании. Ни один не глядел на нас, прохожих, на привокзальной площади. Всякий раз, когда я, которого со временем все больше и больше так или иначе тянуло общаться, пытался приветствовать их на щербатых ступеньках, – никакого ответа, ноль реакции. Правильно: чем меньше на тебя обращают внимания, тем безопаснее твое будущее, так мне казалось.
В течение дней после моего возвращения и правда произошло превращение. И оно не могло произойти от послепасхальной синевы и зелени, ну или не только от них. Потому что ежедневно снова шел дождь, бушевали грозы, долбил град (кидался такими комьями, что в старом отеле не осталось целых окон), а потом еще сделалось пронзительно холодно. Когда я утром по пути в булочную и на рынок, на время каникул изрядно оскудевший, шел мимо бара, мне примерещилось, галлюцинация или иллюзия, будто бы заведение открыто. И в следующую секунду я оказался в компании коренных обитателей ночлежки на одной из ступенек, как будто специально для меня кто-то держал место, где-то посередине, не на самом верху и не в самом низу. Они пригласили меня какими-то непонятными звуками – не было и нужды их понимать, – зато размашистыми жестами, и одновременно я сам по себе к ним подсел. Бутылку вина, одну на всех, мне – нет, мне не ткнули ее в нос, мне ее протянули, и вот я уже безо всяких своих обычных сомнений пил из нее. Вино, я ограничился одним глотком, пилось как положено питься вину по утрам. Но до сих пор у меня остался привкус сигаретного дыма, пахнувший мне в нос из бутылочного горлышка. Не сравнить с мадлен[4 - Мадлен – сорт печенья или пирожного.] из «В поисках утраченного времени» мсье Марселя Пруста, и все же нечто такое, что длится и длится, и я этому был рад и по сей день рад. Была, кажется, такая песня, кто-то, кто бы это был, пел: «Life is very strange, and there is no time»[5 - Жизнь очень странная, а времени не существует (англ.).]? – Нет, не так: «Life is very short»[6 - Жизнь очень коротка (англ.).] – это пел Джон Леннон. Но здесь правильнее было бы strange[7 - Странный (англ.).].
Я проторчал довольно долго с этой компашкой или отрядом ландскнехтов на ступеньках запертого бара, как будто бы бар был открыт и мне в нем снова наливали, при этом ни один их трех не вовлек меня в их круг – потому что это был именно кружок. В тот день кроме меня с ними был еще кое-кто, женщина. Я знал ее, она работала в местной службе социальной помощи или что-то в этом роде и время от времени наведывалась в эти руины проверить, все ли тут путем.
В то утро и знакомая дама показалась мне изменившейся. Она не стояла над душой, с большой черной прямоугольной сумкой через плечо, как надзирающий орган над подконтрольными, но сидела среди них на их манер, так что ее можно было с ними спутать, – с места не сойдут, в сторону не двинутся, чтобы пропустить вновь пришедшего, – и курила, как они, смолила вместе с сидящими позади нее, привычными движениями, как будто всегда вот так с ними курила их сигареты. Она теперь была среди этих покосившихся фигур (их не просто ветром примяло) своей, такой своей, какой уже давно-давно не была, никогда еще не была. Ничего, кроме нереальностей, за всю ее прежнюю жизнь, одна нереальность за другой. Ясно: вот и теперь это тоже было нереально, еще нереально. Но с другой стороны, это было не просто сиюминутное мимолетное настроение, пусть даже вызванное тем, что в послепасхальные каникулы снова и снова от горизонта до горизонта открываются пространства и заполняются пробелы, или еще бог знает чем вызванное. Она, ей все равно скоро на пенсию, бросила бы уже свой кабинет, уже с утра – с сегодняшнего! А потом? Не будем думать ни о каком потом. Сейчас оно вот сейчас, и никуда больше не бежать затравленно! Никакого общества или такое, как это здесь и сейчас, это же тоже общество, и еще какое! Ведь она как раз теперь и переживает его, «я переживаю его», да еще как! И сразу, пока она поворачивала голову к нашему кругу, от одного к другому, у пока-еще-чиновницы полились слезы. Она плакала тихо, без всхлипываний, а если появлялся тихий звук, он сливался с другими звуками в нашем кругу – затяжкой сигаретой, бульканьем в бутылке, ниже порога слышимости. Плакала она, правда, и недолго, блеснули глаза за толстыми очками, это не я один заметил: один из завсегдатаев на ступеньках бывшего бара «Путешественники» протянул даме, прежде развернув со всеми церемониями, салфетку для очков, очевидно, ни разу еще не использованную, превосходящую по размерам все салфетки для очков, какие нынче в ходу, с надлежащим временным интервалом, чтобы осушить источник одной-двух слез (если еще какие-нибудь остались).
И снова я, приглашенный, засиделся там надолго, пока колокола местной церкви не прозвонили полдень, чему около десяти утра, в обычное время для погребальной мессы, предшествовали нежные скорбные удары поминального колокола, обычно всего лишь пару тонов, высоко-низко, повторяемые через отмеренные отрезки времени, которые все никак не хотят заканчиваться. Ошибусь ли я, если сочту, будто мои компаньоны на ступеньках не слышали этих звуков? Но, сдается мне, они вообще ничего не слышат и не прислушиваются ни к дребезжанию колес по швам железного моста у вокзала, ни к пригородным поездам и уж точно не прислушиваются к многоязычным повторяющимся объявлениям громкоговорителя, по какому телефону немедленно звонить в случае обнаружения подозрительного багажа, вообще в случае подозрения, ощущения опасности и определенной или неопределенной угрозы.
При этом мне приходят в голову рассказы из давно уже прошедшего девятнадцатого столетия о том, как каторжники, которых гонят по этапу на какой-нибудь богом забытый остров на восточной оконечности империи, всякий раз слышат издалека музыку, в представлении автора этой музыки даже специально сознательно вслушиваются, чтобы никогда больше не вернуться домой. С какой стати мне пришла в голову эта история? Мне казалось, среди гостеприимных обитателей обшарпанных ступенек, хозяев, которые ничего больше не слышали, зато смеялись с каждым часом все громче, наконец уже ржали во все горло, дребезжали, стонали, в один голос, хором, что они все трое, а теперь уже и четверо (к ним прибавился еще и женский голос), этим надрывным хохотом выражают это их сознательное никогда-невозвращение-домой. И это навсегда несбыточное возвращение домой (куда бы то ни было) было для них поводом посмеяться. Сюжет, надрывающий сердце. Эти на ступеньках высмеивают возвращение домой или вообще возвращение назад, высмеивают в унтертонах и в обертонах, между тем еще и жалобно, от сердца, от всей души. У них, так или иначе, уже все кончено. Так и надо? Тоже своего рода соль земли, нечто особенное, что имеет значение здесь и сейчас? Правильно ли также, что они не в костюмах, ни в красных, ни в зеленых, ни в пестрых, ни в еще какого-нибудь цвета?
За всю жизнь я лишь однажды решился на один, как мне казалось, самый значительный прорыв, один раз искал, опять же я так думал, связанного с этим существенного обновления, и всякий раз в природе. И вот теперь снова здесь и сейчас.
С любого свободного места в нашем предместье открывался вид на холмы, которые обступили горную долину почти кругом. Один из холмов, который можно обозреть из верхних окон моего дома, самый высокий в цепочке. Но это только так казалось, потому что просто ближе других. На самом деле все холмы одинаковой высоты, и вообще это и не холмы толком, а скорее изгибы долины, слева и справа окаймлявшей плато Иль-де-Франс: якобы холмы. Точно так же и якобы гребень, якобы вершины, тут еще и деревья разной высоты с более или менее одинаково раскидистыми ветвями вводят в заблуждение, очерчивая не то пограничную линию, не то ажурную сетку в небе. То, что мне из определенного окна виделось главным холмом, оказалось, стоило придвинуться поближе, кульминационной точкой плато, замаскированного, кроме того, еще и отдельно стоящими гигантскими дубами, а также низкорослыми по сравнению с ними деревьями – березами, кленами, дикими вишнями, ясенями, – которые и представляли, видимо, другие холмы, казавшиеся, возможно, еще меньше, тогда как по обе стороны от царственного дуба на выступе плато плоскогорье выгибалось аркой.
То, что столь густо поросшая лесом, уходящая к самому горизонту цепочка холмов, почти во все стороны света, на самом деле не настоящая и что вершина у нее – не вершина, я осознал лишь с годами. И все же я воспринимал и переживал это холмистое окружение и дальше таким, каким увидел в первый раз. Факты не могут развеять иллюзии. Воображение действует долго, воображаемое приобретает объем, вещественность, плоть, цвет и еще ритм. Правда ли, нет ли, это действует. Самый высокий из холмов, обрамленный оконной рамой у подножия, так и остался самым высоким холмом, и имя, которое мне захотелось дать ему изначально, невольно, в шутку, так и осталось у него на десятилетия и между тем давно срослось и со мной и во мне укоренилось – Вечный холм, Вечный холм Велизи.
В те три дня после возвращения я садился, после душа, причесанный и опрятно одетый, каждое утро у окна на втором этаже. Широко распахнуты обе створки – старое стекло иначе искажало бы, наверное, вид – и Вечный холм, не расчерченный на квадраты оконной рамой, вот он. Это было в общем-то и не разглядывание, намеренное и спланированное. Было ли это наблюдение? Боже упаси, уж точно не оно. Уж коль скоро я в жизни перешел от видения и простого глядения к чему-то вроде наблюдения, стало быть, я, и это не только в моих глазах, совершил, по крайней мере для такого неуместного человека, как я, что-то запретное. А кроме того, мне с детства недостает научного мышления и еще больше – всякого соответствующего честолюбия. Никакого «Я вижу то, чего не видишь ты!», не мое это. А мое, если оно вообще существует: заметить нечто, без всякого моего участия, так, чтобы это нечто, с его изображением, неминуемо в моем, смотри выше, воображении раз и навсегда полностью и тотчас же на этом месте унеслось куда-то в сон наяву, такой подлинный, что явнее и подлиннее я и не видал никогда.
Петер Хандке
Loft. Нобелевская премия: коллекция
Петер Хандке – лауреат Нобелевской премии 2019 года, яркий представитель немецкоязычной литературы, талантливый стилист, сценарист многих известных кинофильмов, в числе которых «Небо над Берлином» и «Страх вратаря перед пенальти».
«Второй меч» – последнее на данный момент произведение Хандке, написанное сразу после получения писателем Нобелевской премии.
Громко и ясно звучит голос Хандке, и в многочисленных метафорах, едва уловимых аллюзиях угадываются отголоски мыслей и настроений автора. Что есть несправедливость и что есть месть? И в чем настоящая важность историй?
«Второй меч» – книга, как это часто бывает у Хандке, о духовном путешествии и бесконечном созерцании окружающего мира. В каждой детали Хандке отыщет поэзию, которую сложно представить. Даже самые обычные улицы Парижа, даже стук трамвайных колес на его страницах заиграют новыми, яркими красками.
Петер Хандке
Второй меч
Посвящается Раймунду Феллингеру
Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч;
Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.
Лк. 22:36-38
1. Запоздалая месть
«Так это и есть, значит, лицо мстителя!» – сказал я себе, когда в то самое утро, прежде чем отправиться в путь, глядел на себя в зеркало. Эта фраза вышла у меня совершенно беззвучно, однако же я ее четко артикулировал; я шевелил губами, выговаривая ее, исключительно четко шевелил, как будто считывал ее с моего зеркала, чтобы заучить наизусть раз и навсегда.
Подобного рода разговоры с самим собой, которые я, впрочем, так или иначе – и началось это далеко не в последние годы – иногда дни напролет вел в одиночестве, я в этот момент ощутил как нечто уникальное, только мое личное да и вообще неслыханное, в любом смысле.
Так говорило и появлялось существо человеческое, которое собиралось после долгих лет колебаний, отсрочек, а порой и забвения выйти из дома и осуществить наконец свою месть; давно пора было, пусть, может быть, на свой страх и риск, однако же, как ни крути, в интересах мира и во имя мирового закона или заодно просто – почему «просто?» – дабы припугнуть и, следовательно, разбудить общественность. Какую? Да как раз ту самую.
Вот что странно: пока я разглядывал себя в зеркале, «мстителя» в образе воплощенного покоя и высшей инстанции над всеми остальными инстанциями, – с час прямо-таки изучал, особенно оба моих глаза, у которых ни единая ресница не дрогнула, – мне разом стало тяжело на сердце, до боли, и меня погнало прочь от зеркала, прочь из дома, за калитку.
Эти мои привычные разговоры с самим собой бывали всякий раз многословны, однако при этом не только беззвучны, но иногда и совершенно бессодержательны и для других – как мне казалось – незаметны. Либо я выкрикивал их из себя, один в доме и вместе с тем – опять же, в моем воображении – один в открытом поле, от радости, от злости, как правило, без слов, один только крик, внезапный вопль. Как мститель, однако, я теперь открывал, округлял, распяливал, растягивал рот, распахивал его, оставаясь немым, следуя четкому, давно сформировавшемуся, не мной лично придуманному ритуалу, который со временем превратился в определенную ритмику перед зеркалом. Сперва появился ритм, из него теперь образовались звуки. Из меня, мстителя, исторглось пение, монотонное гудение, незамысловатая мелодия, без слов, угрожающая. От этого сердце и заболело.
«Хватит петь!» – крикнул я своему отражению. И оно тут же послушалось и прекратило свое вытье, но сердце заныло вдвое горше. Потому что теперь назад дороги нет. «Наконец-то!» (Опять крик).
Вперед, мститель, отправляйся в свой поход, один, единолично. Первый раз, лет десять назад, я утром принимал ванну – обычно-то я просто мылся под душем, – влез затем, одна нога за другой и одна рука за другой, как положено, в темно-серый, заранее аккуратно разложенный на кровати, вместе с собственноручно поглаженной белой рубашкой, костюм от «Диор». У рубашки на поясе справа вышита жирно-черная бабочка, которую я оставил на виду на палец над ремнем. Дорожную сумку, которая сама по себе тяжелее, чем ее содержимое, забросил на плечо и пошел из дома, не заперев двери, по старой привычке не запирать дом, даже если отлучался надолго.
Между тем я всего три дня назад вернулся в мое родное предместье к юго-западу от Парижа после нескольких недель бродяжничества в северной глубинке. И впервые меня потянуло домой, меня, который, после того как безвременно окончилось, чтобы не сказать резко оборвалось, мое детство, страшился любого возвращения домой или, того хуже, – на место своего рождения (да что там, замирал от ужаса – сжатие в теле вплоть до самой последней кишки со всеми отростками) – особенно возвращения туда.
И в эти два-три дня после моего позднего, но все-таки впервые в жизни не «счастливого» (держись от меня подальше, такое счастье!), скорее даже гармоничного возвращения домой я как-то прочно осознал, что вот я на своем месте, раз и навсегда. Ничто больше не поставит под сомнение мою принадлежность и привязанность к этому месту. Это была радость этому месту, неуклонная, растущая днем (и ночью) радость, и она, не то что почти три десятилетия назад, не ограничивалась домом и садом, не зависела никоим образом ни от того ни от другого, я просто радовался этому месту. «В какой степени месту? Месту в целом? Или месту особенно?» – «Этому месту».
Моей нежданной месторадости, а впоследствии чуть ли не местоблагоговению (или, если угодно, моему запоздалому местечковому патриотизму, который обычно свойствен как раз детям) способствовало еще и то, что в этой местности именно теперь объявлены были каникулы, одни из многочисленных, с годами умножившихся, и не только во Франции, это были не такие длинные, как летом, это были пасхальные каникулы, продленные именно в тот сомнительный год, когда свершилась история моей мести, поскольку от них перекинули мостик еще до первого мая.
Так отлучки, вроде моей последней, пошли на пользу этому моему месточувству, день ото дня растущему, а в решающие моменты и вовсе безграничному. Дни напролет никакого собачьего рычания за живой изгородью, при котором моя рука, писала ли она в это время слова или цифры (чек или налоговую декларацию), начинала скакать по бумаге и черкала вкривь и вкось по бумаге полосы, да еще какой толщины! Будь то чек или что угодно другое. Если и лаяла теперь собака, то где-то далеко, как по вечерам в деревне, и от этого лишь возрастали ощущение пространства и чувство дома или предвкушение возвращения домой.
В это время улицы были пусты. Не то что обычно. Кажется, я встречал в местечке и на вокзале, обычно переполненном с утра до вечера, человек двух-трех, и все больше незнакомых. Но тот или иной, с виду знакомый, кто шел, стоял, сидел (все больше сидел), казался чужим? Каким-то другим. И знакомый или незнакомый: мы все равно здоровались, одно короткое приветствие. У меня часто спрашивали дорогу, и я всегда знал, где что находится. Или почти всегда. Но именно когда какой-нибудь из местных закоулков оказывался мне неведом, туда-то больше всего и тянуло и меня, и другого.
Все эти три дня после моего возвращения домой ни разу не рокотал вертолет, которые обычно доставляют официальных гостей с военного аэродрома на плато Иль-де-Франс в долине Сены к Елисейскому дворцу и обратно. Ни разу с военного аэродрома с весенним ветром к «нам», так я непроизвольно думал теперь о себе и моих соседях, не долетали обрывки траурных маршей, с которыми в обычное время встречало французское отечество гробы с телами солдат, погибших в Африке, Афганистане или еще где-либо, когда их выгружали из государственных самолетов и помещали на почетный подиум под названием «термак»[1 - Tarmac (англ. разг.) – предангарная бетонированная площадка из термакадама или дёгтебетона. (Здесь и далее примечания переводчика.)]. Небо – все исчерченное, иссеченное виражами, исчерканное, испещренное (первые ласточки) и простреленное (у нас постреливают, а кроме того, сезонно появляются соколы и прочие когтистые) всеми возможными птицами, но при этом, опять же, никаких орлов, каждое лето одиноко нарезающих круги в зените, с одним таким я однажды, в одно беззвучное утро в самый разгар лета, столкнулся с полным ощущением, будто я совершенно один тут, на Земле, привидится же такое, апокалиптическое, жуткое: вот последняя дыра в небе, вот в ней гигантский орел нацелился на меня, и вот я, последний человек на Земле.
И возвращаясь с небес на землю, на мощеные брусчатые улочки и булыжные мостовые: кроме того, все три дня никакого громыхания мусорных баков ни свет ни заря или никакого обычного беспрерывного шумогрохота, и уж если где и зашумит, то за три квартала, еле слышно, потом ближе – за три броска камня после поворота, и теперь, спустя несколько сонных минут, мусорный бак перед домом ближайших соседей, тех самых, которые, насколько я знаю, с детства не покидали пределов этого места. И здесь тоже, как и там, далеко, никакого грохота не издает мусорный бак этих соседей, когда его опустошают, как будто он и так уже пуст, даже никакого дребезжания, только шелест, почти шуршание, как будто тайный знак; наконец, бесшумно-ставим-контейнер-на-место, спасибо нашим особенным местным мусорщикам, с которыми я иногда за компанию выпиваю в нашем баре. И дальше – снова продолжаем смотреть предрассветные сны, настраиваемся на грядущий день.
Снова и снова по жизни мне приходила в голову старинная, более или менее библейская история о человеке, которого Бог или иная высшая сила схватила за волосы и от родного дома забросила куда-то далеко, в другую страну. А вот лично мне хотелось бы, в противоположность герою этой истории, который, сдается мне, лучше бы остался на своем месте, чтобы меня вот так тоже куда-нибудь, лучше, конечно, не за волосы, какая-нибудь милостивая сверхсила перенесла по воздуху куда-нибудь? Не надо мне никуда! Никуда не хочу прочь от здесь и сейчас!
В течение трех дней накануне моего я-отправляюсь-в-путь во имя свершения мести я почти ежечасно сам себя дергал за волосы, но не для того, чтобы поднять самого себя над землей и увлечь прочь за горизонт, но для того, чтобы закрепиться, укорениться в почве обеими ногами, там, где я был, здесь и сейчас, о чудо или не чудо, я был дома. Так я дергал себя каждое утро после пробуждения за волосы, сперва левой рукой, потом – правой, дергал, трепал, сильнее и сильнее, почти драл, как будто истязал самого себя – со стороны, вероятно, так и казалось, будто я готов сам себе голову оторвать, – и ощущал это как благо, которое сверху вниз постепенно до бедра, до колен, до пальцев ног разливается по телу, тихо наполняет его, беззвучно пропитывает от часа к часу все больше новой хрупкой укорененностью на этом месте.
К этой особенности – каждые пару лет новой, всякий раз являвшейся мне как озарение, – прибавилось еще и то, что день ото дня то там, то тут какой-нибудь из домов, в пору пасхальных каникул обычно пустующих, для меня оживал. Как будто это было такое правило или даже местный закон, так мне казалось, когда я проходил мимо дюжины закрытых или опущенных ставней и оказывался перед домом, где как минимум одно, если не все окна, особенно на первом этаже, позволяли заглянуть внутрь, в гостиную и столовую. Иногда как нарочно были отдернуты занавески, и даже без накрытого стола выглядело как-то гостеприимно, вроде как добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, кто бы вы ни были! При этом все комнаты пусты, ни души. И именно это безлюдье и манило больше всего подойти ближе и пробуждало аппетит, еще какой. Немыслимо, что где-то в светлом пространстве этого дома кто-нибудь, господин или госпожа собственник или оба сразу, а то и целый клан из укромного уголка внутри наблюдают за кем-нибудь, будь то живое существо или изображение на экране. Мне всегда казалось, что за мной как будто подглядывают, но доброжелательно и любезно. Эти дома в ту пору были пусты. Вот еще секунда, и меня пригласят войти, с самой неожиданной стороны, может, на французском, немецком, арабском (как угодно, только не welcome![2 - Добро пожаловать (англ.).]). И сразу детские голоса, как будто откуда-то сверху, из крон деревьев.
И однажды, на второе или третье – и пока что последнее – утро моего возвращения домой возле одного из таких безлюдных гостеприимных домов в крошечном палисаднике, где вместо привычного газона росла трава как трава, или еще что-то там, задымилась импровизированная из железных прутьев и словно бы старинная жаровня-мангал-барбекю, два столбика дыма из двух соединенных жаровен, причем из одной дым классически вертикально и равномерно устремлялся в небо, а из другой – так же классически стлался по земле, густой темный чад, особенно вначале, когда клубами вырывался из жаровни, потому что потом, поклубившись над землей, обходными путями, опровергая допотопную историю о братоубийстве, и этот второй дым тоже вертикально устремлялся в небо, черный чад переходил в белые перьевые облачка, которые можно было спутать (почти) с тем первым дымком из жаровни-близнеца; что еще удивительнее, вот уж небывальщина, оба столба дыма встречались вверху, перед тем как сделаться взаимно-прозрачными и раствориться в воздушном пространстве, и даже еще на какое-то мгновение сопрягались, переплетались и постоянно по-новому и в иной форме и степени, в зависимости от все новых воздымлений двух жаровен внизу.
И вот гляди-ка: кто теперь вышел из якобы пустого дома и пригласил меня в сад приятно провести время, это была, в сопровождении своего мужа, на пару шагов позади, бывшая наша почтальонша, factrice, которая несколько месяцев назад вышла на пенсию, как и ее муж, тоже почтальон, facteur, который уже несколько лет как пенсионер. Я все еще храню записку, где она votre factrice Agnes[3 - Ваша почтальон Агнес (фр.).], нам, жителям этого местечка, сообщает, что она, как всегда на велосипеде, «10 июля 20… г. совершает свой последний объезд, tournеe», и однажды, когда я полагал, что потерял эту бумажку, я, который так много всего терял в этой жизни без малейшего сожаления, горевал и убивался, и – о счастье – потом, даже без всяких поисков, случайно наткнулся именно на эту записку среди кучи всякой писанины на столе. Мы снова сидели в саду втроем до самого вечера, и супруги-почтальоны рассказывали, как они, муж – из Арденн на северо-востоке Франции, жена – из горного региона на юго-западе Франции, наняты были на работу в центральное почтовое управление и направлены сюда, ближе к Парижу, в Иль-де-Франс, когда люди, что называется, от сохи, однако же крепче и выносливей, чем столичные, как раз понадобились, чтобы развозить почту на велосипеде – тогда, ясное дело, еще без мотора – в бесчисленных разросшихся городках и предместьях Большого парижского округа, они были просто созданы, чтобы жать на педали на путях-дорогах Иль-де-Франс с его региональной спецификой; велосипедисты на своем языке, в том числе во время «Тур де Франс», зовут это faux plat, «ложная равнина», едва ощутимые, но для велосипедиста еще как ощутимые, бесконечные трассы с крутым уклоном, подъемами и спусками.
Хотя до лета было еще далеко, тот день, все те три дня остались у меня в памяти как самые длинные в году: как будто ночь не решалась перешагнуть естественную границу дня и ночи и солнце, будто по волшебству, не клонилось к закату, по крайней мере, пока я был дома те три дня, один день, и еще один, и еще один. Да и ночи, такое было ощущение, вроде бы как и не темны вовсе.
И снова гляди-ка! На окнах некоторых частных домиков были опущены жалюзи, с тех пор как соседи уже лет десять назад один за другим умерли – цвет, добротная покраска нигде не облетела, – но через запущенный сад, где там и тут пышнее обыкновенного расцветали розы, тянулась бельевая веревка, сплошь увешанная исключительно детскими вещами, все больше темненькими, как прежде говорили – убогонькими.
И вот слушай: на лесных тропинках по холмам треск и скрип веток, трущихся друг о друга на ветру, как будто повторение гостеприимно открывающихся садовых калиток, дверей домов и винных погребов в нашем местечке (та жаровня была у нас не единственной).
И вот еще смотри-ка: поляна, откуда обычно на всю округу раздавалось щелканье сотен шаров для игры в петанк, теперь пустая, только на краю – один автомобиль, за рулем – мужчина, с вечно открытыми глазами, невозмутимо не сводил взгляда с поляны, обширной площадки, посыпанной гравием, со следами, оставленными после игры, нарочно для того и остановившись на этом месте, точно так же, так говорят, некие португальцы из глубинки ездят на побережье, не имея в виду ничего другого, кроме как безвылазно оставаться в машине, созерцая перед собой океан. А может, вон тот человек и в самом деле португалец, каменщик, один из тех, у кого нынче часто волосы посыпаны цементной пылью, один из моих соседей вечерами в привокзальном баре?
Так вот слушай: шум глубоко под переулком: это не может быть канализация! – но что это? откуда? – это ручей или речка, которая тысячелетиями прокладывала себе путь через нашу, пусть не такую уж и длинную, долину, от истока вверху рядом с сегодняшним замком, от Версаля до впадения в Сену, заключенная под землю больше столетия назад. Так и шумит там в глубине скрытый наш Маривель? – Да, он самый, таково его имя, и смотри, улица поворачивает, в точности следуя изгибам Маривеля. Какой особенный шум. Так шумит вода не в унитазе, не в шланге стиральной машины и не в пожарном шланге – так может шуметь только ручей. И ты скоро увидишь его воды, он явится перед тобой при свете дня, ты умоешься его водой, напьешься из него (ну ладно, пить, впрочем, лучше не надо). – Как это? – А вот смотри, колонка, литая, чугунная, в заросшем саду. Ступай к ней и качай воду! – Да она же заржавела. – Смахни ржавчину и качай, качай. – А, вот что-то появляется, скорее ил или грязь буро-коричневая. – Да ты качай, качай, дружок, знай себе качай. – Вот, гляди!
Те дни свободного времени, как же они были скоротечны, им был отпущен ощутимый срок, и острее всего я эту их мимолетность почувствовал, когда глядел с улицы в еще пустые школьные классы. Все большие окна были вымыты, полы и столы начищены и надраены. И вот она – эта картина скоротечности и определенного срока, схожая со всеми прочими местными явлениями, которым во времени положен определенный предел, никакой неопределенности. На подоконниках и вообще повсюду громоздились и возвышались, очевидно, давно накопившиеся и лишь недавно разобранные книги, атласы и прочие «учебные материалы», из закоулка позади доски мерцал глобус, и это все, вместе с чистотой оконных стекол и благоустроенностью в светлых, спокойных, застывших в ожидании классных интерьерах так на меня подействовало, что меня прямо-таки почти потянуло за школьную парту, как будто это был не я лично, а если я, то тот, прошлый, давным-давно, каким был когда-то – неужели был на самом деле? – На самом деле?
Прекрасно, срок установлен, и для этого места, и для этого, это пока они пусты и замкнуты, но вот какое ощущение: погодите, дайте время, и здесь, и там, и там, и там предстоит скоро открытие, начнется что-то новое, неопределенное, к счастью, непонятное, но только оттуда точно повеет свежим ветром.
С незапамятных времен отель, вместе с баром «Des Voyageurs», «Путешественники», находился наискосок от вокзала, теперь же там нет ни отеля, ни бара. Третий, самый верхний, этаж перестроили под однокомнатные апартаменты, их обитатели появлялись лишь как отдаленные силуэты. Зато еще оставшиеся обитатели нижних этажей были тем зримее и заметнее, не постояльцы отеля, а те, кого жизнь ли, государство ли выбросили на обочину и поселили в задних комнатах бывшей гостиницы. Когда-то прежде, в отеле, их было большинство. Но потом приток новеньких прекратился, и среди старожилов, которым соответствующее учреждение и дальше предоставляло проживание и как-то более или менее опекало, большинство умерли в следующие два десятилетия, как правило, в одном из бывших номеров отеля, за одним из окон с выбитым стеклом, заклеенным картоном или древесными панелями, незаметно для окружающего мира – я никогда еще не видал, чтобы выносили хоть один гроб (для этого хватило бы и одного носильщика) из боковой двери (в «Путешественниках» еще оставался черный ход). На такие похороны приходили только, если вообще приходили, еще оставшиеся в живых соседи по комнате или по чулану. Случалось редко, что у покойного оставалась семья, жена, брат, ребенок, и их тогда извещали о смерти родственника. Но ни разу ни одна семья не показалась на кладбище. Как будто этой смерти давно ждали, бывшая супруга, сын, а то и мать, получив печальное известие, лишь молча поднимали брови или, если им сообщали об этом по телефону, точно так же без единого слова клали трубку.
Стайка из трех или четырех последних жильцов, вместо того чтобы прятаться в своих комнатушках, располагалась, сговорившись или нет, с утра до вечера почти при любой погоде на ступеньках перед стеклянной дверью, замкнутой цепями и еще бог знает чем, бывшего бара «Путешественники». До недавнего времени они и правда напоминали какую-то кучку, один карабкался на костылях ступенька за ступенькой, другой скалил свой единственный зуб, зато огромный третий, намеренно или потому, что не мог больше ничего другого, день за днем торчал ровно у одного из платанов, откуда птицы, большие и малые, до поздней ночи гадили; ну разумеется, у каждого из них была потребность застыть без движения на одной определенной ступеньке; им шло на пользу, когда они снова и снова ощущали у себя на голове, руках, коленях то или иное птичье дерьмо; это был триумф – угадать заранее, что вот сейчас сверху снизойдет особое благословение, и подставить лоб в нужный момент куда следует. И тем четверым, вернее, вскоре уже троим, хватало их компании. Ни один не глядел на нас, прохожих, на привокзальной площади. Всякий раз, когда я, которого со временем все больше и больше так или иначе тянуло общаться, пытался приветствовать их на щербатых ступеньках, – никакого ответа, ноль реакции. Правильно: чем меньше на тебя обращают внимания, тем безопаснее твое будущее, так мне казалось.
В течение дней после моего возвращения и правда произошло превращение. И оно не могло произойти от послепасхальной синевы и зелени, ну или не только от них. Потому что ежедневно снова шел дождь, бушевали грозы, долбил град (кидался такими комьями, что в старом отеле не осталось целых окон), а потом еще сделалось пронзительно холодно. Когда я утром по пути в булочную и на рынок, на время каникул изрядно оскудевший, шел мимо бара, мне примерещилось, галлюцинация или иллюзия, будто бы заведение открыто. И в следующую секунду я оказался в компании коренных обитателей ночлежки на одной из ступенек, как будто специально для меня кто-то держал место, где-то посередине, не на самом верху и не в самом низу. Они пригласили меня какими-то непонятными звуками – не было и нужды их понимать, – зато размашистыми жестами, и одновременно я сам по себе к ним подсел. Бутылку вина, одну на всех, мне – нет, мне не ткнули ее в нос, мне ее протянули, и вот я уже безо всяких своих обычных сомнений пил из нее. Вино, я ограничился одним глотком, пилось как положено питься вину по утрам. Но до сих пор у меня остался привкус сигаретного дыма, пахнувший мне в нос из бутылочного горлышка. Не сравнить с мадлен[4 - Мадлен – сорт печенья или пирожного.] из «В поисках утраченного времени» мсье Марселя Пруста, и все же нечто такое, что длится и длится, и я этому был рад и по сей день рад. Была, кажется, такая песня, кто-то, кто бы это был, пел: «Life is very strange, and there is no time»[5 - Жизнь очень странная, а времени не существует (англ.).]? – Нет, не так: «Life is very short»[6 - Жизнь очень коротка (англ.).] – это пел Джон Леннон. Но здесь правильнее было бы strange[7 - Странный (англ.).].
Я проторчал довольно долго с этой компашкой или отрядом ландскнехтов на ступеньках запертого бара, как будто бы бар был открыт и мне в нем снова наливали, при этом ни один их трех не вовлек меня в их круг – потому что это был именно кружок. В тот день кроме меня с ними был еще кое-кто, женщина. Я знал ее, она работала в местной службе социальной помощи или что-то в этом роде и время от времени наведывалась в эти руины проверить, все ли тут путем.
В то утро и знакомая дама показалась мне изменившейся. Она не стояла над душой, с большой черной прямоугольной сумкой через плечо, как надзирающий орган над подконтрольными, но сидела среди них на их манер, так что ее можно было с ними спутать, – с места не сойдут, в сторону не двинутся, чтобы пропустить вновь пришедшего, – и курила, как они, смолила вместе с сидящими позади нее, привычными движениями, как будто всегда вот так с ними курила их сигареты. Она теперь была среди этих покосившихся фигур (их не просто ветром примяло) своей, такой своей, какой уже давно-давно не была, никогда еще не была. Ничего, кроме нереальностей, за всю ее прежнюю жизнь, одна нереальность за другой. Ясно: вот и теперь это тоже было нереально, еще нереально. Но с другой стороны, это было не просто сиюминутное мимолетное настроение, пусть даже вызванное тем, что в послепасхальные каникулы снова и снова от горизонта до горизонта открываются пространства и заполняются пробелы, или еще бог знает чем вызванное. Она, ей все равно скоро на пенсию, бросила бы уже свой кабинет, уже с утра – с сегодняшнего! А потом? Не будем думать ни о каком потом. Сейчас оно вот сейчас, и никуда больше не бежать затравленно! Никакого общества или такое, как это здесь и сейчас, это же тоже общество, и еще какое! Ведь она как раз теперь и переживает его, «я переживаю его», да еще как! И сразу, пока она поворачивала голову к нашему кругу, от одного к другому, у пока-еще-чиновницы полились слезы. Она плакала тихо, без всхлипываний, а если появлялся тихий звук, он сливался с другими звуками в нашем кругу – затяжкой сигаретой, бульканьем в бутылке, ниже порога слышимости. Плакала она, правда, и недолго, блеснули глаза за толстыми очками, это не я один заметил: один из завсегдатаев на ступеньках бывшего бара «Путешественники» протянул даме, прежде развернув со всеми церемониями, салфетку для очков, очевидно, ни разу еще не использованную, превосходящую по размерам все салфетки для очков, какие нынче в ходу, с надлежащим временным интервалом, чтобы осушить источник одной-двух слез (если еще какие-нибудь остались).
И снова я, приглашенный, засиделся там надолго, пока колокола местной церкви не прозвонили полдень, чему около десяти утра, в обычное время для погребальной мессы, предшествовали нежные скорбные удары поминального колокола, обычно всего лишь пару тонов, высоко-низко, повторяемые через отмеренные отрезки времени, которые все никак не хотят заканчиваться. Ошибусь ли я, если сочту, будто мои компаньоны на ступеньках не слышали этих звуков? Но, сдается мне, они вообще ничего не слышат и не прислушиваются ни к дребезжанию колес по швам железного моста у вокзала, ни к пригородным поездам и уж точно не прислушиваются к многоязычным повторяющимся объявлениям громкоговорителя, по какому телефону немедленно звонить в случае обнаружения подозрительного багажа, вообще в случае подозрения, ощущения опасности и определенной или неопределенной угрозы.
При этом мне приходят в голову рассказы из давно уже прошедшего девятнадцатого столетия о том, как каторжники, которых гонят по этапу на какой-нибудь богом забытый остров на восточной оконечности империи, всякий раз слышат издалека музыку, в представлении автора этой музыки даже специально сознательно вслушиваются, чтобы никогда больше не вернуться домой. С какой стати мне пришла в голову эта история? Мне казалось, среди гостеприимных обитателей обшарпанных ступенек, хозяев, которые ничего больше не слышали, зато смеялись с каждым часом все громче, наконец уже ржали во все горло, дребезжали, стонали, в один голос, хором, что они все трое, а теперь уже и четверо (к ним прибавился еще и женский голос), этим надрывным хохотом выражают это их сознательное никогда-невозвращение-домой. И это навсегда несбыточное возвращение домой (куда бы то ни было) было для них поводом посмеяться. Сюжет, надрывающий сердце. Эти на ступеньках высмеивают возвращение домой или вообще возвращение назад, высмеивают в унтертонах и в обертонах, между тем еще и жалобно, от сердца, от всей души. У них, так или иначе, уже все кончено. Так и надо? Тоже своего рода соль земли, нечто особенное, что имеет значение здесь и сейчас? Правильно ли также, что они не в костюмах, ни в красных, ни в зеленых, ни в пестрых, ни в еще какого-нибудь цвета?
За всю жизнь я лишь однажды решился на один, как мне казалось, самый значительный прорыв, один раз искал, опять же я так думал, связанного с этим существенного обновления, и всякий раз в природе. И вот теперь снова здесь и сейчас.
С любого свободного места в нашем предместье открывался вид на холмы, которые обступили горную долину почти кругом. Один из холмов, который можно обозреть из верхних окон моего дома, самый высокий в цепочке. Но это только так казалось, потому что просто ближе других. На самом деле все холмы одинаковой высоты, и вообще это и не холмы толком, а скорее изгибы долины, слева и справа окаймлявшей плато Иль-де-Франс: якобы холмы. Точно так же и якобы гребень, якобы вершины, тут еще и деревья разной высоты с более или менее одинаково раскидистыми ветвями вводят в заблуждение, очерчивая не то пограничную линию, не то ажурную сетку в небе. То, что мне из определенного окна виделось главным холмом, оказалось, стоило придвинуться поближе, кульминационной точкой плато, замаскированного, кроме того, еще и отдельно стоящими гигантскими дубами, а также низкорослыми по сравнению с ними деревьями – березами, кленами, дикими вишнями, ясенями, – которые и представляли, видимо, другие холмы, казавшиеся, возможно, еще меньше, тогда как по обе стороны от царственного дуба на выступе плато плоскогорье выгибалось аркой.
То, что столь густо поросшая лесом, уходящая к самому горизонту цепочка холмов, почти во все стороны света, на самом деле не настоящая и что вершина у нее – не вершина, я осознал лишь с годами. И все же я воспринимал и переживал это холмистое окружение и дальше таким, каким увидел в первый раз. Факты не могут развеять иллюзии. Воображение действует долго, воображаемое приобретает объем, вещественность, плоть, цвет и еще ритм. Правда ли, нет ли, это действует. Самый высокий из холмов, обрамленный оконной рамой у подножия, так и остался самым высоким холмом, и имя, которое мне захотелось дать ему изначально, невольно, в шутку, так и осталось у него на десятилетия и между тем давно срослось и со мной и во мне укоренилось – Вечный холм, Вечный холм Велизи.
В те три дня после возвращения я садился, после душа, причесанный и опрятно одетый, каждое утро у окна на втором этаже. Широко распахнуты обе створки – старое стекло иначе искажало бы, наверное, вид – и Вечный холм, не расчерченный на квадраты оконной рамой, вот он. Это было в общем-то и не разглядывание, намеренное и спланированное. Было ли это наблюдение? Боже упаси, уж точно не оно. Уж коль скоро я в жизни перешел от видения и простого глядения к чему-то вроде наблюдения, стало быть, я, и это не только в моих глазах, совершил, по крайней мере для такого неуместного человека, как я, что-то запретное. А кроме того, мне с детства недостает научного мышления и еще больше – всякого соответствующего честолюбия. Никакого «Я вижу то, чего не видишь ты!», не мое это. А мое, если оно вообще существует: заметить нечто, без всякого моего участия, так, чтобы это нечто, с его изображением, неминуемо в моем, смотри выше, воображении раз и навсегда полностью и тотчас же на этом месте унеслось куда-то в сон наяву, такой подлинный, что явнее и подлиннее я и не видал никогда.