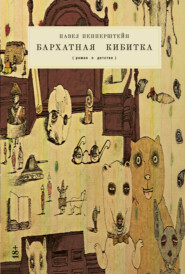По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Странствие по таборам и монастырям
Год написания книги
2024
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Их привели в место, куда сходились несколько длинных коридоров: здесь над головами тянулись ржавые животы каких-то труб, вдоль стены журчала тяжелая глинистая водица, протекая по бетонному желобу, да и по самой стене там и сям струилась вода, оставившая на камнях тысячи красноватых железистых линий. В этом техноготическом уголке подземная тоска особенно больно сжимала сердце. А также неприятно давило на сознание особо плотное присутствие статистов в униформах НКВД.
Напротив влажной стены стояло побывавшее в бою кресло в стиле рококо с золоченными львиными лапами вместо ножек. Цветастая спинка была исполосована саблей – видно, кто-то упражнялся или гневался.
В кресле сидел еще один актер в униформе внутренних дел, этот, кажется, тянул на майора (Це-Це не очень разбирался в знаках служебного различия давних годов), но лицо закрыто маской Атома – условный научный цветок с прорезями для глаз. Перед майором стоял небольшой столик, застеленный светлой тканью, на котором лежал маузер и стояла хрустальная пепельница. Майор курил папиросу «Север».
– Вы вот полагаете, товарищ Цыганский, что у нас тут все театр да театр! – неожиданно обратился к Це-Це птицеголовый Ладов. – Или же все кино да кино. Думаете, что здесь у нас можно фривольничать, а с вами будут миндальничать, но это вы ошибаетесь, уважаемый товарищ. Никто не позволял и не позволит вам пренебрегать нормами и правилами, установленными в нашем институте для блага советской социалистической науки. Тем более что работаем мы здесь сами знаете на какое дело: на дело высочайшей секретности, на дело высочайшего воинского значения. Взгляните на маску, закрывающую лицо майора, и этот символ напомнит вам, какая именно степень сознательности от вас требуется. Этого офицера внутренних органов у нас так и называют – майор Атом. А еще его называют Атомарный Вес. Вес атома. Известно вам, сколько весит атом? Столько же, сколько и человеческая жизнь. Майор Атом вершит здесь суд над нарушителями, вредителями и вражескими лазутчиками. Когда вам говорили в отделе кадров, что у нас здесь в институте имеется внутренняя тюрьма, знаете ли, с вами не шутили. А вы думали – шутят. Но нет, не шутили. Вы уже в ней находитесь. И когда вы подписывали документ, где сказано, что разглашение секретных сведений карается расстрелом, вы думали, что это шутка. Но все же нет – не шутка. Расстрел не может быть шуткой, дорогой товарищ Цыганский. Вы должны это осознать, для этого я и привел вас сюда. Нам известны ваши научные достижения, вы – блестящий ученый, тем бо?льшая ответственность лежит на вас, очень многое будет зависеть от вашего умения владеть собой. Исходя из этих соображений, руководство приняло решение о том, что вы должны присутствовать при настоящем расстреле, который состоится незамедлительно. Чтобы больнее ранить ваше сердце, чтобы обжечь вашу память, мы выбрали на роль жертвы существо, прекрасное обликом, – девушку безусловной красоты. К тому же еще и нежного и хрупкого телосложения. Почти детского. И все же она – враг. Если на ваших глазах убьют подобное создание, от такой травмы вы не скоро отделаетесь, правда же, товарищ Цыганский? Взгляните, как она мила!
Где-то грохнула и лязгнула железная дверь, послышались какие-то крики, топот: из глубины коридора двое чекистов волокли белокурую девушку, которая что-то невнятно и гулко выкрикивала и, кажется, пыталась вырваться. Чекисты подтащили ее к ржавой стене. Майор Атом потушил папиросу в граненой пепельнице, взялся за маузер и прицелился в девушку.
Цыганский Царь и его друзья Фрол и Август взирали на все это, оцепенев. Они, конечно, понимали, что вся сценка разыграна для скрытых камер, что никакого расстрела не будет, да и зачем, собственно, нужно кому-то на самом деле расстреливать прекрасную девушку, почему-то обряженную во францисканскую рясу цвета земли, подпоясанную корабельным канатом? Но девушка то ли слишком хорошо играла свою роль, то ли действительно поверила, что ее собираются не на шутку расстрелять, то ли она была не совсем в себе, но крики ее и метания полны были неподдельного отчаяния и ужаса. Рыцари зажглись в ребятах, как электрические лампочки зажигаются в мятых гаражах: похуй, кино или нет, обижают или просто играют, похуй все, но девушку надо защитить. Не боясь показаться дураком, Це-Це подошел к девушке и оттолкнул одного из охранников, одновременно прикрыв собой юную францисканку от наведенного дула маузера.
– У вас тут полный дебилизм творится, – только и смог он сказать. – И фильмец вы снимаете отстойный.
Тут же рядом с ним встали плечом к плечу, как истые казаки, Фрол и Август с вылупленными пьяными глазами, светящимися от радости.
– Мы граждане независимой и свободной Украины и полноправные обитатели две тысячи десятого года! – провозгласил Август.
– Хватит… хватит… – послышался вдруг голос кинорежиссера. Це-Це вначале подумал было, что говорит сам воздух, но режиссер Прыгунин вдруг выступил во плоти из темного коридора. Выглядел он как-то трагично, был бледен, а голос его приобрел болезненную звонкость. Он напоминал горбуна в позолоченном кафтане, играющего в лондонском театре в какую-нибудь из особенно суровых зим, какие редко являются берегам Темзы, – казалось, ему только что всадили стилет в зелено-золотое основание горба: это должен был быть театральный стилет на пружинке, но чья-то злая рука заменила его в театральной суете на настоящий – и горбун умирает, но, как подлинный актер, он преодолевает свое последнее содрогание ради того, чтобы выговорить свою реплику до конца.
– Хватит… Это всего лишь кино, успокойтесь. Эта сцена очень важна, и ради нее отступлю от собственных принципов и попрошу вас сыграть все заново. Все шло отлично, если бы не ваши глупые слова про независимую Украину и про две тысячи десятый год. Итак, оставьте девушку у стены, а сами вернитесь туда, где стояли, – режиссер властно махнул белой ладонью, указывая всем на их места. Внезапно францисканка запрокинула к сводам свое снежное личико, и подземную тишину рассек ее звенящий полудетский голос:
– Боги, я не слышу вас!
По всей видимости, эта девушка, несмотря на свою красоту, была слегка блаженной или юродивой, а может быть, ужасы харьковского подземелья исторгли из ее груди этот вопль. И еще раз она выкрикнула эти слова, указывая почему-то на Прыгунина, а что уж там скрывалось в интонациях ее крика – безутешное ликование, космический упрек, веселие панка или скорбь христианки, бывшей язычницы, потерявшей множество богов, – неведомо.
Прыгунин в ответ на этот крик словно бы треснул, как старинный стеклянный предмет. Еще сильнее в нем проступил лондонский горбун, подмороженный зимою давно ушедшего века.
– Ну ладно, хватит… – произнес он решительно. – Вы что, вообразили, что вас тут по-настоящему расстреляют? Пистолет бутафорский, он производит не выстрел, а только лишь звук выстрела, так что довольно истерик. Мы тут кино снимаем, понятно? Или нет? Возьмите себя в руки, девушка, и сыграйте, что вас расстреливают. Довольно истерик. Это же не трудно – просто упадите как подкошенная, когда хлопнет выстрел, вот и все дела. Это очень и очень просто. Ладно, если вы так уж боитесь, то давайте меня расстреляют первым, чтобы вам затем было спокойнее.
Он оттолкнул девушку в рясе и встал у стены, лицом к майору Атому.
– Стреляйте же, – распорядился режиссер. – Нам надо поторопиться…
Майор в маске поднял маузер, прицелился в грудь Прыгунину и выстрелил.
Отзвук выстрела оглушил подземелье, и тут же все увидели, как кровь заливает зеленую с золотым выцветшим узором рубаху режиссера, как валится навзничь тело, оставляя на ржавой стене алый след. К нему бросились – пуля пробила его насквозь.
Кто-то подменил бутафорский маузер на настоящий, заряженный боевыми, чья-то злая, осторожная и тихая рука сделала это.
Майор сорвал с себя маску, под которой обнаружилось красное невинное лицо.
Второй – бутафорский – маузер нашли неподалеку: он лежал на полу в полутьме, омываемый подземным ручейком.
Произошло убийство. Сознательное и запланированное – кто-то подменил пистолет. Но кого хотели убить – режиссера или францисканку? Однако все происходящее снималось скрытыми камерами из разных точек пространства. Людям, которым будет поручено расследовать это преступление, видимо, предстоит подробнейшим образом изучить весь материал, отснятый в подземелье. Но… убийство и так – весьма загадочная штука, и оно мгновенно обрастает иными загадочными обстоятельствами. Вот одно из них: выяснилось, что все камеры устанавливались только в верхних, бутафорских слоях Курчатника, что же касается каменного подземелья, то здесь не было ни единой камеры. Расстрел не снимался. Он просто случился.
Что с нами станет, если из сетей
Вдруг вырвется свирепая планета?
В тот светлый сад – пристанище теней,
Теней, что не боятся света.
Как нам смеяться в тот зеленый час,
Когда весна встает на горло песне?
Но каждый где-то сумочку припас,
А в сумочке – запас. С ним интересней.
Боезапас для ужасов войны,
Боезапас, когда сойдутся рати.
И ангел ангела на бой зовет из тьмы
И точит меч у краешка кровати.
Я с вами не пойду на ваш последний бой,
Я буду спать и видеть сны на круче,
Но рати не вернутся вспять домой,
И флаги черные народ припас на этот случай.
Народ запаслив. Знает, как солить,
Как квасить и морить в своих святых закрутках.
Закрутит сто миров, чтобы потом их слить
И покурить в весенних промежутках.
Сквозь падающий мир идет веселый поезд,
Курортник крестится на белый циферблат.
А ты усни. Усни, совсем не беспокоясь.
А утром будем пить зеленый шоколад.
Накроют на веранде, и черники
Крестьяне дряхлые нам в шапках принесут,
И ветер будет биться над святыней дикий,
Играя флагами над головами Будд.
И флаги черные вдруг с пестрыми смешались,
Победа с поражением – друзья,
И нам с тобой осталась только шалость,
Хотя мы воры, совы и князья.
Глава седьмая
Князь Совецкий
Мертвое тело Прыгунина зачем-то сразу же подняли и положили на тот самый письменный стол, который словно бы специально для этой ритуальной цели с таким загадочным упорством волокли сюда Фрол и Август. Це-Це наблюдал, как струйки крови стекают по потемневшей древесине, а одна из струек – самая яркая, самая юркая – даже забралась в один из ящиков стола, который оказался чуть приоткрыт. Так забирается извивающаяся, нежная, южная, почти бесплотная и бесполая рука вора в карман туриста-ротозея, то есть того, кто «зияет ртом» и этим зияющим ртом созерцает руины империи, что задохнулась от пыли много веков назад.
Цветаева написала: «Вас положат – на обеденный, а меня – на письменный». Она, надо полагать, имела в виду, что те люди, которых после смерти кладут на обеденный стол, представляют собой своего рода еду, а еда исчезает быстро. Те же, что лежат на письменных, напоминают письма – они плоские, сухие, медленнотленные и содержат в себе сообщения, доступные многократному прочтению и многократному истолкованию.
Но в наше время уже никто не пишет таких писем, письма нынче электронные, и сгорают они даже быстрее, чем растворяется пища в желудках или же в мусорных баках. Поэтому нет больше никакой чести в том, чтобы лежать на письменном, – все равно что лежать на подставке для компьютера. Нет в этом отныне ни чести, ни нетления. Все равный тлен: и обед, и письмо. Только обед иногда бывает вкуснее и необходимее. Как ни крути, человеку иногда позарез нужно отобедать. Обедает за обеденным (обыденным) столом обычно семья или компания, все галдят, кидаются хлебными шариками, свет ослепительный льется в гигантские окна, ниспадает от люстр и нагих лампочек, светя сквозь жалюзи и гардины: духи воздуха влекут на своих горбах полные корзины веселья! А за письменным, как правило, сидит одинокая сова, хлопает своими глазищами, перья на ней тяжелы, как доспехи утопшего ратника, а вокруг иные письменные столы, а вокруг-то, прости Господи, офис.
Поэтому путешествие вслед за письменным столом, как за саркофагом, привело нас в некие околоадские пространства, а полети мы за столом обеденным, особенно если он овальный, красного дерева, с тонкими ампирными ножками, то он воспарил бы вместе с нами в просторы высокие и разреженные, где встретишь лишь альпинистов, ангелов и авиаторов.
В последующие дни Мельхиор Платов водил дружбу с японкой. Они гуляли на морском берегу, купались, ходили в кино, обедали за различными обеденными столами и столиками, рисовали на пляжном песке иероглифы и русские буквы, включая даже крестоносную букву «ять», давно вышедшую из употребления. Конференция, посвященная европейской литературе, закончилась, все разъехались, а они остались. Ницца их, видимо, не раздражала.
Да и вообще их ничего особенно не раздражало. Нрав Мельхиора смягчился под влиянием девичьей красоты и дальневосточного такта. Японка очаровала его, хотя иногда он думал, что было бы еще романтичнее прогуливаться вдоль длинных волн в компании трех разноплеменных девушек – японки, англичанки и русской. Но Рэйчел Марблтон вернулась в Лондон, а Зоя Синельникова улетела на Канары, где было у нее назначено свидание. Таким образом, Тасуэ и Мельхиор остались вдвоем, что в целом их совершенно устраивало.
Напротив влажной стены стояло побывавшее в бою кресло в стиле рококо с золоченными львиными лапами вместо ножек. Цветастая спинка была исполосована саблей – видно, кто-то упражнялся или гневался.
В кресле сидел еще один актер в униформе внутренних дел, этот, кажется, тянул на майора (Це-Це не очень разбирался в знаках служебного различия давних годов), но лицо закрыто маской Атома – условный научный цветок с прорезями для глаз. Перед майором стоял небольшой столик, застеленный светлой тканью, на котором лежал маузер и стояла хрустальная пепельница. Майор курил папиросу «Север».
– Вы вот полагаете, товарищ Цыганский, что у нас тут все театр да театр! – неожиданно обратился к Це-Це птицеголовый Ладов. – Или же все кино да кино. Думаете, что здесь у нас можно фривольничать, а с вами будут миндальничать, но это вы ошибаетесь, уважаемый товарищ. Никто не позволял и не позволит вам пренебрегать нормами и правилами, установленными в нашем институте для блага советской социалистической науки. Тем более что работаем мы здесь сами знаете на какое дело: на дело высочайшей секретности, на дело высочайшего воинского значения. Взгляните на маску, закрывающую лицо майора, и этот символ напомнит вам, какая именно степень сознательности от вас требуется. Этого офицера внутренних органов у нас так и называют – майор Атом. А еще его называют Атомарный Вес. Вес атома. Известно вам, сколько весит атом? Столько же, сколько и человеческая жизнь. Майор Атом вершит здесь суд над нарушителями, вредителями и вражескими лазутчиками. Когда вам говорили в отделе кадров, что у нас здесь в институте имеется внутренняя тюрьма, знаете ли, с вами не шутили. А вы думали – шутят. Но нет, не шутили. Вы уже в ней находитесь. И когда вы подписывали документ, где сказано, что разглашение секретных сведений карается расстрелом, вы думали, что это шутка. Но все же нет – не шутка. Расстрел не может быть шуткой, дорогой товарищ Цыганский. Вы должны это осознать, для этого я и привел вас сюда. Нам известны ваши научные достижения, вы – блестящий ученый, тем бо?льшая ответственность лежит на вас, очень многое будет зависеть от вашего умения владеть собой. Исходя из этих соображений, руководство приняло решение о том, что вы должны присутствовать при настоящем расстреле, который состоится незамедлительно. Чтобы больнее ранить ваше сердце, чтобы обжечь вашу память, мы выбрали на роль жертвы существо, прекрасное обликом, – девушку безусловной красоты. К тому же еще и нежного и хрупкого телосложения. Почти детского. И все же она – враг. Если на ваших глазах убьют подобное создание, от такой травмы вы не скоро отделаетесь, правда же, товарищ Цыганский? Взгляните, как она мила!
Где-то грохнула и лязгнула железная дверь, послышались какие-то крики, топот: из глубины коридора двое чекистов волокли белокурую девушку, которая что-то невнятно и гулко выкрикивала и, кажется, пыталась вырваться. Чекисты подтащили ее к ржавой стене. Майор Атом потушил папиросу в граненой пепельнице, взялся за маузер и прицелился в девушку.
Цыганский Царь и его друзья Фрол и Август взирали на все это, оцепенев. Они, конечно, понимали, что вся сценка разыграна для скрытых камер, что никакого расстрела не будет, да и зачем, собственно, нужно кому-то на самом деле расстреливать прекрасную девушку, почему-то обряженную во францисканскую рясу цвета земли, подпоясанную корабельным канатом? Но девушка то ли слишком хорошо играла свою роль, то ли действительно поверила, что ее собираются не на шутку расстрелять, то ли она была не совсем в себе, но крики ее и метания полны были неподдельного отчаяния и ужаса. Рыцари зажглись в ребятах, как электрические лампочки зажигаются в мятых гаражах: похуй, кино или нет, обижают или просто играют, похуй все, но девушку надо защитить. Не боясь показаться дураком, Це-Це подошел к девушке и оттолкнул одного из охранников, одновременно прикрыв собой юную францисканку от наведенного дула маузера.
– У вас тут полный дебилизм творится, – только и смог он сказать. – И фильмец вы снимаете отстойный.
Тут же рядом с ним встали плечом к плечу, как истые казаки, Фрол и Август с вылупленными пьяными глазами, светящимися от радости.
– Мы граждане независимой и свободной Украины и полноправные обитатели две тысячи десятого года! – провозгласил Август.
– Хватит… хватит… – послышался вдруг голос кинорежиссера. Це-Це вначале подумал было, что говорит сам воздух, но режиссер Прыгунин вдруг выступил во плоти из темного коридора. Выглядел он как-то трагично, был бледен, а голос его приобрел болезненную звонкость. Он напоминал горбуна в позолоченном кафтане, играющего в лондонском театре в какую-нибудь из особенно суровых зим, какие редко являются берегам Темзы, – казалось, ему только что всадили стилет в зелено-золотое основание горба: это должен был быть театральный стилет на пружинке, но чья-то злая рука заменила его в театральной суете на настоящий – и горбун умирает, но, как подлинный актер, он преодолевает свое последнее содрогание ради того, чтобы выговорить свою реплику до конца.
– Хватит… Это всего лишь кино, успокойтесь. Эта сцена очень важна, и ради нее отступлю от собственных принципов и попрошу вас сыграть все заново. Все шло отлично, если бы не ваши глупые слова про независимую Украину и про две тысячи десятый год. Итак, оставьте девушку у стены, а сами вернитесь туда, где стояли, – режиссер властно махнул белой ладонью, указывая всем на их места. Внезапно францисканка запрокинула к сводам свое снежное личико, и подземную тишину рассек ее звенящий полудетский голос:
– Боги, я не слышу вас!
По всей видимости, эта девушка, несмотря на свою красоту, была слегка блаженной или юродивой, а может быть, ужасы харьковского подземелья исторгли из ее груди этот вопль. И еще раз она выкрикнула эти слова, указывая почему-то на Прыгунина, а что уж там скрывалось в интонациях ее крика – безутешное ликование, космический упрек, веселие панка или скорбь христианки, бывшей язычницы, потерявшей множество богов, – неведомо.
Прыгунин в ответ на этот крик словно бы треснул, как старинный стеклянный предмет. Еще сильнее в нем проступил лондонский горбун, подмороженный зимою давно ушедшего века.
– Ну ладно, хватит… – произнес он решительно. – Вы что, вообразили, что вас тут по-настоящему расстреляют? Пистолет бутафорский, он производит не выстрел, а только лишь звук выстрела, так что довольно истерик. Мы тут кино снимаем, понятно? Или нет? Возьмите себя в руки, девушка, и сыграйте, что вас расстреливают. Довольно истерик. Это же не трудно – просто упадите как подкошенная, когда хлопнет выстрел, вот и все дела. Это очень и очень просто. Ладно, если вы так уж боитесь, то давайте меня расстреляют первым, чтобы вам затем было спокойнее.
Он оттолкнул девушку в рясе и встал у стены, лицом к майору Атому.
– Стреляйте же, – распорядился режиссер. – Нам надо поторопиться…
Майор в маске поднял маузер, прицелился в грудь Прыгунину и выстрелил.
Отзвук выстрела оглушил подземелье, и тут же все увидели, как кровь заливает зеленую с золотым выцветшим узором рубаху режиссера, как валится навзничь тело, оставляя на ржавой стене алый след. К нему бросились – пуля пробила его насквозь.
Кто-то подменил бутафорский маузер на настоящий, заряженный боевыми, чья-то злая, осторожная и тихая рука сделала это.
Майор сорвал с себя маску, под которой обнаружилось красное невинное лицо.
Второй – бутафорский – маузер нашли неподалеку: он лежал на полу в полутьме, омываемый подземным ручейком.
Произошло убийство. Сознательное и запланированное – кто-то подменил пистолет. Но кого хотели убить – режиссера или францисканку? Однако все происходящее снималось скрытыми камерами из разных точек пространства. Людям, которым будет поручено расследовать это преступление, видимо, предстоит подробнейшим образом изучить весь материал, отснятый в подземелье. Но… убийство и так – весьма загадочная штука, и оно мгновенно обрастает иными загадочными обстоятельствами. Вот одно из них: выяснилось, что все камеры устанавливались только в верхних, бутафорских слоях Курчатника, что же касается каменного подземелья, то здесь не было ни единой камеры. Расстрел не снимался. Он просто случился.
Что с нами станет, если из сетей
Вдруг вырвется свирепая планета?
В тот светлый сад – пристанище теней,
Теней, что не боятся света.
Как нам смеяться в тот зеленый час,
Когда весна встает на горло песне?
Но каждый где-то сумочку припас,
А в сумочке – запас. С ним интересней.
Боезапас для ужасов войны,
Боезапас, когда сойдутся рати.
И ангел ангела на бой зовет из тьмы
И точит меч у краешка кровати.
Я с вами не пойду на ваш последний бой,
Я буду спать и видеть сны на круче,
Но рати не вернутся вспять домой,
И флаги черные народ припас на этот случай.
Народ запаслив. Знает, как солить,
Как квасить и морить в своих святых закрутках.
Закрутит сто миров, чтобы потом их слить
И покурить в весенних промежутках.
Сквозь падающий мир идет веселый поезд,
Курортник крестится на белый циферблат.
А ты усни. Усни, совсем не беспокоясь.
А утром будем пить зеленый шоколад.
Накроют на веранде, и черники
Крестьяне дряхлые нам в шапках принесут,
И ветер будет биться над святыней дикий,
Играя флагами над головами Будд.
И флаги черные вдруг с пестрыми смешались,
Победа с поражением – друзья,
И нам с тобой осталась только шалость,
Хотя мы воры, совы и князья.
Глава седьмая
Князь Совецкий
Мертвое тело Прыгунина зачем-то сразу же подняли и положили на тот самый письменный стол, который словно бы специально для этой ритуальной цели с таким загадочным упорством волокли сюда Фрол и Август. Це-Це наблюдал, как струйки крови стекают по потемневшей древесине, а одна из струек – самая яркая, самая юркая – даже забралась в один из ящиков стола, который оказался чуть приоткрыт. Так забирается извивающаяся, нежная, южная, почти бесплотная и бесполая рука вора в карман туриста-ротозея, то есть того, кто «зияет ртом» и этим зияющим ртом созерцает руины империи, что задохнулась от пыли много веков назад.
Цветаева написала: «Вас положат – на обеденный, а меня – на письменный». Она, надо полагать, имела в виду, что те люди, которых после смерти кладут на обеденный стол, представляют собой своего рода еду, а еда исчезает быстро. Те же, что лежат на письменных, напоминают письма – они плоские, сухие, медленнотленные и содержат в себе сообщения, доступные многократному прочтению и многократному истолкованию.
Но в наше время уже никто не пишет таких писем, письма нынче электронные, и сгорают они даже быстрее, чем растворяется пища в желудках или же в мусорных баках. Поэтому нет больше никакой чести в том, чтобы лежать на письменном, – все равно что лежать на подставке для компьютера. Нет в этом отныне ни чести, ни нетления. Все равный тлен: и обед, и письмо. Только обед иногда бывает вкуснее и необходимее. Как ни крути, человеку иногда позарез нужно отобедать. Обедает за обеденным (обыденным) столом обычно семья или компания, все галдят, кидаются хлебными шариками, свет ослепительный льется в гигантские окна, ниспадает от люстр и нагих лампочек, светя сквозь жалюзи и гардины: духи воздуха влекут на своих горбах полные корзины веселья! А за письменным, как правило, сидит одинокая сова, хлопает своими глазищами, перья на ней тяжелы, как доспехи утопшего ратника, а вокруг иные письменные столы, а вокруг-то, прости Господи, офис.
Поэтому путешествие вслед за письменным столом, как за саркофагом, привело нас в некие околоадские пространства, а полети мы за столом обеденным, особенно если он овальный, красного дерева, с тонкими ампирными ножками, то он воспарил бы вместе с нами в просторы высокие и разреженные, где встретишь лишь альпинистов, ангелов и авиаторов.
В последующие дни Мельхиор Платов водил дружбу с японкой. Они гуляли на морском берегу, купались, ходили в кино, обедали за различными обеденными столами и столиками, рисовали на пляжном песке иероглифы и русские буквы, включая даже крестоносную букву «ять», давно вышедшую из употребления. Конференция, посвященная европейской литературе, закончилась, все разъехались, а они остались. Ницца их, видимо, не раздражала.
Да и вообще их ничего особенно не раздражало. Нрав Мельхиора смягчился под влиянием девичьей красоты и дальневосточного такта. Японка очаровала его, хотя иногда он думал, что было бы еще романтичнее прогуливаться вдоль длинных волн в компании трех разноплеменных девушек – японки, англичанки и русской. Но Рэйчел Марблтон вернулась в Лондон, а Зоя Синельникова улетела на Канары, где было у нее назначено свидание. Таким образом, Тасуэ и Мельхиор остались вдвоем, что в целом их совершенно устраивало.