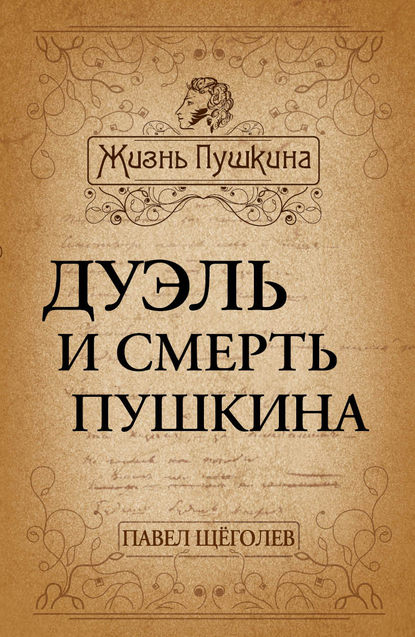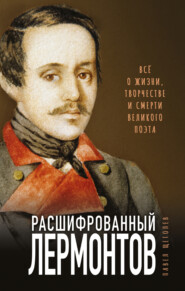По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дуэль и смерть Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот, уж перешла в другое,
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься…
5
Дантес прибыл в Петербург в октябре 1833 года, в гвардию был принят в феврале 1834 года. По всей вероятности, тотчас же по приезде (а может быть, только по зачислении в гвардию), при содействии барона Геккерена, Дантес завязал светские знакомства и появился в высшем свете.
Если Дантес не успел познакомиться с Н. Н. Пушкиной зимой 1834 года до наступления великого поста, то в таком случае первая встреча их приходится на осень этого года, когда Наталья Николаевна блистала своей красотой в окружении старших сестер’. Почти с этого же времени надо вести историю его увлечения.
Ухаживания Дантеса были продолжительны и настойчивы. Впоследствии барон Геккерен в письме к своему министру иностранных дел от 30 января 1837 года сообщал: «Уже год, как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину». Сам Пушкин упоминает о двухлетнем постоянстве, с которым Дантес ухаживал за его женой.
Встретили ли его ухаживания какой-либо отклик или остались безответными? Решения этого вопроса станем искать не у врагов Пушкина, а у него самого, у его друзей, наконец, в самих событиях.
В письме к барону Геккерену Пушкин пишет: «Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и чувство, которое она, быть может, испытывала к этой возвышенной страсти, угасло в презрении»…[82 - Французский текст цитат дан в первом издании книги, обозначаемом в примечаниях кратко «Дуэль». Во второй части этого издания все тексты приведены в переводах, и указаний страниц этой части не делается. «Дуэль», 188.]. Уже намек, содержащийся в подчеркнутых строках, приводит к заключению, что Н. Н. Пушкина не осталась глуха и безответна к чувству Дантеса, которое представлялось ей возвышенною страстью. В черновике письма к Геккерену Пушкин высказывается еще решительнее и определеннее: «Поведение вашего сына было мне хорошо известно… но я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это удобным. Я знал, что хорошая фигура, несчастная страсть, двухлетнее постоянство всегда произведут в конце концов впечатление на молодую женщину, и тогда муж, если он не дурак, станет вполне естественно доверенным своей жены и хозяином ее поведения. Я признаюсь вам, что несколько беспокоился»[83 - «Переписка», III, N» 1105, с. 415.]. Князь Вяземский, упоминая в письме к великому князю Михаилу Павловичу об объяснениях, которые были у Пушкина с женой после получения анонимных писем, говорит, что невинная, в сущности, жена «призналась в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена»[84 - «Дуэль», 141.]. Можно из этих слов заключить, что Наталья Николаевна «увлеклась» красивым и модным кавалергардом, – но как сильно было ее увлечение, до каких степеней страсти оно поднялось? Что оно не было только данью легкомыслия и ветрености, можно судить по ее отношению к Дантесу после тяжелого инцидента с дуэлью в ноябре месяце, после сватовства и женитьбы Дантеса на сестре Натальи Николаевны. Наталья Николаевна знала гневный и страстный характер своего мужа, видела его страдания и его бешенство в ноябре 1836 года; казалось бы, всякое легкомыслие и всякая ветреность при таких обстоятельствах должны были исчезнуть навсегда. И что же? Вяземский, озабоченный охранением репутации Натальи Николаевны, все-таки не нашел в себе силы обойти молчанием ее поведение после свадьбы Дантеса: «Она должна бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, – и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности»[85 - «Дуэль», 145.]. Ясно, кажется, что сила притяжения, исходившего от Дантеса, была слишком велика, и ее не ослабили ни страх перед мужем, ни боязнь сплетен, ни даже то, что чувственные симпатии Дантеса, до сих пор отдававшиеся ей всецело, оказались поделенными между ней и ее сестрой. Дантес взволновал Наталью Николаевну так, как ее еще никто не волновал. «Il l’а troublе», – сказал Пушкин о Дантесе и своей жене. Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и ее, и она, стыдливо – Холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса. В конце концов, быть может, Дантес был как раз тем человеком, который был ей нужен. Ровесник по годам, он был ей пара по внешности своей, по внутреннему своему складу, по умственному уровню. Что греха таить: конечно, Дантес должен был быть для нее интереснее, чем Пушкин. Какой простодушной искренностью дышат ее слова княгине В. Ф. Вяземской в ответ на ее предупреждения и на ее запрос, чем может кончиться вся эта история с Дантесом! «Мне с ним (Дантесом) весело. Он мне просто нравится, будет то же, что было два года сряду». Княгиня В. Ф. Вяземская объяснила, что Пушкина чувствовала к Дантесу род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным[86 - «Русский apx.» 1888, II, 311.].
Итак, сердца Дантеса и Натальи Николаевны Пушкиной с неудержимой силой влеклись друг к другу. Кто же был прельстителем и кто завлеченным? Друзья Пушкина единогласно выдают Наталью Николаевну за жертву Дантеса. Этому должно было бы поверить уже и потому, что она не была натурой активной. Но были, вероятно, моменты, когда в этом поединке флирта доминировала она, возбуждая и завлекая Дантеса все дальше и дальше по опасному пути. Можно поверить, по крайней мере, барону Геккерену, когда он позднее, после смерти Пушкина, предлагал допросить Н. Н. Пушкину и, не имея возможности предвидеть, что подобные расспросы не будут допущены, заявлял: «Она (Пушкина) сама может засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела; она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся».
Какую роль играл в сближении Дантеса и Пушкина голландский посланник барон Геккерен, ставший с лета 1836 года приемным отцом француза? Был ли он сводником, старался ли он облегчить своему приемному сыну сношения с Пушкиной и привести эпизод светского флирта к вожделенному концу? Пушкин, друзья его и император Николай Павлович отвечали на этот вопрос категорическим да. У всех них единственным источником сведений о роли Геккерена было свидетельство Натальи Николаевны. «Она раскрыла мужу, – писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, – все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть»‘. «Хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, – сообщал император Николай I своему брату, – столь же мало оправдывали поведение Дантеса, а в особенности гнусного его отца… Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью… Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих»…[87 - «Дуэль», 141.] Пушкин самому Геккерену так характеризовал его роль: «Вы, представитель коронованной особы, – вы были отеческим сводником вашего побочного сына… Все его поведение, вероятно, было направлено вами: вы, вероятно, нашептывали ему те жалкие любезности, в которых он рассыпался, и те пошлости, которые он писал. Подобно развратной старухе, вы отыскивали по всем углам мою жену, чтобы говорить ей о любви вашего сына, и, когда он, больной в с<ифилисе>, оставался дома, принимая лекарства, вы уверяли, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: «отдайте мне моего сына»…[88 - «Переписка», III, № 1105, с. 412.]
На личности барона Геккерена мы уже останавливались, но согласимся сейчас с самыми худшими о нем отзывами, согласимся в том, что барон Геккерен был человек низких нравственных качеств; согласимся, что он не остановился бы ни перед какой гадостью, раз она была средством к известной цели. Но все, что мы о нем знаем, не дает нам права на заключение, что он совершал гадости ради них самих. Спрашивается, какой для него был смысл в сводничестве своему приемному сыну? Еще до усыновления он мог бы секретно оказывать Дантесу свое содействие, свое посредничество, но, связав с ним свое имя, он не стал бы рисковать своим именем и положением. Светский скандал был неизбежен, все равно – завершился бы флирт Дантеса тайной связью и он увез бы Наталью Николаевну за границу, или же Дантес и его приемный отец добились бы развода и второго брака для Н. Н. Пушкиной. Второе предположение, конечно, чистая утопия; разводы были в то время очень затруднены, и Николай Павлович не был их покровителем. Но в том или другом случае барон Геккерен, полномочный нидерландский министр, представитель интересов своего государства, подвергал не только словесному сраму, но и серьезному риску всю свою карьеру. Надо признать, что в жизненные расчеты барона Геккерена отнюдь не могло входить поощрение любовных ухаживаний Дантеса. А если мы приложим к барону Геккерену ту мерку, с которой подходили к нему многие из обвинявших его в сводничестве, и если на минуту согласимся с ними в том, что любовь Геккерена к Дантесу заходила далеко за пределы отцовской и была любовью мужчины к мужчине, то тогда обвинение в сводничестве станет невероятным. И если Геккерен был действительно человек извращенных нравов, то, ревнуя Н. Н. Пушкину к Дантесу, не сводить его с ней он был должен, а разлучать во что бы то ни стало.
До нас дошли оправдания Геккерена как раз против обвинений в сводничестве. Защищаясь он них, он ссылается на признания Пушкиной и на свидетельства лиц посторонних. «Я будто бы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой… Если г-жа Пушкина откажет мне в этом признании, то я обращусь к свидетельству двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь»‘. Трудно допустить, чтобы Геккерен писал эти признания графу Нессельроде на ветер, заранее будучи уверен, что ни Пушкину, ни высокопоставленных дам не спросят: ведь он знал, что его письма к графу Нессельроде будут известны императору Николаю, и должен был считаться с возможностью того, что император возьмет да и прикажет расспросить всех указанных им свидетельниц по делу! Наконец, Геккерен в своем оправдании указывает на один любопытный факт, остающийся невыясненным для нас и по сей день: «Мне скажут, что я должен был бы повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, – письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки»[89 - «Дуэль», 186. С этим указанием, кажется, следует сопоставлять тоже неясное сообщение князя Вяземского о письме, которое будто бы, по просьбе Геккеренов, должна была написать Наталья Николаевна к Дантесу («Дуэль», 143).]. Если поверить Геккерену, то этот факт с письмом заставляет многое в истории Дантеса и Н. Н. Пушкиной отнести за ее счет. К вышеприведенным словам Геккерен делает ехидное добавление: «Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала своих обязанностей». Итак, следуя соображениям здравого смысла, мы более склонны думать, что барон Геккерен не повинен в сводничестве: скорее всего, он действительно старался о разлучении Дантеса и Пушкиной. Вспоминается одна фраза из письма Геккерена к Дантесу, написанного из Петербурга после высылки последнего за границу: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал я, что заслужил от тебя такое отношение»[90 - «Дуэль», 279.]. Отношения, зачерченные в этих строках, не позволяют принять огульно утверждение о своднической роли барона Геккерена.
Ухаживанья Дантеса за Н. Н. Пушкиной стали сказкой города. Об них знали все и с пытливым вниманием следили за развитием драмы[91 - Граф Отто фон Брей, бывший в 1833–1836 годах секретарем баварского посольства и в феврале 1836 года переведенный из Петербурга в Париж, уже был свидетелем того тяжелого положения, которое привело Пушкина к трагическому концу. Граф Брей, живя в Петербурге, вращался в салонах Карамзиной и Виельгорских, поддерживал знакомство с князем П. А Вяземским. См.: Graf Otto von Bray-Steinburg. Denkwiirdigkeiten aus seinem Leben. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. K. vo/i Heigel. Lpz. 1901. S. 11, 14. A.O. «оссет вспоминал впоследствии, Что летом 1836 года шли толки, будто У Пушкина в семье что-то не ладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса. – «Русск. арх.», 1882, I, 246.]. Свет с зловещим любопытством наблюдал и ждал, чем разразится конфликт. Расцвет светских успехов Натальи Николаевны больно поражал сердце поэта. В марте 1836 года Пушкина была в наибольшей моде в петербургском свете, а Пушкин внимательным и близким наблюдателям казался все более и более скучным и эгоистичным. В октябре того же года, т. е. накануне рассылки пасквилей, в Петербурге говорили о Пушкиной гораздо больше, чем о ее муже. Анна Николаевна Вульф признавала, что о Пушкине в Тригорском больше говорили, чем в Петербурге. И никто из видевших не подумал о том, что надо помочь Пушкину, надо предупредить возможный роковой исход. «Вашему императорскому высочеству, – писал после смерти поэта князь Вяземский Михаилу Павловичу, – небезызвестно, что молодой Геккерен ухаживал за г-жею Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа»[92 - «Дуэль», 140.]. Михаилу же Павловичу писал то же после смерти поэта император Николай: «Давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение»[93 - «Пушкин», 358.]. И этот монарх, считавший для себя все позволенным, не сделал ровно ничего к предупреждению рокового исхода. П. И. Бартенев слышал от графа В. Ф. Адлерберга о его попытке устранить столкновение Пушкина с Дантесом: «Зимой 1836–1837 гг., на одном из бывших вечеров, граф В. Ф. Адлерберг увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами… Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу (который тогда был Главнокомандующим Гвардейским корпусом) и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали там украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную графом Адлербергом, не успели привести в исполнение»[94 - «Русск. арх.», 1892 г., т. II, с. 488. Из записной книжки «Р. А».].
«Неумеренное и довольно открытое ухаживание Дантеса за Н. Н. Пушкиной порождало сплетни в гостиных»[95 - «Дуэль», 140.]. Дантес и Пушкина встречались на балах, в великосветских гостиных. Местом встреч был также и дом ближайших друзей Пушкина, князей Вяземских. Хозяйка дома, обязанная принимать и Дантеса и Пушкина, была поставлена в двусмысленное положение. «Н. Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Оберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу-французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно – приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных»[96 - «Русск. арх.», 1888, II, 308. Сравн. там же, 1906, III, 619.].
У Карамзиных Дантес был принят наилучшим образом. В особенно аружеских отношениях он был с Андреем Николаевичем Карамзиным: после смерти Пушкина А. Н. Карамзин должен был употребить усилие, дабы не стать вновь на такую же дружескую ногу, как было раньше[97 - О хорошем отношении к Дантесу в семье Карамзиных можно заключить 1’ю письмам А. Н. Карамзина. – «Старина и новизна», кн. 17.].
Мы уже говорили о том, что обвинения Геккерена в сводничестве дряд ли имеют под собой почву. Но были добровольцы, принявшие на себя эту гнусную обязанность. К таковым молва упорно причисляет йдалию Григорьевну Полетику, незаконную дочь графа Григория Александровича Строганова. «Она была известна», говорит один современник, князь А. В. Мещерский, «в обществе как очень умная женщина, iio с весьма злым языком, в противоположность своему мужу, которого называли «Божьей коровкой»«[98 - С. А. Панчулидзев. Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826. СПб., 1906, с. 351.]. «Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех»[99 - А. П. Арапова, назв. соч. – «Нов. время», 1908, № 11425.]. С этой Идалией подружилась Наталья Николаевна; сближению сильно содействовало то обстоятельство, что отец Идалии, граф Г. А. Строганов, был двоюродным братом матери Пушкиной, Натальи Ивановны Гончаровой, рожденной Загряжской. Муж Полетики – в то время ротмистр Кавалергардского полка – был приятелем Дантеса. Идалия Полетика дожила до преклонной старости (умерла в 1889 году) и до самой смерти питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина[100 - О Полетике см. любопытный рассказ П. И. Бартенева. – «Русск. арх.», 1911, I, 175 и сл. Ее портрет – в «Альбоме Пушкинской юбилейной выставки в Императорской Академии наук», под редакцией JL Н. Майкова и Б. Л Мод- «левского. СПб., 1899.].
Причины этой ненависти нам неизвестны и непонятны. Редкие упоминания о Полетике в письмах Пушкина к жене рисуют довольно Фужественные отношения Пушкиных к Идалии. Но Идалия не платила им той же монетой. Княгиня В. Ф. Вяземская обвиняла Идалию Полетику в том, что она сводила Дантеса с Натальей Николаевной и предоставляла свою квартиру для свиданий. В последней главе истории дуэли мы еще встретимся с Полетикой.
Своеобразной пособницей Дантесу и Пушкиной явилась, по словам княгини В. Ф. Вяземской, и сестра Натальи Николаевны, девица Екатерина Гончарова. Она была влюблена в Дантеса и нарочно устраивала свидания своей сестры с Дантесом, чтобы только, в качестве наперсницы, повидать лишний раз предмет своей тайной страсти.
Пушкин знал об ухаживаниях Дантеса; он наблюдал, как крепло и росло увлечение Натальи Николаевны. До получения анонимных писем в ноябре он, по-видимому, не пришел к определенному решению, как ему поступить в таких обстоятельствах. Вяземский писал впоследствии: «Пушкин, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело к неслыханной катастрофе».
Сам Пушкин в письме к Геккерену пишет, что поведение его сына было ему давно известно и что он не мог оставаться равнодушным; но до поры, до времени он довольствовался ролью наблюдателя, откладывая свое вмешательство до удобного момента. В Пушкине сидел человек XVIII века, рационалист, действующий по известным максимам, которых было так много в этот век. Он теоретически верил тому, что при нарастании любовного конфликта жены с третьим человеком муж в определенный момент и может, и должен стать доверенным своей жены и взять в свои руки управление поведением жены. Но этот принцип, удобный теоретически, на практике оказался неудобоприменимым. Из письма Пушкина к барону Геккерену видно, что он только по получении анонимных писем счел момент подходящим для того, чтобы стать доверенным своей жены и хозяином ее поведения, но из дальнейших событий ясно, что Пушкин упустил момент: доверенность жены не оказалась полной, и полновластным хозяином поведения молодой женщины он уже не мог стать. Несмотря на свою пассивность, робость, Наталья Николаевна не имела сил подчиниться исключительно воле мужа и противостоять сладкому влиянию Дантеса.
6
«4 ноября поутру, – писал Пушкин в неотправленном письме к Бенкендорфу, – я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены»…[101 - «Переписка», III, Ns 1106, с. 416.] После некоторых справок и розысков Пушкин узнал, что «в тот же день семь или восемь лиц также получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Почти все, получившие эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не отослали их ко мне»[102 - Там же, 416.]. Нам известно, что такие письма получили князь П. А. Вяземский, граф М. Ю. Виельгорский, тетка графа В. А. Соллогуба – г-жа Васильчикова, Е. М. Хитрово. «4 ноября, – писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, – моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-либо оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем документ. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы». «В первых числах ноября 1836 г., – читаем мы в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба, – тетка моя Васильчикова, у которой я жил тогда на Большой Морской, велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое, запечатанное письмо с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком: Александру Сергеевичу Пушкину. Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить его я не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово». Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами»[103 - «Воспоминания графа В. А Соллогуба. Новые сведения о предсмертном поединке А. С. Пушкина». М., 1866, с. 41–44. Письмо Пушкина к Е. М. Хитрово до нас не дошло.].
В конце концов, анонимные письма, которым нередко приписывают гибель Пушкина, явились лишь случайным возбудителем. Не будь их, – все равно раньше или позже настал бы момент, когда Пушкин вышел бы из роли созерцателя любовной интриги его жены и Дантеса. В сущности, зная страстный и нетерпеливый характер Пушкина, надо удивляться лишь тому, что он так долго выдерживал роль созерцателя. Отсутствие реакции можно приписать тому состоянию оцепенения, в которое его в 1836 г. повергали все его дела: и материальные, и литературные, и иные. О состоянии Пушкина в последние месяцы жизни следовало бы сказать особо и подробно.
Анонимные письма были толчком, вытолкнувшим Пушкина из колеи созерцания. Чести его была нанесена обида, и обидчики должны были понести наказание. Обидчиками были те, кто подал повод к самой мысли об обиде, и те, кто причинил ее, кто составил и распространил пасквиль.
Повод был очевиден: ухаживания Дантеса. Лица, с которыми Пушкин говорил по этому поводу, по его собственным словам, «пришли в негодование от неосновательного и низкого оскорбления». «Все, повторяя, что поведение моей жены безукоризненно, говорили, что поводом к этой клевете послужило слишком явное ухаживание за нею Дантеса», – писал Пушкин в письме к Бенкендорфу[104 - «Переписка», III, N» 1106, с. 417.]. Произошли объяснения с женой, которые, конечно, только утвердили общую молву. Наталья Николаевна, передавая мужу об ухаживаниях Дантеса, подчеркивала его навязчивость, а заодно указала и на то, что старый Геккерен старался склонить ее к измене своему долгу; о себе она призналась только в том, что, по легкомыслию и ветрености, слишком снисходительно отнеслась к приставаниям Дантеса. Ее объяснения, если верить словам Вяземского и самого Пушкина, оставили в Пушкине впечатление полной ее невиновности и решительной гнусности ее соблазнителей. «Пушкин, – говорит Вяземский, – был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен; мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукой, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему в самое сердце»[105 - «Дуэль», 141.] «Я не мог допустить, – писал Пушкин в письме к Бенкендорфу, – чтобы в этой истории имя моей жены было связано клеветою с именем кого бы то ни было. Я просил сказать об этом г. Дантесу»[106 - «Переписка», III, № 1106, с. 417.].
4 ноября Пушкин получил анонимные письма и на другой день, 5 ноября[107 - Геккерн в письме к Загряжской от 13 ноября дает эту дату: «Depuis huit jours d’angoisses j’ai 6te si heureux et si tranquille hier au soir…» («Дуэль», 178). Промежуток восьми тревожных дней, кончившийся 12 ноября вечером, начался, следовательно, с 5 ноября, – дня, в который в руки барона Геккерена попал вызов, предназначенный Дантесу.], отправил вызов Дантесу на квартиру его приемного отца барона Геккерена. Как раз в этот день Дантес находился дежурным по дивизиону[108 - С. А. Панчулидзев сообщил мне касающиеся Дантеса выписки из приказов по Кавалергардскому полку. Из них видно, что 4 ноября поручику барону Дантесу-Геккерену за незнание людей своих взводов и за неосмотрительность в своей одежде командир полка сделал строжайший выговор и предписал нарядить его дежурным по дивизиону пять раз. Дежурил Дантес, во исполнение предписания, 5, 7, 9, 11 и 13 ноября. Эти даты важны для хронологии событий.], дома не был, и вызов попал в руки барона Геккерена. Со слов К. К. Данзаса сообщалось в свое время, что «Пушкин послал вызов Дантесу через офицера Генерального штаба К. О. Россета»[109 - Конспективная записка Жуковского, хранящаяся в принадлежащем Пушкинскому дому Музее А. Ф. Онегина в Париже, появляется в настоящей книге (см. ниже, в V отделе второй части нашей книги) впервые. При цитировании ее в дальнейшем изложении отдельных ссылок не делаю.].
Вряд ли это сообщение верно. Вызов был письменный. Когда графу Соллогубу пришлось позднее выступить в роли секунданта, д’Аршиак, секундант Дантеса, желая ознакомить его с обстоятельствами дела, предъявил ему документы и среди них «вызов Пушкина Дантесу». По всей вероятности, вызов был просто послан, а не передан кем-либо, ибо попасть не по назначению он мог только в том случае, если он был послан, и ни один секундант в мире не позволил бы себе лередать вызов кому-либо иному, а не вызываемому. Вызов Пушкина не был мотивирован.
Вызов Пушкина застал барона Геккерена врасплох. О его замешательстве, о его потрясении свидетельствуют и дальнейшее его поведение, и сообщения Жуковского в письмах к Пушкину. Он в тот же день отправился к Пушкину, заявил, что он принимает вызов за своего сына, и просил отложить окончательное решение на 24 часа – в надежде, что Пушкин обсудит еще раз все дело спокойнее и переменит свое решение. Через 24 часа, т. е. 6 ноября, Геккерен снова был у Пушкина и нашел его непоколебимым. Об этом его свидании с Пушкиным князь Вяземский рассказывает в письме к великому князю Михаилу Павловичу следующее: «Геккерен рассказывал Пушкину о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он говорил ему о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит здание всех своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т. е. своего сына, как он его называл, он тем не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю – я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло». Пушкин в письме к Бенкендорфу излагает кратко историю отсрочки: «Барон Геккерен является ко мне – и принимает вызов за г. Дантеса, прося отсрочки поединка на 15 дней».
7
Геккерену удалось отсрочить поединок и выиграть таким образом время. Теперь надо было употребить все старания к тому, чтобы устранить самое столкновение с возможным роковым исходом. Эта забота легла на сердце не одному Геккерену. Переполошилась, конечно, прежде всего Наталья Николаевна, а за нею – ее сестры и тетушка, покровительница всех сестер Гончаровых, – фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Вызов был сделан; срам, грозил ее любимой (fille de son coeur, sa fille d’adoption) племяннице, так хорошо принятой при дворе, и, конечно, ей самой, опекавшей и охранявшей сестер Гончаровых. Надо было сделать все, что только возможно, чтобы предупредить скандал, устранить дуэль, затушить дело. Ни Наталья Николаевна, ни ее сестры, конечно, ничего тут не могли сделать, и надо было действовать самой Загряжской. Она так и поступила и приняла деятельнейшее участие в развитии дальнейших событий. 6 ноября молодой Гончаров, брат Натальи Николаевны, съездил в Царское Село к Жуковскому, и в тот же день Жуковский был уже в Петербурге. Жуковский был другом, которого Пушкин слушался в мирских делах; Жуковский любил Пушкина и был миролюбив, и Гончаровы поступили правильно, вызвав его и вмешав в разыгравшиеся события.
Пушкин отправил вызов. Надо было убедить его отказаться от вызова. Над вопросом, как это сделать, ломали голову барон Геккерен, Е. И. Загряжская и Жуковский.
6 ноября Жуковский, по вызову Гончарова, приехал в Петербург и направился к Пушкину. В то время, как он находился у него, явился Геккерен. Это было второе посещение Пушкина Геккереном, когда он добился двухнедельной отсрочки. Жуковский оставил Пушкина и спустя некоторое время снова вернулся к нему. Конец дня Жуковский провел у графа Виельгорского и князя Вяземского. Очевидно, разговор шел о деле Пушкина. Вечером Жуковский получил письмо от Е. И. Загряжской.
На другой день, утром 7 ноября, Жуковский был уже у Загряжской. «От нее к Геккерену» – кратко гласит конспективная записка Жуковского, которою мы в дальнейшем изложении будем пользоваться; она является важнейшим источником для истории ноябрьского столкновения Пушкина с Дантесом; к сожалению, многие заметки в записке Жуковского слишком конспективны, писаны были про себя и толкованию не поддаются.
«Поутру у Загряжской. От нее к Геккерену. (Mes antеcеdents – неизвестное совершенное прежде бывшего)». Эти краткие указания нетрудно развернуть. Загряжская обратилась к Жуковскому с просьбой о содействии и помощи при разрешении конфликта и рассказала остававшиеся ему неизвестными обстоятельства, происшедшие до вызова. Эти «antеcеdents» мы не можем выяснить ни по заметкам Жуковского, ни по другим источникам. А что-то было действительно! На это есть намеки и в разорванном черновике письма Пушкина к Геккерену. От Загряжской Жуковский поехал к Геккерену. Ясно, что посещение Геккерена было продиктовано Жуковскому именно Загряжскою. Во всяком случае, сообщение Вяземского о том, что барон Геккерен бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому с уговорами о посредничестве, неверно, по крайней мере, по отношению к Жуковскому. Если Геккерен искал помощи в Жуковском и других, го и они, в свою очередь, искали его содействия. Неясно, было ли внушенное Загряжскою посещение Жуковским Геккерена первым опытом ее сношений с Геккереном, или они обменялись встречами еще до наступления этого момента и Жуковский явился официальным посредником? Неясен, по связи с только что поставленным, и следующий вопрос: был ли у Загряжской уже определенный (но пока не сообщенный Жуковскому) план предотвращения беды, или она отправила Жуковского к Геккерену только поговорить и посмотреть, нельзя ли что-либо сделать?
У Геккерене жуковского ждали «открытия»: «о любви сына к Катерине; открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе». По поводу первого открытия Жуковский в скобках заметил: «моя ошибка насчет имени». Дело, кажется, надо представлять себе так. Геккерен сказал Жуковскому, что его сын любит не m-me Пушкину, а ее сестру. Жуковский назвал Александрину и ошибся. Второе открытие Геккерена невразумительно: о каком родстве мог открыться Геккерен? О, родстве с Дантесом? Но об этом говорили только сплетни, а в действительности его не было. Быть может, Геккерен говорил о далеком родстве или, вернее, свойстве Дантеса с Пушкиными?
Итак, уже 7 ноября, через 48 часов после вызова, была пущена в Оборот мысль об ошибочных подозрениях Пушкина и о предполагавшейся свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой. Как, у кого возникла эта мысль? Жуковский услышал ее впервые от Геккерена, но это не значит, что эта мысль его создание. Обычное представление таково: Геккерены так перепугались вызова и были в таком смятении, что готовы были пойти на все, что открывало просвет среди темных и тревожных обстоятельств. Прежде всего подставили вместо Натальи Николаевны Катерину Николаевну и заявили, что чувства Дантеса относились к последней. Ну, а если такое заявление поведет к женитьбе? Не беда: можно и Жениться, но только бы не драться, толькс бы не подставлять грудь под выстрел Пушкина! Такое обычное представление должно признать несоответствующим действительности. Проект сватовства Дантеса к Катерине Гончаровой существовал до вызова. Жуковский в одном из «дуэльных» писем к Пушкину упоминает о бывшем в его руках и полученном от Геккерена материальном доказательстве, что «дело, о коем теперь идут толки (т. е. женитьба Дантеса), затеяно было еще гораздо прежде вызова». Геккерен в письме к Загряжской от 13 ноября тоже говорит о том, что проект свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса существует уже давно и что сам он отрицательно относился к этому проекту по мотивам, известным Загряжской. В переписке отца Пушкина с дочерью, Ольгой Сергеевной, есть упоминания о возможном браке m-lle Гончаровой и Дантеса еще в письме от 2 ноября 1836 года. В этот день Ольга Сергеевна писала из Варшавы своему отцу: «Вы мне сообщаете новость о браке Гончаровой». А Сергей Львович Пушкин жил в то время в Москве, и, следовательно, по крайней мере во второй половине октября в Москву уже дошли слухи о возможной женитьбе[110 - См.: «Пушкин и его современники», вып. XII, с. 88 и 94.].
Итак, мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой существовала до вызова. В каких реальных формах нашла выражение эта мысль, определить затруднительно. Было ли Геккеренами только брошено на ветер слово о возможности брака Екатерины Гончаровой и Дантеса, или мысль эта дебатировалась подробно, неизвестно. Нам представляется наиболее вероятным, что и в самый момент возникновения проект женитьбы на Гончаровой уже представлялся средством отвести глаза Пушкину и скрыть от него истинный смысл ухаживаний Дантеса. Мысль была высказана не только между Дантесом и Геккереном, но пошла, как мы видели, и дальше и, следовательно, не могла быть чуждой и Загряжской с ее племянницами. Геккерен в свое время отринул проект женитьбы, но произошли новые события, Пушкин прислал вызов; надо было отбиться от поединка, – и вот отверженная мысль становится спасительной. Но ведь точно так же, как Геккерен, и Загряжская, не менее Геккерена желавшая потушить все дело, могла схватиться за отброшенную в свое время мысль о женитьбе как за якорь спасения. Как ни была мимолетна эта мысль, она тотчас же всплыла на поверхность, лишь только грянул гром и Пушкин послал свой вызов. Геккерен заметался, ища выхода, ища спасения от дуэли, а Дантес, лишь только осведомился о вызове, сейчас же принял позу.
В объяснениях своих перед русским министром иностранных дел графом Нессельроде и перед нидерландским правительством Геккерен определенно говорит о том, что Дантес решился на брак с исключительной целью не компрометировать дуэлью ш-ше Пушкину. «Сын мой, – писал Геккерен своему министру барону Верстолку, – понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре г-жи Пушкиной, молодой и хорошенькой особе, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак, вполне приличный с точки зрения света, так как девушка принадлежала к лучшим фамилиям страны, спасал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне подозрений, муж, разуверенный в мотивах ухаживания моего сына, не имел бы поводов считать себя оскорбленным (повторяю, клянусь честью, что он им никогда и не был), и, таким образом, поединок не имел бы уже смысла. Вследствие этого я полагал своей обязанностью дать согласие на этот брак»[111 - «Дуэль», 144.]. В письме к графу Нессельроде Геккерен выражается еще резче, еще определеннее. Опровергая предположение, выставлявшее Дантеса автором подметных писем, Геккерен пишет: «С какою целью? Разве для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света и отвергнутой мужем? Но подобное предположение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины. Или он хотел вызвать тем поединок, надеясь на благоприятный исход? Но три месяца тому назад он рисковал тем же; однако, будучи далек от подобной мысли, он предпочел безвозвратно себя связать с единственной целью – не компрометировать г-жу Пушкину». Прусский посланник Либерман, доносивший после смерти Пушкина об истории дуэли и почерпавший свои сведения, по всей вероятности, от самого Геккерена, – по поводу брака Дантеса сообщил, между прочим: «Чтобы положить конец поднявшемуся по поводу этого дела шуму, молодой барон. Геккерен совершенно добровольно решился жениться на сестре m-me Пушкиной, которой он также оказывал большое внимание. Хотя девушка не имела никакого состояния, приемный отец молодого человека дал свое согласие на брак».
Каковы были психологические мотивы решимости Дантеса «закабалить» себя браком на немилой женщине? Действительно ли для него на первом плане стояло счастье любимой женщины, и для того лишь только, чтобы не омрачить его, он, как рыцарь, приносил в жертву своей любви счастье своей жизни? Или же он попросту испугался поединка и ради устранения его, ради устранения возможного рокового исхода предпочел «закабалить» себя на всю жизнь? Такие вопросы ставил себе в 1842 году, значит, через пять лет после смерти Пушкина, его приятель Н. М. Смирнов. И не мог их разрешить. «Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которой он не мог побить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света, или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли, – это неизвестно». Прежде чем ответить на эти вопросы, приведем любопытные рассуждения князя Вяземского в письме к великому князю Михаилу Павловичу: «Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли о чем-либо подобном». В рассуждениях Вяземского следует отметить, что он и другие друзья Пушкина не решались приписать поступка Дантеса побуждению трусливого характера. Очень темны сообщения Вяземского о темных интригах Геккерена, которые будто бы вызвали Дантеса на такой поступок. Не согласнее ли с истиной вещей признать, что решение Дантеса, как и большинство человеческих решений, не является следствием одного какого-либо мотива, а есть результат взаимодействия мотивов? Остается, во всяком случае, фактом то, что он был влюблен в Наталью Николаевну, желал ее, тянулся к ней через все препятствия, не останавливаясь и перед смертельной опасностью. После всего того, что случилось в ноябре, не удержался же он от соблазна новых сближений с ней в январе после своей свадьбы! Чего достигал он, объявляя о своих матримониальных намерениях и вступая в брак? Да, конечно, прежде всего он мог питать надежду, что его решение отведет гнев Пушкина от головы Натальи Николаевны и охранит ее репутацию, ослабив светское злословие и светские сплетни. Но были и еще выгоды. Поединок оторвал, отдалил бы его навсегда от Пушкиной, а брак на ее сестре, наоборот, приблизил бы, облегчил бы возможность встреч, сближений под покровом родственных отношений и чувств. Стоило только бракосочетанию совершиться, как Дантес сейчас же стал пользоваться такой возможностью. О том, что между ними станет третий человек – Екатерина Гончарова, Дантес, по всей вероятности, и не думал: он слишком был легок для таких долгих мыслей и слишком победитель женских сердец. Екатерина Гончарова была вся в его власти, ибо она была страстно влюблена в него и, зная, конечно, об отношениях Дантеса к сестре, об его влюбленности в нее, ни на минуту не задумалась соединить свою руку с рукой Дантеса. «Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из разряда старых дев», – писал князь Вяземский, забывая добавить, что к этому, вполне законному, желанию присоединялось и страстное увлечение Геккереном. Припомним и рассказ княгини Вяземской о том, как Екатерина Николаевна содействовала свиданиям сестры с Дантесом, чтобы лишний раз насладиться лицезрением предмета своей страсти. А затем, как бы ни было сильно чувство любви Дантеса к Н. Н. Пушкиной, выливавшееся, главным образом, в стремлении к обладанию, оно не исключало возможности любовных достижений у других женщин. И даже перед Натальей Николаевной Дантес мог бы выиграть своим решением, – она должна была оценить самоотвержение, с каким он бросился в кабалу. И такое рассуждение могло быть у Дантеса, когда он решался объявить свое намерение жениться на Екатерине Гончаровой.
8
Возвратимся к Жуковскому, выслушавшему «открытия» Геккерена. По рассказу князя Вяземского, «Геккерен уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно сын его умоляет своего отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие». Свои действия и свое впечатление Жуковский отметил в конспективной записке кратко: «Мое слово. – Мысль все остановить». «Слово» Жуковского, по всей вероятности, верно передано в воспоминаниях со слов К. К. Данзаса: «Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи». Рассказ Геккерена открыл умственным очам Жуковского ранее не существовавшую возможность расстроить дуэль, внушил «мысль все остановить». Все оказывалось таким простым: стоило сказать Пушкину, что он ошибся, что Дантес желал в действительности не его жену, а Екатерину Гончарову, – и дело образуется.
Но сделать это было не легко. Геккерен открылся Жуковскому в своих планах, но потребовал от него строжайшего сохранения всего им сказанного в величайшей тайне от всех, и от Пушкина в том числе, представляя Жуковскому положение вещей в таком виде. Обстоятельства складывались в пользу брака, он сам дает свое разрешение, брак мог бы осуществиться, но теперь его осуществлению мешает вызов Пушкина, ибо теперь в свете скажут, что угроза поединка заставила Дантеса неожиданно и против воли жениться на Гончаровой; а такое мнение – мало того, что оно неверно, – оскорбительно и Геккеренами не может быть допущено. Но в то же время, раз их действительные желания таковы и раз вообще действительность такова, какою рисуют ее они, а не Пушкин, то поединок явно нелеп и должен быть устранен. Об этом уж пусть заботятся друзья Пушкина. А Дантес исполнит то, что велит ему долг: он принял вызов, примет и поединок и после поединка объявит о сватовстве своем к Екатерине Гончаровой. Поединок мог бы быть устранен, по мнению Геккеренов, в том случае, если бы Пушкин взял свой вызов обратно и притом отнюдь не на основании предполагаемой возможности брака: Геккерены не приняли бы вожделенного отказа от вызова, если бы он был мотивирован именно таким образом. Выходило так, что действительным основанием для прекращения дуэли была мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой, но Пушкин должен был взять обратно свой вызов на ином, мнимом основании, а не действительном. Жуковскому предстояло вести тонкую двойную игру. То, что Геккерен открыл ему под великим секретом, он должен был передать Пушкину под таким же секретом. Пушкин внутри себя должен был Решать в зависимости от узнанного под секретом, а вне, в рассуждениях с другими, он не мог опираться на внутренние основания.
Вслед за словами «мысль все остановить» в конспективной записке следуют краткие, но выразительные фразы: «Возвращение к Пушкину. Les rеvеlations. Его бешенство». Rеvеlations – это, конечно, те открытия, которые только что выслушал Жуковский от Геккерена. Открытия эти возмутили Пушкина до крайней степени, до степени «бешенства». Простодушному Жуковскому можно было отвести глаза, можно было внушить, что предметом исканий Дантеса была не жена Пушкина, а ее сестра! Но как можно было убедить в этом Пушкина, как можно было пытаться говорить об этом Пушкину, когда об ухаживаниях Дантеса за Натальей Николаевной, об его влюбленности в нее он знал от нее самой! Она сама созналась в легкомысленной снисходительности к ухаживаниям Дантеса; наконец, Пушкин видел, что «красивая наружность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство» произвели уже действие на сердце его жены. Смешно было убеждать Пушкина в противном, и потому нетрудно представить «бешенство» Пушкина в ответ на открытия Жуковского и Геккерена. В упоминании о проекте женитьбы он увидел низкую и трусливую попытку увильнуть от дуэли. Пушкин способен был на бешеное излияние своих страстей, но он был прямой человек. И если, вызывая Дантеса, он мог думать, что тот по-своему, но все-таки искренне увлечен Натальей Николаевной, то теперь этот, так легко отрекающийся от любимой им женщины человек показался ему неизмеримо низким, ничтожным и вдобавок презренным трусом, готовым ускользнуть от выстрела противника в немилые объятия. Не имея решительно никакой возможности поверить в свою ошибку (жена вместо свояченицы), Пушкин не поверил и серьезности намерения Дантеса сочетаться браком с Екатериной Николаевной Гончаровой: он думал, что Геккеренам было важно лишь добиться с его стороны отказа от вызова и сорвать поединок. Для этого надо было пустить мысль о браке, а потом можно было и отложить ее осуществление навеки.
Итак, предстояла тяжелая задача – переубедить Пушкина. Время было лучшим помощником.
Непоколебимость Пушкина в своем решении о дуэли нужно было сломить не натиском, а продолжительной и настойчивой осадой. Эту осаду повели Жуковский, Геккерен, Загряжская. Начались переговоры, в которые был вовлечен и Пушкин. Цель их была, с одной стороны, вывести Геккеренов из области слов о предложении, о свадьбе к определенным действиям теперь же, до наступления момента дуэли: с другой стороны – освоить Пушкина с мыслью о браке Гончаровой и Дантеса и убедить его в непременном осуществлении этой мысли.
Под 7 ноября Жуковский отметил еще следующие события: «свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского». День 8 ноября был посвящен переговорам. «Геккерн у Загряжской», – пометил Жуковский. Тут, очевидно, разговор сводился к убеждению Геккеренов поскорее выявить свои намерения. Жуковский был у Пушкина. «Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях». Под 9 ноября Жуковский занес опять неясное слово «les revelations de Неckеrn». Какие разоблачения сделал на этот раз Геккерен, остается неизвестным. Но в результате их Жуковский предложил посредничество. «Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания». Чтобы понять эту запись Жуковского, надо вспомнить двойственность его игры. Официально о предполагаемой женитьбе Дантеса Жуковский не мог говорить, ибо Геккерен взял с него слово держать это в тайне. Неофициальная попытка воздействовать на Пушкина не только была безуспешна, но и чрезмерно раздражила его. Таким образом, дело не подвинулось ни на шаг. Оставался путь официальный, требовавший в данном случае особого дипломатического такта, и Жуковский предложил себя в посредники по переговорам. Мало того, он наметил и первый пункт своей посреднической программы. По его мысли, необходимо было устроить свидание Дантеса с Пушкиным. В этом свидании Пушкин должен был играть роль человека, официально ни о чем не знающего, и пойти на выяснение мотивов своего немотивированного вызова. Затем вступал в дело Дантес и, очевидно, излагал свой настоящий взгляд насчет женитьбы. В результате Пушкин должен был взять вызов обратно. Таков был замысел Жуковского. Ему принадлежит инициатива посредничества и свидания, но для Пушкина эта инициатива должна была исходить от самого Геккерена. Официальная версия: именно Геккерен обратился к Жуковскому с просьбой о посредничестве. Так Геккерен и поступил. 9 ноября он написал Жуковскому следующее письмо:
9/21 ноября 1836 года.
Его так пышно озарит,
И вот, уж перешла в другое,
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься…
5
Дантес прибыл в Петербург в октябре 1833 года, в гвардию был принят в феврале 1834 года. По всей вероятности, тотчас же по приезде (а может быть, только по зачислении в гвардию), при содействии барона Геккерена, Дантес завязал светские знакомства и появился в высшем свете.
Если Дантес не успел познакомиться с Н. Н. Пушкиной зимой 1834 года до наступления великого поста, то в таком случае первая встреча их приходится на осень этого года, когда Наталья Николаевна блистала своей красотой в окружении старших сестер’. Почти с этого же времени надо вести историю его увлечения.
Ухаживания Дантеса были продолжительны и настойчивы. Впоследствии барон Геккерен в письме к своему министру иностранных дел от 30 января 1837 года сообщал: «Уже год, как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину». Сам Пушкин упоминает о двухлетнем постоянстве, с которым Дантес ухаживал за его женой.
Встретили ли его ухаживания какой-либо отклик или остались безответными? Решения этого вопроса станем искать не у врагов Пушкина, а у него самого, у его друзей, наконец, в самих событиях.
В письме к барону Геккерену Пушкин пишет: «Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и чувство, которое она, быть может, испытывала к этой возвышенной страсти, угасло в презрении»…[82 - Французский текст цитат дан в первом издании книги, обозначаемом в примечаниях кратко «Дуэль». Во второй части этого издания все тексты приведены в переводах, и указаний страниц этой части не делается. «Дуэль», 188.]. Уже намек, содержащийся в подчеркнутых строках, приводит к заключению, что Н. Н. Пушкина не осталась глуха и безответна к чувству Дантеса, которое представлялось ей возвышенною страстью. В черновике письма к Геккерену Пушкин высказывается еще решительнее и определеннее: «Поведение вашего сына было мне хорошо известно… но я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это удобным. Я знал, что хорошая фигура, несчастная страсть, двухлетнее постоянство всегда произведут в конце концов впечатление на молодую женщину, и тогда муж, если он не дурак, станет вполне естественно доверенным своей жены и хозяином ее поведения. Я признаюсь вам, что несколько беспокоился»[83 - «Переписка», III, N» 1105, с. 415.]. Князь Вяземский, упоминая в письме к великому князю Михаилу Павловичу об объяснениях, которые были у Пушкина с женой после получения анонимных писем, говорит, что невинная, в сущности, жена «призналась в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена»[84 - «Дуэль», 141.]. Можно из этих слов заключить, что Наталья Николаевна «увлеклась» красивым и модным кавалергардом, – но как сильно было ее увлечение, до каких степеней страсти оно поднялось? Что оно не было только данью легкомыслия и ветрености, можно судить по ее отношению к Дантесу после тяжелого инцидента с дуэлью в ноябре месяце, после сватовства и женитьбы Дантеса на сестре Натальи Николаевны. Наталья Николаевна знала гневный и страстный характер своего мужа, видела его страдания и его бешенство в ноябре 1836 года; казалось бы, всякое легкомыслие и всякая ветреность при таких обстоятельствах должны были исчезнуть навсегда. И что же? Вяземский, озабоченный охранением репутации Натальи Николаевны, все-таки не нашел в себе силы обойти молчанием ее поведение после свадьбы Дантеса: «Она должна бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, – и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности»[85 - «Дуэль», 145.]. Ясно, кажется, что сила притяжения, исходившего от Дантеса, была слишком велика, и ее не ослабили ни страх перед мужем, ни боязнь сплетен, ни даже то, что чувственные симпатии Дантеса, до сих пор отдававшиеся ей всецело, оказались поделенными между ней и ее сестрой. Дантес взволновал Наталью Николаевну так, как ее еще никто не волновал. «Il l’а troublе», – сказал Пушкин о Дантесе и своей жене. Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и ее, и она, стыдливо – Холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса. В конце концов, быть может, Дантес был как раз тем человеком, который был ей нужен. Ровесник по годам, он был ей пара по внешности своей, по внутреннему своему складу, по умственному уровню. Что греха таить: конечно, Дантес должен был быть для нее интереснее, чем Пушкин. Какой простодушной искренностью дышат ее слова княгине В. Ф. Вяземской в ответ на ее предупреждения и на ее запрос, чем может кончиться вся эта история с Дантесом! «Мне с ним (Дантесом) весело. Он мне просто нравится, будет то же, что было два года сряду». Княгиня В. Ф. Вяземская объяснила, что Пушкина чувствовала к Дантесу род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным[86 - «Русский apx.» 1888, II, 311.].
Итак, сердца Дантеса и Натальи Николаевны Пушкиной с неудержимой силой влеклись друг к другу. Кто же был прельстителем и кто завлеченным? Друзья Пушкина единогласно выдают Наталью Николаевну за жертву Дантеса. Этому должно было бы поверить уже и потому, что она не была натурой активной. Но были, вероятно, моменты, когда в этом поединке флирта доминировала она, возбуждая и завлекая Дантеса все дальше и дальше по опасному пути. Можно поверить, по крайней мере, барону Геккерену, когда он позднее, после смерти Пушкина, предлагал допросить Н. Н. Пушкину и, не имея возможности предвидеть, что подобные расспросы не будут допущены, заявлял: «Она (Пушкина) сама может засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела; она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся».
Какую роль играл в сближении Дантеса и Пушкина голландский посланник барон Геккерен, ставший с лета 1836 года приемным отцом француза? Был ли он сводником, старался ли он облегчить своему приемному сыну сношения с Пушкиной и привести эпизод светского флирта к вожделенному концу? Пушкин, друзья его и император Николай Павлович отвечали на этот вопрос категорическим да. У всех них единственным источником сведений о роли Геккерена было свидетельство Натальи Николаевны. «Она раскрыла мужу, – писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, – все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть»‘. «Хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, – сообщал император Николай I своему брату, – столь же мало оправдывали поведение Дантеса, а в особенности гнусного его отца… Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью… Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих»…[87 - «Дуэль», 141.] Пушкин самому Геккерену так характеризовал его роль: «Вы, представитель коронованной особы, – вы были отеческим сводником вашего побочного сына… Все его поведение, вероятно, было направлено вами: вы, вероятно, нашептывали ему те жалкие любезности, в которых он рассыпался, и те пошлости, которые он писал. Подобно развратной старухе, вы отыскивали по всем углам мою жену, чтобы говорить ей о любви вашего сына, и, когда он, больной в с<ифилисе>, оставался дома, принимая лекарства, вы уверяли, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: «отдайте мне моего сына»…[88 - «Переписка», III, № 1105, с. 412.]
На личности барона Геккерена мы уже останавливались, но согласимся сейчас с самыми худшими о нем отзывами, согласимся в том, что барон Геккерен был человек низких нравственных качеств; согласимся, что он не остановился бы ни перед какой гадостью, раз она была средством к известной цели. Но все, что мы о нем знаем, не дает нам права на заключение, что он совершал гадости ради них самих. Спрашивается, какой для него был смысл в сводничестве своему приемному сыну? Еще до усыновления он мог бы секретно оказывать Дантесу свое содействие, свое посредничество, но, связав с ним свое имя, он не стал бы рисковать своим именем и положением. Светский скандал был неизбежен, все равно – завершился бы флирт Дантеса тайной связью и он увез бы Наталью Николаевну за границу, или же Дантес и его приемный отец добились бы развода и второго брака для Н. Н. Пушкиной. Второе предположение, конечно, чистая утопия; разводы были в то время очень затруднены, и Николай Павлович не был их покровителем. Но в том или другом случае барон Геккерен, полномочный нидерландский министр, представитель интересов своего государства, подвергал не только словесному сраму, но и серьезному риску всю свою карьеру. Надо признать, что в жизненные расчеты барона Геккерена отнюдь не могло входить поощрение любовных ухаживаний Дантеса. А если мы приложим к барону Геккерену ту мерку, с которой подходили к нему многие из обвинявших его в сводничестве, и если на минуту согласимся с ними в том, что любовь Геккерена к Дантесу заходила далеко за пределы отцовской и была любовью мужчины к мужчине, то тогда обвинение в сводничестве станет невероятным. И если Геккерен был действительно человек извращенных нравов, то, ревнуя Н. Н. Пушкину к Дантесу, не сводить его с ней он был должен, а разлучать во что бы то ни стало.
До нас дошли оправдания Геккерена как раз против обвинений в сводничестве. Защищаясь он них, он ссылается на признания Пушкиной и на свидетельства лиц посторонних. «Я будто бы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой… Если г-жа Пушкина откажет мне в этом признании, то я обращусь к свидетельству двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь»‘. Трудно допустить, чтобы Геккерен писал эти признания графу Нессельроде на ветер, заранее будучи уверен, что ни Пушкину, ни высокопоставленных дам не спросят: ведь он знал, что его письма к графу Нессельроде будут известны императору Николаю, и должен был считаться с возможностью того, что император возьмет да и прикажет расспросить всех указанных им свидетельниц по делу! Наконец, Геккерен в своем оправдании указывает на один любопытный факт, остающийся невыясненным для нас и по сей день: «Мне скажут, что я должен был бы повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, – письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки»[89 - «Дуэль», 186. С этим указанием, кажется, следует сопоставлять тоже неясное сообщение князя Вяземского о письме, которое будто бы, по просьбе Геккеренов, должна была написать Наталья Николаевна к Дантесу («Дуэль», 143).]. Если поверить Геккерену, то этот факт с письмом заставляет многое в истории Дантеса и Н. Н. Пушкиной отнести за ее счет. К вышеприведенным словам Геккерен делает ехидное добавление: «Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала своих обязанностей». Итак, следуя соображениям здравого смысла, мы более склонны думать, что барон Геккерен не повинен в сводничестве: скорее всего, он действительно старался о разлучении Дантеса и Пушкиной. Вспоминается одна фраза из письма Геккерена к Дантесу, написанного из Петербурга после высылки последнего за границу: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал я, что заслужил от тебя такое отношение»[90 - «Дуэль», 279.]. Отношения, зачерченные в этих строках, не позволяют принять огульно утверждение о своднической роли барона Геккерена.
Ухаживанья Дантеса за Н. Н. Пушкиной стали сказкой города. Об них знали все и с пытливым вниманием следили за развитием драмы[91 - Граф Отто фон Брей, бывший в 1833–1836 годах секретарем баварского посольства и в феврале 1836 года переведенный из Петербурга в Париж, уже был свидетелем того тяжелого положения, которое привело Пушкина к трагическому концу. Граф Брей, живя в Петербурге, вращался в салонах Карамзиной и Виельгорских, поддерживал знакомство с князем П. А Вяземским. См.: Graf Otto von Bray-Steinburg. Denkwiirdigkeiten aus seinem Leben. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. K. vo/i Heigel. Lpz. 1901. S. 11, 14. A.O. «оссет вспоминал впоследствии, Что летом 1836 года шли толки, будто У Пушкина в семье что-то не ладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса. – «Русск. арх.», 1882, I, 246.]. Свет с зловещим любопытством наблюдал и ждал, чем разразится конфликт. Расцвет светских успехов Натальи Николаевны больно поражал сердце поэта. В марте 1836 года Пушкина была в наибольшей моде в петербургском свете, а Пушкин внимательным и близким наблюдателям казался все более и более скучным и эгоистичным. В октябре того же года, т. е. накануне рассылки пасквилей, в Петербурге говорили о Пушкиной гораздо больше, чем о ее муже. Анна Николаевна Вульф признавала, что о Пушкине в Тригорском больше говорили, чем в Петербурге. И никто из видевших не подумал о том, что надо помочь Пушкину, надо предупредить возможный роковой исход. «Вашему императорскому высочеству, – писал после смерти поэта князь Вяземский Михаилу Павловичу, – небезызвестно, что молодой Геккерен ухаживал за г-жею Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа»[92 - «Дуэль», 140.]. Михаилу же Павловичу писал то же после смерти поэта император Николай: «Давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение»[93 - «Пушкин», 358.]. И этот монарх, считавший для себя все позволенным, не сделал ровно ничего к предупреждению рокового исхода. П. И. Бартенев слышал от графа В. Ф. Адлерберга о его попытке устранить столкновение Пушкина с Дантесом: «Зимой 1836–1837 гг., на одном из бывших вечеров, граф В. Ф. Адлерберг увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами… Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу (который тогда был Главнокомандующим Гвардейским корпусом) и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали там украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную графом Адлербергом, не успели привести в исполнение»[94 - «Русск. арх.», 1892 г., т. II, с. 488. Из записной книжки «Р. А».].
«Неумеренное и довольно открытое ухаживание Дантеса за Н. Н. Пушкиной порождало сплетни в гостиных»[95 - «Дуэль», 140.]. Дантес и Пушкина встречались на балах, в великосветских гостиных. Местом встреч был также и дом ближайших друзей Пушкина, князей Вяземских. Хозяйка дома, обязанная принимать и Дантеса и Пушкина, была поставлена в двусмысленное положение. «Н. Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Оберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу-французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно – приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных»[96 - «Русск. арх.», 1888, II, 308. Сравн. там же, 1906, III, 619.].
У Карамзиных Дантес был принят наилучшим образом. В особенно аружеских отношениях он был с Андреем Николаевичем Карамзиным: после смерти Пушкина А. Н. Карамзин должен был употребить усилие, дабы не стать вновь на такую же дружескую ногу, как было раньше[97 - О хорошем отношении к Дантесу в семье Карамзиных можно заключить 1’ю письмам А. Н. Карамзина. – «Старина и новизна», кн. 17.].
Мы уже говорили о том, что обвинения Геккерена в сводничестве дряд ли имеют под собой почву. Но были добровольцы, принявшие на себя эту гнусную обязанность. К таковым молва упорно причисляет йдалию Григорьевну Полетику, незаконную дочь графа Григория Александровича Строганова. «Она была известна», говорит один современник, князь А. В. Мещерский, «в обществе как очень умная женщина, iio с весьма злым языком, в противоположность своему мужу, которого называли «Божьей коровкой»«[98 - С. А. Панчулидзев. Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826. СПб., 1906, с. 351.]. «Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех»[99 - А. П. Арапова, назв. соч. – «Нов. время», 1908, № 11425.]. С этой Идалией подружилась Наталья Николаевна; сближению сильно содействовало то обстоятельство, что отец Идалии, граф Г. А. Строганов, был двоюродным братом матери Пушкиной, Натальи Ивановны Гончаровой, рожденной Загряжской. Муж Полетики – в то время ротмистр Кавалергардского полка – был приятелем Дантеса. Идалия Полетика дожила до преклонной старости (умерла в 1889 году) и до самой смерти питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина[100 - О Полетике см. любопытный рассказ П. И. Бартенева. – «Русск. арх.», 1911, I, 175 и сл. Ее портрет – в «Альбоме Пушкинской юбилейной выставки в Императорской Академии наук», под редакцией JL Н. Майкова и Б. Л Мод- «левского. СПб., 1899.].
Причины этой ненависти нам неизвестны и непонятны. Редкие упоминания о Полетике в письмах Пушкина к жене рисуют довольно Фужественные отношения Пушкиных к Идалии. Но Идалия не платила им той же монетой. Княгиня В. Ф. Вяземская обвиняла Идалию Полетику в том, что она сводила Дантеса с Натальей Николаевной и предоставляла свою квартиру для свиданий. В последней главе истории дуэли мы еще встретимся с Полетикой.
Своеобразной пособницей Дантесу и Пушкиной явилась, по словам княгини В. Ф. Вяземской, и сестра Натальи Николаевны, девица Екатерина Гончарова. Она была влюблена в Дантеса и нарочно устраивала свидания своей сестры с Дантесом, чтобы только, в качестве наперсницы, повидать лишний раз предмет своей тайной страсти.
Пушкин знал об ухаживаниях Дантеса; он наблюдал, как крепло и росло увлечение Натальи Николаевны. До получения анонимных писем в ноябре он, по-видимому, не пришел к определенному решению, как ему поступить в таких обстоятельствах. Вяземский писал впоследствии: «Пушкин, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело к неслыханной катастрофе».
Сам Пушкин в письме к Геккерену пишет, что поведение его сына было ему давно известно и что он не мог оставаться равнодушным; но до поры, до времени он довольствовался ролью наблюдателя, откладывая свое вмешательство до удобного момента. В Пушкине сидел человек XVIII века, рационалист, действующий по известным максимам, которых было так много в этот век. Он теоретически верил тому, что при нарастании любовного конфликта жены с третьим человеком муж в определенный момент и может, и должен стать доверенным своей жены и взять в свои руки управление поведением жены. Но этот принцип, удобный теоретически, на практике оказался неудобоприменимым. Из письма Пушкина к барону Геккерену видно, что он только по получении анонимных писем счел момент подходящим для того, чтобы стать доверенным своей жены и хозяином ее поведения, но из дальнейших событий ясно, что Пушкин упустил момент: доверенность жены не оказалась полной, и полновластным хозяином поведения молодой женщины он уже не мог стать. Несмотря на свою пассивность, робость, Наталья Николаевна не имела сил подчиниться исключительно воле мужа и противостоять сладкому влиянию Дантеса.
6
«4 ноября поутру, – писал Пушкин в неотправленном письме к Бенкендорфу, – я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены»…[101 - «Переписка», III, Ns 1106, с. 416.] После некоторых справок и розысков Пушкин узнал, что «в тот же день семь или восемь лиц также получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Почти все, получившие эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не отослали их ко мне»[102 - Там же, 416.]. Нам известно, что такие письма получили князь П. А. Вяземский, граф М. Ю. Виельгорский, тетка графа В. А. Соллогуба – г-жа Васильчикова, Е. М. Хитрово. «4 ноября, – писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, – моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-либо оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем документ. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы». «В первых числах ноября 1836 г., – читаем мы в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба, – тетка моя Васильчикова, у которой я жил тогда на Большой Морской, велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое, запечатанное письмо с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком: Александру Сергеевичу Пушкину. Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить его я не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово». Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами»[103 - «Воспоминания графа В. А Соллогуба. Новые сведения о предсмертном поединке А. С. Пушкина». М., 1866, с. 41–44. Письмо Пушкина к Е. М. Хитрово до нас не дошло.].
В конце концов, анонимные письма, которым нередко приписывают гибель Пушкина, явились лишь случайным возбудителем. Не будь их, – все равно раньше или позже настал бы момент, когда Пушкин вышел бы из роли созерцателя любовной интриги его жены и Дантеса. В сущности, зная страстный и нетерпеливый характер Пушкина, надо удивляться лишь тому, что он так долго выдерживал роль созерцателя. Отсутствие реакции можно приписать тому состоянию оцепенения, в которое его в 1836 г. повергали все его дела: и материальные, и литературные, и иные. О состоянии Пушкина в последние месяцы жизни следовало бы сказать особо и подробно.
Анонимные письма были толчком, вытолкнувшим Пушкина из колеи созерцания. Чести его была нанесена обида, и обидчики должны были понести наказание. Обидчиками были те, кто подал повод к самой мысли об обиде, и те, кто причинил ее, кто составил и распространил пасквиль.
Повод был очевиден: ухаживания Дантеса. Лица, с которыми Пушкин говорил по этому поводу, по его собственным словам, «пришли в негодование от неосновательного и низкого оскорбления». «Все, повторяя, что поведение моей жены безукоризненно, говорили, что поводом к этой клевете послужило слишком явное ухаживание за нею Дантеса», – писал Пушкин в письме к Бенкендорфу[104 - «Переписка», III, N» 1106, с. 417.]. Произошли объяснения с женой, которые, конечно, только утвердили общую молву. Наталья Николаевна, передавая мужу об ухаживаниях Дантеса, подчеркивала его навязчивость, а заодно указала и на то, что старый Геккерен старался склонить ее к измене своему долгу; о себе она призналась только в том, что, по легкомыслию и ветрености, слишком снисходительно отнеслась к приставаниям Дантеса. Ее объяснения, если верить словам Вяземского и самого Пушкина, оставили в Пушкине впечатление полной ее невиновности и решительной гнусности ее соблазнителей. «Пушкин, – говорит Вяземский, – был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен; мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукой, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему в самое сердце»[105 - «Дуэль», 141.] «Я не мог допустить, – писал Пушкин в письме к Бенкендорфу, – чтобы в этой истории имя моей жены было связано клеветою с именем кого бы то ни было. Я просил сказать об этом г. Дантесу»[106 - «Переписка», III, № 1106, с. 417.].
4 ноября Пушкин получил анонимные письма и на другой день, 5 ноября[107 - Геккерн в письме к Загряжской от 13 ноября дает эту дату: «Depuis huit jours d’angoisses j’ai 6te si heureux et si tranquille hier au soir…» («Дуэль», 178). Промежуток восьми тревожных дней, кончившийся 12 ноября вечером, начался, следовательно, с 5 ноября, – дня, в который в руки барона Геккерена попал вызов, предназначенный Дантесу.], отправил вызов Дантесу на квартиру его приемного отца барона Геккерена. Как раз в этот день Дантес находился дежурным по дивизиону[108 - С. А. Панчулидзев сообщил мне касающиеся Дантеса выписки из приказов по Кавалергардскому полку. Из них видно, что 4 ноября поручику барону Дантесу-Геккерену за незнание людей своих взводов и за неосмотрительность в своей одежде командир полка сделал строжайший выговор и предписал нарядить его дежурным по дивизиону пять раз. Дежурил Дантес, во исполнение предписания, 5, 7, 9, 11 и 13 ноября. Эти даты важны для хронологии событий.], дома не был, и вызов попал в руки барона Геккерена. Со слов К. К. Данзаса сообщалось в свое время, что «Пушкин послал вызов Дантесу через офицера Генерального штаба К. О. Россета»[109 - Конспективная записка Жуковского, хранящаяся в принадлежащем Пушкинскому дому Музее А. Ф. Онегина в Париже, появляется в настоящей книге (см. ниже, в V отделе второй части нашей книги) впервые. При цитировании ее в дальнейшем изложении отдельных ссылок не делаю.].
Вряд ли это сообщение верно. Вызов был письменный. Когда графу Соллогубу пришлось позднее выступить в роли секунданта, д’Аршиак, секундант Дантеса, желая ознакомить его с обстоятельствами дела, предъявил ему документы и среди них «вызов Пушкина Дантесу». По всей вероятности, вызов был просто послан, а не передан кем-либо, ибо попасть не по назначению он мог только в том случае, если он был послан, и ни один секундант в мире не позволил бы себе лередать вызов кому-либо иному, а не вызываемому. Вызов Пушкина не был мотивирован.
Вызов Пушкина застал барона Геккерена врасплох. О его замешательстве, о его потрясении свидетельствуют и дальнейшее его поведение, и сообщения Жуковского в письмах к Пушкину. Он в тот же день отправился к Пушкину, заявил, что он принимает вызов за своего сына, и просил отложить окончательное решение на 24 часа – в надежде, что Пушкин обсудит еще раз все дело спокойнее и переменит свое решение. Через 24 часа, т. е. 6 ноября, Геккерен снова был у Пушкина и нашел его непоколебимым. Об этом его свидании с Пушкиным князь Вяземский рассказывает в письме к великому князю Михаилу Павловичу следующее: «Геккерен рассказывал Пушкину о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он говорил ему о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит здание всех своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т. е. своего сына, как он его называл, он тем не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю – я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло». Пушкин в письме к Бенкендорфу излагает кратко историю отсрочки: «Барон Геккерен является ко мне – и принимает вызов за г. Дантеса, прося отсрочки поединка на 15 дней».
7
Геккерену удалось отсрочить поединок и выиграть таким образом время. Теперь надо было употребить все старания к тому, чтобы устранить самое столкновение с возможным роковым исходом. Эта забота легла на сердце не одному Геккерену. Переполошилась, конечно, прежде всего Наталья Николаевна, а за нею – ее сестры и тетушка, покровительница всех сестер Гончаровых, – фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Вызов был сделан; срам, грозил ее любимой (fille de son coeur, sa fille d’adoption) племяннице, так хорошо принятой при дворе, и, конечно, ей самой, опекавшей и охранявшей сестер Гончаровых. Надо было сделать все, что только возможно, чтобы предупредить скандал, устранить дуэль, затушить дело. Ни Наталья Николаевна, ни ее сестры, конечно, ничего тут не могли сделать, и надо было действовать самой Загряжской. Она так и поступила и приняла деятельнейшее участие в развитии дальнейших событий. 6 ноября молодой Гончаров, брат Натальи Николаевны, съездил в Царское Село к Жуковскому, и в тот же день Жуковский был уже в Петербурге. Жуковский был другом, которого Пушкин слушался в мирских делах; Жуковский любил Пушкина и был миролюбив, и Гончаровы поступили правильно, вызвав его и вмешав в разыгравшиеся события.
Пушкин отправил вызов. Надо было убедить его отказаться от вызова. Над вопросом, как это сделать, ломали голову барон Геккерен, Е. И. Загряжская и Жуковский.
6 ноября Жуковский, по вызову Гончарова, приехал в Петербург и направился к Пушкину. В то время, как он находился у него, явился Геккерен. Это было второе посещение Пушкина Геккереном, когда он добился двухнедельной отсрочки. Жуковский оставил Пушкина и спустя некоторое время снова вернулся к нему. Конец дня Жуковский провел у графа Виельгорского и князя Вяземского. Очевидно, разговор шел о деле Пушкина. Вечером Жуковский получил письмо от Е. И. Загряжской.
На другой день, утром 7 ноября, Жуковский был уже у Загряжской. «От нее к Геккерену» – кратко гласит конспективная записка Жуковского, которою мы в дальнейшем изложении будем пользоваться; она является важнейшим источником для истории ноябрьского столкновения Пушкина с Дантесом; к сожалению, многие заметки в записке Жуковского слишком конспективны, писаны были про себя и толкованию не поддаются.
«Поутру у Загряжской. От нее к Геккерену. (Mes antеcеdents – неизвестное совершенное прежде бывшего)». Эти краткие указания нетрудно развернуть. Загряжская обратилась к Жуковскому с просьбой о содействии и помощи при разрешении конфликта и рассказала остававшиеся ему неизвестными обстоятельства, происшедшие до вызова. Эти «antеcеdents» мы не можем выяснить ни по заметкам Жуковского, ни по другим источникам. А что-то было действительно! На это есть намеки и в разорванном черновике письма Пушкина к Геккерену. От Загряжской Жуковский поехал к Геккерену. Ясно, что посещение Геккерена было продиктовано Жуковскому именно Загряжскою. Во всяком случае, сообщение Вяземского о том, что барон Геккерен бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому с уговорами о посредничестве, неверно, по крайней мере, по отношению к Жуковскому. Если Геккерен искал помощи в Жуковском и других, го и они, в свою очередь, искали его содействия. Неясно, было ли внушенное Загряжскою посещение Жуковским Геккерена первым опытом ее сношений с Геккереном, или они обменялись встречами еще до наступления этого момента и Жуковский явился официальным посредником? Неясен, по связи с только что поставленным, и следующий вопрос: был ли у Загряжской уже определенный (но пока не сообщенный Жуковскому) план предотвращения беды, или она отправила Жуковского к Геккерену только поговорить и посмотреть, нельзя ли что-либо сделать?
У Геккерене жуковского ждали «открытия»: «о любви сына к Катерине; открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе». По поводу первого открытия Жуковский в скобках заметил: «моя ошибка насчет имени». Дело, кажется, надо представлять себе так. Геккерен сказал Жуковскому, что его сын любит не m-me Пушкину, а ее сестру. Жуковский назвал Александрину и ошибся. Второе открытие Геккерена невразумительно: о каком родстве мог открыться Геккерен? О, родстве с Дантесом? Но об этом говорили только сплетни, а в действительности его не было. Быть может, Геккерен говорил о далеком родстве или, вернее, свойстве Дантеса с Пушкиными?
Итак, уже 7 ноября, через 48 часов после вызова, была пущена в Оборот мысль об ошибочных подозрениях Пушкина и о предполагавшейся свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой. Как, у кого возникла эта мысль? Жуковский услышал ее впервые от Геккерена, но это не значит, что эта мысль его создание. Обычное представление таково: Геккерены так перепугались вызова и были в таком смятении, что готовы были пойти на все, что открывало просвет среди темных и тревожных обстоятельств. Прежде всего подставили вместо Натальи Николаевны Катерину Николаевну и заявили, что чувства Дантеса относились к последней. Ну, а если такое заявление поведет к женитьбе? Не беда: можно и Жениться, но только бы не драться, толькс бы не подставлять грудь под выстрел Пушкина! Такое обычное представление должно признать несоответствующим действительности. Проект сватовства Дантеса к Катерине Гончаровой существовал до вызова. Жуковский в одном из «дуэльных» писем к Пушкину упоминает о бывшем в его руках и полученном от Геккерена материальном доказательстве, что «дело, о коем теперь идут толки (т. е. женитьба Дантеса), затеяно было еще гораздо прежде вызова». Геккерен в письме к Загряжской от 13 ноября тоже говорит о том, что проект свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса существует уже давно и что сам он отрицательно относился к этому проекту по мотивам, известным Загряжской. В переписке отца Пушкина с дочерью, Ольгой Сергеевной, есть упоминания о возможном браке m-lle Гончаровой и Дантеса еще в письме от 2 ноября 1836 года. В этот день Ольга Сергеевна писала из Варшавы своему отцу: «Вы мне сообщаете новость о браке Гончаровой». А Сергей Львович Пушкин жил в то время в Москве, и, следовательно, по крайней мере во второй половине октября в Москву уже дошли слухи о возможной женитьбе[110 - См.: «Пушкин и его современники», вып. XII, с. 88 и 94.].
Итак, мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой существовала до вызова. В каких реальных формах нашла выражение эта мысль, определить затруднительно. Было ли Геккеренами только брошено на ветер слово о возможности брака Екатерины Гончаровой и Дантеса, или мысль эта дебатировалась подробно, неизвестно. Нам представляется наиболее вероятным, что и в самый момент возникновения проект женитьбы на Гончаровой уже представлялся средством отвести глаза Пушкину и скрыть от него истинный смысл ухаживаний Дантеса. Мысль была высказана не только между Дантесом и Геккереном, но пошла, как мы видели, и дальше и, следовательно, не могла быть чуждой и Загряжской с ее племянницами. Геккерен в свое время отринул проект женитьбы, но произошли новые события, Пушкин прислал вызов; надо было отбиться от поединка, – и вот отверженная мысль становится спасительной. Но ведь точно так же, как Геккерен, и Загряжская, не менее Геккерена желавшая потушить все дело, могла схватиться за отброшенную в свое время мысль о женитьбе как за якорь спасения. Как ни была мимолетна эта мысль, она тотчас же всплыла на поверхность, лишь только грянул гром и Пушкин послал свой вызов. Геккерен заметался, ища выхода, ища спасения от дуэли, а Дантес, лишь только осведомился о вызове, сейчас же принял позу.
В объяснениях своих перед русским министром иностранных дел графом Нессельроде и перед нидерландским правительством Геккерен определенно говорит о том, что Дантес решился на брак с исключительной целью не компрометировать дуэлью ш-ше Пушкину. «Сын мой, – писал Геккерен своему министру барону Верстолку, – понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре г-жи Пушкиной, молодой и хорошенькой особе, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак, вполне приличный с точки зрения света, так как девушка принадлежала к лучшим фамилиям страны, спасал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне подозрений, муж, разуверенный в мотивах ухаживания моего сына, не имел бы поводов считать себя оскорбленным (повторяю, клянусь честью, что он им никогда и не был), и, таким образом, поединок не имел бы уже смысла. Вследствие этого я полагал своей обязанностью дать согласие на этот брак»[111 - «Дуэль», 144.]. В письме к графу Нессельроде Геккерен выражается еще резче, еще определеннее. Опровергая предположение, выставлявшее Дантеса автором подметных писем, Геккерен пишет: «С какою целью? Разве для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света и отвергнутой мужем? Но подобное предположение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставило моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины. Или он хотел вызвать тем поединок, надеясь на благоприятный исход? Но три месяца тому назад он рисковал тем же; однако, будучи далек от подобной мысли, он предпочел безвозвратно себя связать с единственной целью – не компрометировать г-жу Пушкину». Прусский посланник Либерман, доносивший после смерти Пушкина об истории дуэли и почерпавший свои сведения, по всей вероятности, от самого Геккерена, – по поводу брака Дантеса сообщил, между прочим: «Чтобы положить конец поднявшемуся по поводу этого дела шуму, молодой барон. Геккерен совершенно добровольно решился жениться на сестре m-me Пушкиной, которой он также оказывал большое внимание. Хотя девушка не имела никакого состояния, приемный отец молодого человека дал свое согласие на брак».
Каковы были психологические мотивы решимости Дантеса «закабалить» себя браком на немилой женщине? Действительно ли для него на первом плане стояло счастье любимой женщины, и для того лишь только, чтобы не омрачить его, он, как рыцарь, приносил в жертву своей любви счастье своей жизни? Или же он попросту испугался поединка и ради устранения его, ради устранения возможного рокового исхода предпочел «закабалить» себя на всю жизнь? Такие вопросы ставил себе в 1842 году, значит, через пять лет после смерти Пушкина, его приятель Н. М. Смирнов. И не мог их разрешить. «Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которой он не мог побить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света, или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли, – это неизвестно». Прежде чем ответить на эти вопросы, приведем любопытные рассуждения князя Вяземского в письме к великому князю Михаилу Павловичу: «Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли о чем-либо подобном». В рассуждениях Вяземского следует отметить, что он и другие друзья Пушкина не решались приписать поступка Дантеса побуждению трусливого характера. Очень темны сообщения Вяземского о темных интригах Геккерена, которые будто бы вызвали Дантеса на такой поступок. Не согласнее ли с истиной вещей признать, что решение Дантеса, как и большинство человеческих решений, не является следствием одного какого-либо мотива, а есть результат взаимодействия мотивов? Остается, во всяком случае, фактом то, что он был влюблен в Наталью Николаевну, желал ее, тянулся к ней через все препятствия, не останавливаясь и перед смертельной опасностью. После всего того, что случилось в ноябре, не удержался же он от соблазна новых сближений с ней в январе после своей свадьбы! Чего достигал он, объявляя о своих матримониальных намерениях и вступая в брак? Да, конечно, прежде всего он мог питать надежду, что его решение отведет гнев Пушкина от головы Натальи Николаевны и охранит ее репутацию, ослабив светское злословие и светские сплетни. Но были и еще выгоды. Поединок оторвал, отдалил бы его навсегда от Пушкиной, а брак на ее сестре, наоборот, приблизил бы, облегчил бы возможность встреч, сближений под покровом родственных отношений и чувств. Стоило только бракосочетанию совершиться, как Дантес сейчас же стал пользоваться такой возможностью. О том, что между ними станет третий человек – Екатерина Гончарова, Дантес, по всей вероятности, и не думал: он слишком был легок для таких долгих мыслей и слишком победитель женских сердец. Екатерина Гончарова была вся в его власти, ибо она была страстно влюблена в него и, зная, конечно, об отношениях Дантеса к сестре, об его влюбленности в нее, ни на минуту не задумалась соединить свою руку с рукой Дантеса. «Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из разряда старых дев», – писал князь Вяземский, забывая добавить, что к этому, вполне законному, желанию присоединялось и страстное увлечение Геккереном. Припомним и рассказ княгини Вяземской о том, как Екатерина Николаевна содействовала свиданиям сестры с Дантесом, чтобы лишний раз насладиться лицезрением предмета своей страсти. А затем, как бы ни было сильно чувство любви Дантеса к Н. Н. Пушкиной, выливавшееся, главным образом, в стремлении к обладанию, оно не исключало возможности любовных достижений у других женщин. И даже перед Натальей Николаевной Дантес мог бы выиграть своим решением, – она должна была оценить самоотвержение, с каким он бросился в кабалу. И такое рассуждение могло быть у Дантеса, когда он решался объявить свое намерение жениться на Екатерине Гончаровой.
8
Возвратимся к Жуковскому, выслушавшему «открытия» Геккерена. По рассказу князя Вяземского, «Геккерен уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно сын его умоляет своего отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие». Свои действия и свое впечатление Жуковский отметил в конспективной записке кратко: «Мое слово. – Мысль все остановить». «Слово» Жуковского, по всей вероятности, верно передано в воспоминаниях со слов К. К. Данзаса: «Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи». Рассказ Геккерена открыл умственным очам Жуковского ранее не существовавшую возможность расстроить дуэль, внушил «мысль все остановить». Все оказывалось таким простым: стоило сказать Пушкину, что он ошибся, что Дантес желал в действительности не его жену, а Екатерину Гончарову, – и дело образуется.
Но сделать это было не легко. Геккерен открылся Жуковскому в своих планах, но потребовал от него строжайшего сохранения всего им сказанного в величайшей тайне от всех, и от Пушкина в том числе, представляя Жуковскому положение вещей в таком виде. Обстоятельства складывались в пользу брака, он сам дает свое разрешение, брак мог бы осуществиться, но теперь его осуществлению мешает вызов Пушкина, ибо теперь в свете скажут, что угроза поединка заставила Дантеса неожиданно и против воли жениться на Гончаровой; а такое мнение – мало того, что оно неверно, – оскорбительно и Геккеренами не может быть допущено. Но в то же время, раз их действительные желания таковы и раз вообще действительность такова, какою рисуют ее они, а не Пушкин, то поединок явно нелеп и должен быть устранен. Об этом уж пусть заботятся друзья Пушкина. А Дантес исполнит то, что велит ему долг: он принял вызов, примет и поединок и после поединка объявит о сватовстве своем к Екатерине Гончаровой. Поединок мог бы быть устранен, по мнению Геккеренов, в том случае, если бы Пушкин взял свой вызов обратно и притом отнюдь не на основании предполагаемой возможности брака: Геккерены не приняли бы вожделенного отказа от вызова, если бы он был мотивирован именно таким образом. Выходило так, что действительным основанием для прекращения дуэли была мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой, но Пушкин должен был взять обратно свой вызов на ином, мнимом основании, а не действительном. Жуковскому предстояло вести тонкую двойную игру. То, что Геккерен открыл ему под великим секретом, он должен был передать Пушкину под таким же секретом. Пушкин внутри себя должен был Решать в зависимости от узнанного под секретом, а вне, в рассуждениях с другими, он не мог опираться на внутренние основания.
Вслед за словами «мысль все остановить» в конспективной записке следуют краткие, но выразительные фразы: «Возвращение к Пушкину. Les rеvеlations. Его бешенство». Rеvеlations – это, конечно, те открытия, которые только что выслушал Жуковский от Геккерена. Открытия эти возмутили Пушкина до крайней степени, до степени «бешенства». Простодушному Жуковскому можно было отвести глаза, можно было внушить, что предметом исканий Дантеса была не жена Пушкина, а ее сестра! Но как можно было убедить в этом Пушкина, как можно было пытаться говорить об этом Пушкину, когда об ухаживаниях Дантеса за Натальей Николаевной, об его влюбленности в нее он знал от нее самой! Она сама созналась в легкомысленной снисходительности к ухаживаниям Дантеса; наконец, Пушкин видел, что «красивая наружность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство» произвели уже действие на сердце его жены. Смешно было убеждать Пушкина в противном, и потому нетрудно представить «бешенство» Пушкина в ответ на открытия Жуковского и Геккерена. В упоминании о проекте женитьбы он увидел низкую и трусливую попытку увильнуть от дуэли. Пушкин способен был на бешеное излияние своих страстей, но он был прямой человек. И если, вызывая Дантеса, он мог думать, что тот по-своему, но все-таки искренне увлечен Натальей Николаевной, то теперь этот, так легко отрекающийся от любимой им женщины человек показался ему неизмеримо низким, ничтожным и вдобавок презренным трусом, готовым ускользнуть от выстрела противника в немилые объятия. Не имея решительно никакой возможности поверить в свою ошибку (жена вместо свояченицы), Пушкин не поверил и серьезности намерения Дантеса сочетаться браком с Екатериной Николаевной Гончаровой: он думал, что Геккеренам было важно лишь добиться с его стороны отказа от вызова и сорвать поединок. Для этого надо было пустить мысль о браке, а потом можно было и отложить ее осуществление навеки.
Итак, предстояла тяжелая задача – переубедить Пушкина. Время было лучшим помощником.
Непоколебимость Пушкина в своем решении о дуэли нужно было сломить не натиском, а продолжительной и настойчивой осадой. Эту осаду повели Жуковский, Геккерен, Загряжская. Начались переговоры, в которые был вовлечен и Пушкин. Цель их была, с одной стороны, вывести Геккеренов из области слов о предложении, о свадьбе к определенным действиям теперь же, до наступления момента дуэли: с другой стороны – освоить Пушкина с мыслью о браке Гончаровой и Дантеса и убедить его в непременном осуществлении этой мысли.
Под 7 ноября Жуковский отметил еще следующие события: «свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского». День 8 ноября был посвящен переговорам. «Геккерн у Загряжской», – пометил Жуковский. Тут, очевидно, разговор сводился к убеждению Геккеренов поскорее выявить свои намерения. Жуковский был у Пушкина. «Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях». Под 9 ноября Жуковский занес опять неясное слово «les revelations de Неckеrn». Какие разоблачения сделал на этот раз Геккерен, остается неизвестным. Но в результате их Жуковский предложил посредничество. «Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания». Чтобы понять эту запись Жуковского, надо вспомнить двойственность его игры. Официально о предполагаемой женитьбе Дантеса Жуковский не мог говорить, ибо Геккерен взял с него слово держать это в тайне. Неофициальная попытка воздействовать на Пушкина не только была безуспешна, но и чрезмерно раздражила его. Таким образом, дело не подвинулось ни на шаг. Оставался путь официальный, требовавший в данном случае особого дипломатического такта, и Жуковский предложил себя в посредники по переговорам. Мало того, он наметил и первый пункт своей посреднической программы. По его мысли, необходимо было устроить свидание Дантеса с Пушкиным. В этом свидании Пушкин должен был играть роль человека, официально ни о чем не знающего, и пойти на выяснение мотивов своего немотивированного вызова. Затем вступал в дело Дантес и, очевидно, излагал свой настоящий взгляд насчет женитьбы. В результате Пушкин должен был взять вызов обратно. Таков был замысел Жуковского. Ему принадлежит инициатива посредничества и свидания, но для Пушкина эта инициатива должна была исходить от самого Геккерена. Официальная версия: именно Геккерен обратился к Жуковскому с просьбой о посредничестве. Так Геккерен и поступил. 9 ноября он написал Жуковскому следующее письмо:
9/21 ноября 1836 года.