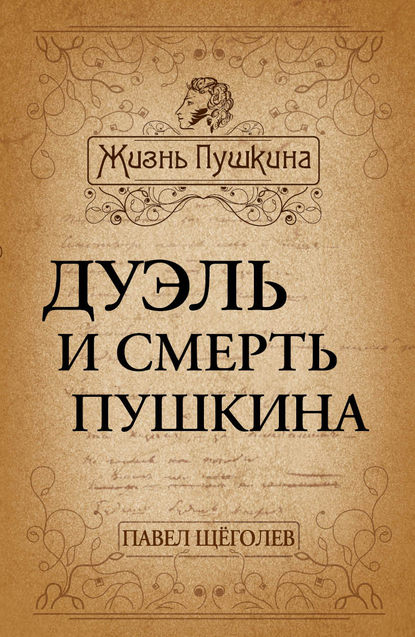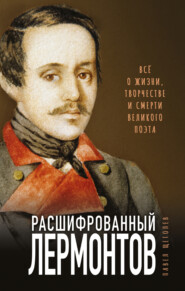По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дуэль и смерть Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut…
…………
С головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.
«Кокетничать я тебе не мешаю, – обращался Пушкин к жене, – но требую от тебя холодности, благопристойности, важности – не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему». И еще: «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не сотте il faut, все, что vulgar… Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос». Но, несмотря на то, что жизнь в петербургском свете сильно преобразила московскую бчрышню Гончарову, ей было далеко до пушкинского идеала. Ложные шаги, которые ей ставил в строку Пушкин, снисходительная податливость на всяческие ухаживания делали этот идеал для нее недостижимым.
Как бы в ответ на постоянные напоминания мужа о кокетстве, Наталья Николаевна свои письма наполняла изъявлениями ревности; где бы ни был ее муж, она подозревала его в увлечениях, изменах, ухаживаниях. Она непрестанно выражала свою ревность и к прошлому, и к настоящему. Будучи невестой, она ревновала Пушкина к какой-то княгине Голицыной; когда Пушкин оставался в Петербурге, подозревала его в увлечении А. О. Смирновой; обвиняла его в увлечении неведомой Полиной Шишковой; опасалась его слабости к Софье Николаевне Карамзиной; сердилась на него за то, что он будто бы ходит в Летний сад искать привязанностей; не доверяла доброте его отношений к Евпраксии Вульф; думала в 1835 году, что между Пушкиным и А. П. Керн что-то есть… Когда читаешь из письма в письмо о многократных намеках, продиктованных ревностью Натальи Николаевны, то испытываешь нудную скуку однообразия и останавливаешься на мысли: а ведь это даже и не ревность, а просто привычный тон, привычная форма! Ревновать в письмах значило придать письму интересность. Ревность в ее письмах – манера, а не факт. Подчиняясь тону ее писем, и Пушкин усвоил особенную манеру писать о женщинах, с которыми он встречался. Он пишет о любой женщине, как будто наперед знает, что Наталья Николаевна обвинит его в увлечениях и изменах, и он заранее ослабляет силу ударов, которые будут на него направлены. Он стремится изобразить встреченную им женщину возможно непривлекательнее как с внешней, так и с внутренней стороны. Таковы отзывы его об А. А. Фукс, об А. П. Керн и др. Справедливо говорит автор, собравший указания на ревность Н. Н. Пушкиной: «(О женщинах) Пушкин писал (в письмах к жене) для себя и потомства, а для жены, и судить по ним об его истинных отношениях к людям, особенно к женщинам, не следует»[58 - «Ревность Н. Н. Пушкиной», статья Н. О. Лернера. – «Русск. стар.». CXXIV. 1905, ноябрь, с. 424–425.]. С другой стороны, нельзя не отметить отсутствия хороших отзывов о женщинах в письмах Пушкина к жене.
Не вдаемся в разбор вопроса, каковы фактические основания для Ревности Н. Н. Пушкиной. Княгиня В. Ф. Вяземская передавала П. И. Бартеневу, что в истории с Дантесом «Пушкин сам виноват был; он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновою (ур. тр. Соллогуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама она оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено»[59 - «Русск. арх.», 1888, II, с. 309.]. Верно, во всяком случае, то, что любовь Пушкина к жене в течение долгого времени была искреннейшим и заветнейшим чувством. А. Н. Вульф жестоко ошибся, предположив в 1830 году, что первым делом Пушкина будет развратить жену. Вульф, действительно, хорошо знал Пушкина в его отношениях к женщинам и ярко изобразил в своем дневнике полный своеобразной эротики любовный быт своих современников (или, по крайней мере, группы, кружка); примеров же и образцом он считал Пушкина[60 - Дневник А. Н. Вульфа в издании «Пушкин и его современники», XXI–XXII; сравн. мои статьи: «Любовный быт в пушкинскую эпоху». – «День», 11 и 20 ноября 1915 г.]. Но Вульф не знал всего о любовном чувстве: ему была ведома феноменология пушкинской любви, но ее «вещь в себе» была для него за семью печатями. Ему была близка любовь земная и чужда любовь небесная. Вульф и в жизни остался достойным гнева и жалости эмпириком любви, а Пушкин, для которого любовь была гармонией, изведал высший восторг небесной любви. Но Пушкин с стыдливой застенчивостью скрывал свои чувства от всех и – от Вульфа. Этот «развратитель» упрашивает жену: «Не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения»[61 - Переписка, III, № 805, с. 101.]. Не станем приводить доказательств любви Пушкина к жене: их сколько угодно и в письмах, и в произведениях. Надо только внести поправки: с любовью к жене уживались увлечения другими женщинами, а затем в истории его чувств к жене был свой кризис.
Но, принимая к сведению свидетельства об увлечениях Пушкина, вроде рассказов княгини Вяземской, мы все-таки думаем, что чувство ревности у Н. Н. Пушкиной не возникало из душевных глубин, а вырастало из настроений порядка элементарного: увлечение Пушкина его предпочтение другой женщине было тяжким оскорблением, жестокой обидой ей, первой красавице, заласканной неустанным обожанием света, двора и самого государя. Итак, ревность Н. Н. Пушкиной – или манера в письмах, или оскорбленная гордость красивой женщины.
Но попробуем углубиться в вопрос об отношениях Пушкиных, попробуем измерить глубину чувства Натальи Николаевны. Пушкин имел дар строгим и ясным взором созерцать действительность в ее наготе в страстные моменты своей жизни. С четкой ясностью он оценил отношение к себе девицы Натальи Гончаровой, от первой встречи с которой у него закружилась голова. Его горькое признание в письме к матери невесты (в апреле 1830 г.) не обратило достаточного внимания биографов Пушкина, а оно – документ первоклассного значения для истории его семейной жизни. В нем нужно взвесить и оценить каждое слово: «Только привычка и продолжительная близость может доставить мне ее (Натальи Николаевны) привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия». Пушкин сознавал, что он не нравится семнадцатилетней московской барышне, и надеялся снискать ее привязанность (не любовь!) по праву привычки и продолжительной близости. Самое согласие ее на брак было для него символом свободы ее сердца и… равнодушия к нему.
В своей великой скромности Пушкин думал, что в нем нет ничего, что могло бы понравиться блестящей красавице, и в моменты работы совести приходил к сознанию, что Наталью Николаевну отделяет от него его прошлое. В один из таких моментов создан набросок:
Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю –
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья –
Уныло слушаешь меня.
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей;
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот…
Не прошлое Пушкина отделяло от него Наталью Николаевну. С горьким признанием Пушкина о равнодушии к нему невесты надо тотчас же сопоставить теснейшим образом к признанию примыкающее свидетельство о чувствах к нему молодой жены:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо – Холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле –
И делишь наконец мой пламень поневоле.
Пытаются внести ограничения в это признание. Так, Н. О. Лернер, возражая против толкования В. Я. Брюсова[62 - В. Я. Брюсов писал по поводу этого стихотворения: «Разве не страшно думать о тех «долгих молениях», с которыми Пушкин должен был обращаться к своей жене, прося ее ласк, о том, что она отдавалась ему «нежна, без упоенья», «едва ответствовала» его восторгу и делила, наконец, его пламень лишь «поневоле»«(«Из жизни Пушкина». – «Новый путь», 1903, июнь, с. 102).], рассуждает: «Брюсов видит здесь доказательство того, что Н. Н. Пушкина была чужда своему мужу. Между тем это признание говорит, самое большое, лишь о физиологическом несоответствии супругов в известном отношении и холодности сексуального темперамента молодой женщины»[63 - Сочинения Пушкина, ред. С. А. Венгерова, т. VI. 426.]. Неправильность этого рассуждения обнаруживается при сопоставлении признания в стихах с признанием в прозе. Если в начале любви было равнодушие с ее стороны и надежда на привычку и близость с его стороны, то откуда же возникнуть страсти? откуда быть соответствию восторгов? Да, Наталья Николаевна исправно несла свои супружеские обязанности, рожала мужу детей, ревновала, и при всем том можно утверждать, что сердце ее не раскрылось, что страсть любви не пробудилась. В дремоте было сковано ее чувство. Любовь Пушкина не разбудила ни ее души, ни ее чувства. Можно утверждать, что круг, заключавший внутреннюю жизнь Пушкина, и круг, заключавший внутреннюю жизнь Натальи Николаевны, не пересеклись и остались эксцентрическими.
Наталья Николаевна дала согласие стать женой Пушкина – и оставалась равнодушна и спокойна сердцем; она стала женой Пушкина – и сохранила сердечное спокойствие и равнодушие к своему мужу.
4
Зимний сезон 1833–1834 года был необычайно обилен балами, раутами. В этот сезон Наталья Николаевна Пушкина получила возможность бывать на дворцовых балах. «Двору хотелось», чтобы она «танцевала в Аничкове», – и Пушкин был пожалован, в самом конце 1833 года, в камер-юнкеры. Впрочем, кончился сезон для Натальи Николаевны плохо. «Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла», – писал Пушкин П. В. Нащокину в начале марта 1834 года: «Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцевали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: слава богу! балы с плеч долой! Жена во дворце. Вдруг, смотрю – с нею делается дурно – я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает»[64 - Переписка, III, № 783, с. 83. 58]. 15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми в калужскую деревню своей матери, отчасти для поправления расстроенного здоровья, а главным образом для свидания со своими сестрами. Обе сестры, Александра и Екатерина Гончаровы, были старше Натальи Николаевны, сидели в девах, почти теряя надежду выйти замуж, и ужасно страдали от капризов своей матери, в ужасающей обстановке семейной жизни. По выражению Пушкина, мать, Наталья Ивановна, ходуном ходила около дочерей, крепко-накрепко заключенных’.
Н. Н. Пушкина, беспредельно любившая сестер, во время летнего пребывания в деревне раздумалась над устройством их судьбы и решила увезти их от матери в Петербург, пристроить во дворец фрейлинами и выдать замуж. Своими проектами она делилась с мужем, но он отнесся к ним без всякого увлечения. Он был решительно против того, чтобы его жена хлопотала о помещении своих сестер во дворец. «Подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы… Мой совет тебе и сестрам – быть подалее от двора: в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться»[65 - Переписка, III, № 829, с. 127.]. По поводу планов Натальи Николаевны выдать одну сестру за Хлюстина, а другую за Убри Пушкин шутливо пишет жене: «Ничему не бывать: оба влюбятся в тебя, – ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии». Наконец, к решению жены взять сестер в Петербург Пушкин отнесся отрицательно: «Эй, женка, смотри… Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, покамест малы; родители, когда уж престарелы, а то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия не будет».
Доводы Пушкина не убедили Наталью Николаевну, и осенью 1834 года сестры ее – Азинька и Коко – появились в Петербурге и поселились под одной кровлей с Пушкиными. Мать Пушкина сообщала дочери Ольге Сергеевне об этом событии 7 ноября 1834 года: «Натали тяжела, ее сестры вместе с нею, нанимают пополам с ними очень хороший дом. Он (Пушкин) говорит, что в материальном отношении это его устраивает, но немного стесняет, так как он не любит, чтобы расстраивались его хозяйские привычки»[66 - «Пушкин и его современники», XIV, 21]. Сестры, несомненно, способствовали заполнению досугов Натальи Николаевны, тотчас же по приезде вошли в круг ее жизни и вместе с нею стали выезжать в свет[67 - Там же, XIV, 25. «Натали и ее сестры выезжают ежедневно», – пишет о Декабря 1835 года О. С. Павлищева; ср. там же, XVII–XVIII, 197.].
Красота Натальи Николаевны рядом с сестрами казалась еще ослепительнее. Вот впечатления Ольги Сергеевны Павлищевой: «Александр представил меня своим женам: теперь у него целых три. Они красивы, его невестки, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У нее теперь прекрасный цвет лица и она чуть пополнела: единственное, чего ей не хватало»[68 - Там же, XVII–XVIII, 168.].
Старшая – Екатерина Николаевна, «высокая, рослая»[69 - Слова княгини В. Ф. Вяземской. – «Русск. арх.», 1888, II, 309.], «далеко не красавица, представляла собою довольно оригинальный тип скорее южанки с черными волосами». Вскоре по приезде в Петербург, 6 декабря 1834 года, она была взята, по желанию Н. К. Загряжской, фрейлиной ко двору[70 - Архив министерства имп. двора – дело о фрейлинах.].
Средняя – Александра Николаевна[71 - Александра Николаевна родилась 27 июля 1811 года (А. В. Средин, назв. ст. в «Старых годах», с. 113). Во фрейлины она была пожалована уже после смерти Пушкина, в январе 1839 года (Арх. мин. имп. двора – дело о фрейлинах).], по словам А. П. Араповой, «высоким ростом и безукоризненным сложением подходила к Наталье Николаевне, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, – одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне»[72 - «Новое время», 1907, № 11413.]. Это свидетельство А. П. Араповой находит полное подтверждение во впечатлениях баронессы Е. Н. Вревской, которая видела двух сестер – Наталью и Александру – в декабре 1836 года: «Пушкина в полном смысле слова восхитительна, но зато ее сестра (Александра) показалась мне такой безобразной, что я разразилась смехом, когда осталась одна в карете с моей сестрой»[73 - «Пушкин и его современники», XXI–XXII, 321.]. Княгиня Вяземская говорила П. И. Бартеневу, что Александра Николаевна должна была заняться хозяйством и детьми, так как выезды и наряды поглощали все время ее сестер. Пушкин, по словам княгини, подружился с ней… Анна Николаевна Вульф 12 февраля 1836 года сообщала своей сестре Евпраксии, со слов сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, что Пушкин очень сильно волочится за своей невесткой Александрой и что жена стала отъявленной кокеткой[74 - Отношения Пушкина к Александре Гончаровой рассмотрены подробно во второй части нашей книги, VIII отдел.].
Сама Наталья Николаевна в 1834–1835 годах была в апогее своей красоты. Даем место двум восторженным отзывам современников, пораженных ее красотой. Один из них встретил Наталью Николаевну в салоне князя В. Ф. Одоевского, и эта встреча навсегда врезалась в его память. «Вдруг – никогда этого не забуду – входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал – incessu dea patebat! Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком»[75 - «Русск. арх.», 1878, 1, 442.].
Другой отзыв принадлежит графу В. А. Соллогубу: «Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге… она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень многих молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видевших»[76 - Воспоминания графа В. А. Соллогуба. СПб., 1887, с. 117–118.].
И такие невинные обожатели, как юный граф В. А. Соллогуб, привлекали раздраженное внимание Пушкина: в начале 1836 года Пушкин посылал вызов и ему. Но опытные светские ловеласы были, конечно, страшнее: для них само имя Пушкина не имело значения. Ведь Пушкин был какой-то там сочинитель и не чиновный камер-юнкер! Впрочем, в этом взгляде сходилась с ними и жена Пушкина. По заключению недружелюбно настроенного наблюдателя, барона М. А. Корфа, «прелестная жена, любя славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и – по странному противоречию, – пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, исподтишка немножко гнушалась тем, что она, светская женщина par excellence, привязана к мужу homme de lettres, – эта жена с семейственными и хозяйственными хлопотами привила к Пушкину ревность»…[77 - Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. Cпб., 1899, с. 251]
Самое близкое участие в семейной жизни Пушкиных принимала родная тетка сестер – Екатерина Ивановна Загряжская, фрейлина высочайшего двора (род. в 1799 году, умерла в 1842 году)[78 - Петербургский Некрополь, II, СПб., 1912, с. 176.]. Она была самым близким лицом в доме Пушкиных и в развитии дуэльного недоразумения в ноябре 1836 года играла видную роль, а потому нелишне сказать о ней несколько слов. Тетушка заменила племянницам мать, устраивала их положение при дворе и в свете, оказывала им материальную поддержку, была для них моральным авторитетом, руководительницей и советчицей – и пользовалась огромным влиянием. Особенно она любила Наталью Николаевну, баловала ее, платила за ее наряды. Как-то взгрустнув о своем материальном положении, Пушкин писал (21 сентября 1835 г.) жене: «У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны». Наталья Николаевна платила тетке такою любовью и преданностью, что мать ее, Наталья Ивановна Гончарова, ревновала свою дочь к своей сестре. Если судить по письмам Пушкина к жене, он хорошо относился к Екатерине Ивановне за ее любовь к своей жене. Он доверялся Загряжской и оставлял жену на тетку, когда уезжал из Петербурга. В письмах он не забывает переслать ей почтительный поклон, поцеловать с ермоловской нежностью ручку и поблагодарить ее за заботы о жене. Вот несколько отрывков из писем Пушкина к жене, рисующих отношения Пушкиных к Екатерине Ивановне Загряжской: «К тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя, как со всем этим поступить» (3 октября 1832 г.). «Благодари мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ей ручки и прошу, ради бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей» (21 октября 1833 г.). «А Катерина Ивановна? как это она тебя пустила на божию волю» (30 октября г.). Когда уезжала Наталья Николаевна в калужскую деревню, тетка тревожилась и постоянно справлялась о ней у Пушкина. «Она тебя очень целует и по тебе хандрит» (22 апреля 1834 г.). «Целые девять дней от тебя не было известий. Тетка перепугалась» (28 апреля г.). «Зачем ты тетке не пишешь? Какая ты безалаберная!» (И июня 1834 г.). «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете; я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала» (11 июля 1834 г.). Любовь Загряжской к Наталье Николаевне была хорошо известна в свете и при дворе. Когда Пушкин представлялся императрице Александре Федоровне, императрица спросила у него о здоровье уехавшей жены и добавила:,Sa tante est bien impatiente de la voir a bonne sante, la fille de son coeur, sa fille d’adoption»…[79 - Запись в дневнике Пушкина – см.: Дневник Пушкина. Под ред. Б. JI. Модзалевского. М. – П., 1923, с. 12.]. О близком участии Загряжской в семейных делах Пушкиных дает определенное свидетельство сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. «Загряжская бывала всякий день в доме Пушкиных, делала из Натальи Николаевны все, что хотела, имела большое влияние на Пушкина»[80 - «Пушкин и его современники», XII, 108.].
Так складывались обстоятельства семейной жизни Пушкина с зимы 1834–1835 года. Но еще до женитьбы своей, будучи женихом, Пушкин, отвечая Плетневу на его замечания о свете, писал 29 сентября 1830 года: «Все, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна etc.»[81 - Переписка, II, № 476, 176.]. Пушкин вспоминает те оправдания женской неверности, которые он вложил в «Цыганах» в уста старику, утешающему Алеко:
Утешься, друг; она дитя;
Твое унынье безрассудно;
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское – шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна:
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она;
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut…
…………
С головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.
«Кокетничать я тебе не мешаю, – обращался Пушкин к жене, – но требую от тебя холодности, благопристойности, важности – не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему». И еще: «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не сотте il faut, все, что vulgar… Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос». Но, несмотря на то, что жизнь в петербургском свете сильно преобразила московскую бчрышню Гончарову, ей было далеко до пушкинского идеала. Ложные шаги, которые ей ставил в строку Пушкин, снисходительная податливость на всяческие ухаживания делали этот идеал для нее недостижимым.
Как бы в ответ на постоянные напоминания мужа о кокетстве, Наталья Николаевна свои письма наполняла изъявлениями ревности; где бы ни был ее муж, она подозревала его в увлечениях, изменах, ухаживаниях. Она непрестанно выражала свою ревность и к прошлому, и к настоящему. Будучи невестой, она ревновала Пушкина к какой-то княгине Голицыной; когда Пушкин оставался в Петербурге, подозревала его в увлечении А. О. Смирновой; обвиняла его в увлечении неведомой Полиной Шишковой; опасалась его слабости к Софье Николаевне Карамзиной; сердилась на него за то, что он будто бы ходит в Летний сад искать привязанностей; не доверяла доброте его отношений к Евпраксии Вульф; думала в 1835 году, что между Пушкиным и А. П. Керн что-то есть… Когда читаешь из письма в письмо о многократных намеках, продиктованных ревностью Натальи Николаевны, то испытываешь нудную скуку однообразия и останавливаешься на мысли: а ведь это даже и не ревность, а просто привычный тон, привычная форма! Ревновать в письмах значило придать письму интересность. Ревность в ее письмах – манера, а не факт. Подчиняясь тону ее писем, и Пушкин усвоил особенную манеру писать о женщинах, с которыми он встречался. Он пишет о любой женщине, как будто наперед знает, что Наталья Николаевна обвинит его в увлечениях и изменах, и он заранее ослабляет силу ударов, которые будут на него направлены. Он стремится изобразить встреченную им женщину возможно непривлекательнее как с внешней, так и с внутренней стороны. Таковы отзывы его об А. А. Фукс, об А. П. Керн и др. Справедливо говорит автор, собравший указания на ревность Н. Н. Пушкиной: «(О женщинах) Пушкин писал (в письмах к жене) для себя и потомства, а для жены, и судить по ним об его истинных отношениях к людям, особенно к женщинам, не следует»[58 - «Ревность Н. Н. Пушкиной», статья Н. О. Лернера. – «Русск. стар.». CXXIV. 1905, ноябрь, с. 424–425.]. С другой стороны, нельзя не отметить отсутствия хороших отзывов о женщинах в письмах Пушкина к жене.
Не вдаемся в разбор вопроса, каковы фактические основания для Ревности Н. Н. Пушкиной. Княгиня В. Ф. Вяземская передавала П. И. Бартеневу, что в истории с Дантесом «Пушкин сам виноват был; он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновою (ур. тр. Соллогуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама она оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено»[59 - «Русск. арх.», 1888, II, с. 309.]. Верно, во всяком случае, то, что любовь Пушкина к жене в течение долгого времени была искреннейшим и заветнейшим чувством. А. Н. Вульф жестоко ошибся, предположив в 1830 году, что первым делом Пушкина будет развратить жену. Вульф, действительно, хорошо знал Пушкина в его отношениях к женщинам и ярко изобразил в своем дневнике полный своеобразной эротики любовный быт своих современников (или, по крайней мере, группы, кружка); примеров же и образцом он считал Пушкина[60 - Дневник А. Н. Вульфа в издании «Пушкин и его современники», XXI–XXII; сравн. мои статьи: «Любовный быт в пушкинскую эпоху». – «День», 11 и 20 ноября 1915 г.]. Но Вульф не знал всего о любовном чувстве: ему была ведома феноменология пушкинской любви, но ее «вещь в себе» была для него за семью печатями. Ему была близка любовь земная и чужда любовь небесная. Вульф и в жизни остался достойным гнева и жалости эмпириком любви, а Пушкин, для которого любовь была гармонией, изведал высший восторг небесной любви. Но Пушкин с стыдливой застенчивостью скрывал свои чувства от всех и – от Вульфа. Этот «развратитель» упрашивает жену: «Не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения»[61 - Переписка, III, № 805, с. 101.]. Не станем приводить доказательств любви Пушкина к жене: их сколько угодно и в письмах, и в произведениях. Надо только внести поправки: с любовью к жене уживались увлечения другими женщинами, а затем в истории его чувств к жене был свой кризис.
Но, принимая к сведению свидетельства об увлечениях Пушкина, вроде рассказов княгини Вяземской, мы все-таки думаем, что чувство ревности у Н. Н. Пушкиной не возникало из душевных глубин, а вырастало из настроений порядка элементарного: увлечение Пушкина его предпочтение другой женщине было тяжким оскорблением, жестокой обидой ей, первой красавице, заласканной неустанным обожанием света, двора и самого государя. Итак, ревность Н. Н. Пушкиной – или манера в письмах, или оскорбленная гордость красивой женщины.
Но попробуем углубиться в вопрос об отношениях Пушкиных, попробуем измерить глубину чувства Натальи Николаевны. Пушкин имел дар строгим и ясным взором созерцать действительность в ее наготе в страстные моменты своей жизни. С четкой ясностью он оценил отношение к себе девицы Натальи Гончаровой, от первой встречи с которой у него закружилась голова. Его горькое признание в письме к матери невесты (в апреле 1830 г.) не обратило достаточного внимания биографов Пушкина, а оно – документ первоклассного значения для истории его семейной жизни. В нем нужно взвесить и оценить каждое слово: «Только привычка и продолжительная близость может доставить мне ее (Натальи Николаевны) привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия». Пушкин сознавал, что он не нравится семнадцатилетней московской барышне, и надеялся снискать ее привязанность (не любовь!) по праву привычки и продолжительной близости. Самое согласие ее на брак было для него символом свободы ее сердца и… равнодушия к нему.
В своей великой скромности Пушкин думал, что в нем нет ничего, что могло бы понравиться блестящей красавице, и в моменты работы совести приходил к сознанию, что Наталью Николаевну отделяет от него его прошлое. В один из таких моментов создан набросок:
Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю –
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья –
Уныло слушаешь меня.
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей;
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот…
Не прошлое Пушкина отделяло от него Наталью Николаевну. С горьким признанием Пушкина о равнодушии к нему невесты надо тотчас же сопоставить теснейшим образом к признанию примыкающее свидетельство о чувствах к нему молодой жены:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо – Холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле –
И делишь наконец мой пламень поневоле.
Пытаются внести ограничения в это признание. Так, Н. О. Лернер, возражая против толкования В. Я. Брюсова[62 - В. Я. Брюсов писал по поводу этого стихотворения: «Разве не страшно думать о тех «долгих молениях», с которыми Пушкин должен был обращаться к своей жене, прося ее ласк, о том, что она отдавалась ему «нежна, без упоенья», «едва ответствовала» его восторгу и делила, наконец, его пламень лишь «поневоле»«(«Из жизни Пушкина». – «Новый путь», 1903, июнь, с. 102).], рассуждает: «Брюсов видит здесь доказательство того, что Н. Н. Пушкина была чужда своему мужу. Между тем это признание говорит, самое большое, лишь о физиологическом несоответствии супругов в известном отношении и холодности сексуального темперамента молодой женщины»[63 - Сочинения Пушкина, ред. С. А. Венгерова, т. VI. 426.]. Неправильность этого рассуждения обнаруживается при сопоставлении признания в стихах с признанием в прозе. Если в начале любви было равнодушие с ее стороны и надежда на привычку и близость с его стороны, то откуда же возникнуть страсти? откуда быть соответствию восторгов? Да, Наталья Николаевна исправно несла свои супружеские обязанности, рожала мужу детей, ревновала, и при всем том можно утверждать, что сердце ее не раскрылось, что страсть любви не пробудилась. В дремоте было сковано ее чувство. Любовь Пушкина не разбудила ни ее души, ни ее чувства. Можно утверждать, что круг, заключавший внутреннюю жизнь Пушкина, и круг, заключавший внутреннюю жизнь Натальи Николаевны, не пересеклись и остались эксцентрическими.
Наталья Николаевна дала согласие стать женой Пушкина – и оставалась равнодушна и спокойна сердцем; она стала женой Пушкина – и сохранила сердечное спокойствие и равнодушие к своему мужу.
4
Зимний сезон 1833–1834 года был необычайно обилен балами, раутами. В этот сезон Наталья Николаевна Пушкина получила возможность бывать на дворцовых балах. «Двору хотелось», чтобы она «танцевала в Аничкове», – и Пушкин был пожалован, в самом конце 1833 года, в камер-юнкеры. Впрочем, кончился сезон для Натальи Николаевны плохо. «Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла», – писал Пушкин П. В. Нащокину в начале марта 1834 года: «Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцевали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: слава богу! балы с плеч долой! Жена во дворце. Вдруг, смотрю – с нею делается дурно – я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает»[64 - Переписка, III, № 783, с. 83. 58]. 15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми в калужскую деревню своей матери, отчасти для поправления расстроенного здоровья, а главным образом для свидания со своими сестрами. Обе сестры, Александра и Екатерина Гончаровы, были старше Натальи Николаевны, сидели в девах, почти теряя надежду выйти замуж, и ужасно страдали от капризов своей матери, в ужасающей обстановке семейной жизни. По выражению Пушкина, мать, Наталья Ивановна, ходуном ходила около дочерей, крепко-накрепко заключенных’.
Н. Н. Пушкина, беспредельно любившая сестер, во время летнего пребывания в деревне раздумалась над устройством их судьбы и решила увезти их от матери в Петербург, пристроить во дворец фрейлинами и выдать замуж. Своими проектами она делилась с мужем, но он отнесся к ним без всякого увлечения. Он был решительно против того, чтобы его жена хлопотала о помещении своих сестер во дворец. «Подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы… Мой совет тебе и сестрам – быть подалее от двора: в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться»[65 - Переписка, III, № 829, с. 127.]. По поводу планов Натальи Николаевны выдать одну сестру за Хлюстина, а другую за Убри Пушкин шутливо пишет жене: «Ничему не бывать: оба влюбятся в тебя, – ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии». Наконец, к решению жены взять сестер в Петербург Пушкин отнесся отрицательно: «Эй, женка, смотри… Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, покамест малы; родители, когда уж престарелы, а то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия не будет».
Доводы Пушкина не убедили Наталью Николаевну, и осенью 1834 года сестры ее – Азинька и Коко – появились в Петербурге и поселились под одной кровлей с Пушкиными. Мать Пушкина сообщала дочери Ольге Сергеевне об этом событии 7 ноября 1834 года: «Натали тяжела, ее сестры вместе с нею, нанимают пополам с ними очень хороший дом. Он (Пушкин) говорит, что в материальном отношении это его устраивает, но немного стесняет, так как он не любит, чтобы расстраивались его хозяйские привычки»[66 - «Пушкин и его современники», XIV, 21]. Сестры, несомненно, способствовали заполнению досугов Натальи Николаевны, тотчас же по приезде вошли в круг ее жизни и вместе с нею стали выезжать в свет[67 - Там же, XIV, 25. «Натали и ее сестры выезжают ежедневно», – пишет о Декабря 1835 года О. С. Павлищева; ср. там же, XVII–XVIII, 197.].
Красота Натальи Николаевны рядом с сестрами казалась еще ослепительнее. Вот впечатления Ольги Сергеевны Павлищевой: «Александр представил меня своим женам: теперь у него целых три. Они красивы, его невестки, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У нее теперь прекрасный цвет лица и она чуть пополнела: единственное, чего ей не хватало»[68 - Там же, XVII–XVIII, 168.].
Старшая – Екатерина Николаевна, «высокая, рослая»[69 - Слова княгини В. Ф. Вяземской. – «Русск. арх.», 1888, II, 309.], «далеко не красавица, представляла собою довольно оригинальный тип скорее южанки с черными волосами». Вскоре по приезде в Петербург, 6 декабря 1834 года, она была взята, по желанию Н. К. Загряжской, фрейлиной ко двору[70 - Архив министерства имп. двора – дело о фрейлинах.].
Средняя – Александра Николаевна[71 - Александра Николаевна родилась 27 июля 1811 года (А. В. Средин, назв. ст. в «Старых годах», с. 113). Во фрейлины она была пожалована уже после смерти Пушкина, в январе 1839 года (Арх. мин. имп. двора – дело о фрейлинах).], по словам А. П. Араповой, «высоким ростом и безукоризненным сложением подходила к Наталье Николаевне, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, – одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне»[72 - «Новое время», 1907, № 11413.]. Это свидетельство А. П. Араповой находит полное подтверждение во впечатлениях баронессы Е. Н. Вревской, которая видела двух сестер – Наталью и Александру – в декабре 1836 года: «Пушкина в полном смысле слова восхитительна, но зато ее сестра (Александра) показалась мне такой безобразной, что я разразилась смехом, когда осталась одна в карете с моей сестрой»[73 - «Пушкин и его современники», XXI–XXII, 321.]. Княгиня Вяземская говорила П. И. Бартеневу, что Александра Николаевна должна была заняться хозяйством и детьми, так как выезды и наряды поглощали все время ее сестер. Пушкин, по словам княгини, подружился с ней… Анна Николаевна Вульф 12 февраля 1836 года сообщала своей сестре Евпраксии, со слов сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, что Пушкин очень сильно волочится за своей невесткой Александрой и что жена стала отъявленной кокеткой[74 - Отношения Пушкина к Александре Гончаровой рассмотрены подробно во второй части нашей книги, VIII отдел.].
Сама Наталья Николаевна в 1834–1835 годах была в апогее своей красоты. Даем место двум восторженным отзывам современников, пораженных ее красотой. Один из них встретил Наталью Николаевну в салоне князя В. Ф. Одоевского, и эта встреча навсегда врезалась в его память. «Вдруг – никогда этого не забуду – входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал – incessu dea patebat! Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком»[75 - «Русск. арх.», 1878, 1, 442.].
Другой отзыв принадлежит графу В. А. Соллогубу: «Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге… она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень многих молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видевших»[76 - Воспоминания графа В. А. Соллогуба. СПб., 1887, с. 117–118.].
И такие невинные обожатели, как юный граф В. А. Соллогуб, привлекали раздраженное внимание Пушкина: в начале 1836 года Пушкин посылал вызов и ему. Но опытные светские ловеласы были, конечно, страшнее: для них само имя Пушкина не имело значения. Ведь Пушкин был какой-то там сочинитель и не чиновный камер-юнкер! Впрочем, в этом взгляде сходилась с ними и жена Пушкина. По заключению недружелюбно настроенного наблюдателя, барона М. А. Корфа, «прелестная жена, любя славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и – по странному противоречию, – пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, исподтишка немножко гнушалась тем, что она, светская женщина par excellence, привязана к мужу homme de lettres, – эта жена с семейственными и хозяйственными хлопотами привила к Пушкину ревность»…[77 - Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. Cпб., 1899, с. 251]
Самое близкое участие в семейной жизни Пушкиных принимала родная тетка сестер – Екатерина Ивановна Загряжская, фрейлина высочайшего двора (род. в 1799 году, умерла в 1842 году)[78 - Петербургский Некрополь, II, СПб., 1912, с. 176.]. Она была самым близким лицом в доме Пушкиных и в развитии дуэльного недоразумения в ноябре 1836 года играла видную роль, а потому нелишне сказать о ней несколько слов. Тетушка заменила племянницам мать, устраивала их положение при дворе и в свете, оказывала им материальную поддержку, была для них моральным авторитетом, руководительницей и советчицей – и пользовалась огромным влиянием. Особенно она любила Наталью Николаевну, баловала ее, платила за ее наряды. Как-то взгрустнув о своем материальном положении, Пушкин писал (21 сентября 1835 г.) жене: «У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны». Наталья Николаевна платила тетке такою любовью и преданностью, что мать ее, Наталья Ивановна Гончарова, ревновала свою дочь к своей сестре. Если судить по письмам Пушкина к жене, он хорошо относился к Екатерине Ивановне за ее любовь к своей жене. Он доверялся Загряжской и оставлял жену на тетку, когда уезжал из Петербурга. В письмах он не забывает переслать ей почтительный поклон, поцеловать с ермоловской нежностью ручку и поблагодарить ее за заботы о жене. Вот несколько отрывков из писем Пушкина к жене, рисующих отношения Пушкиных к Екатерине Ивановне Загряжской: «К тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя, как со всем этим поступить» (3 октября 1832 г.). «Благодари мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ей ручки и прошу, ради бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей» (21 октября 1833 г.). «А Катерина Ивановна? как это она тебя пустила на божию волю» (30 октября г.). Когда уезжала Наталья Николаевна в калужскую деревню, тетка тревожилась и постоянно справлялась о ней у Пушкина. «Она тебя очень целует и по тебе хандрит» (22 апреля 1834 г.). «Целые девять дней от тебя не было известий. Тетка перепугалась» (28 апреля г.). «Зачем ты тетке не пишешь? Какая ты безалаберная!» (И июня 1834 г.). «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете; я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала» (11 июля 1834 г.). Любовь Загряжской к Наталье Николаевне была хорошо известна в свете и при дворе. Когда Пушкин представлялся императрице Александре Федоровне, императрица спросила у него о здоровье уехавшей жены и добавила:,Sa tante est bien impatiente de la voir a bonne sante, la fille de son coeur, sa fille d’adoption»…[79 - Запись в дневнике Пушкина – см.: Дневник Пушкина. Под ред. Б. JI. Модзалевского. М. – П., 1923, с. 12.]. О близком участии Загряжской в семейных делах Пушкиных дает определенное свидетельство сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. «Загряжская бывала всякий день в доме Пушкиных, делала из Натальи Николаевны все, что хотела, имела большое влияние на Пушкина»[80 - «Пушкин и его современники», XII, 108.].
Так складывались обстоятельства семейной жизни Пушкина с зимы 1834–1835 года. Но еще до женитьбы своей, будучи женихом, Пушкин, отвечая Плетневу на его замечания о свете, писал 29 сентября 1830 года: «Все, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна etc.»[81 - Переписка, II, № 476, 176.]. Пушкин вспоминает те оправдания женской неверности, которые он вложил в «Цыганах» в уста старику, утешающему Алеко:
Утешься, друг; она дитя;
Твое унынье безрассудно;
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское – шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна:
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она;