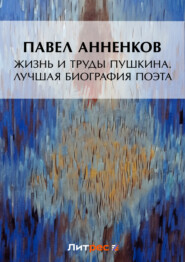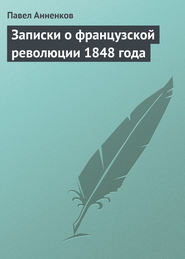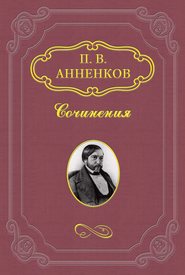По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пушкин в Александровскую эпоху
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В своих «Материалах для биографии Пушкина» 1855 года г. Анненков приводит цитату в четыре стиха из превосходного стихотворения «Наперсница волшебной старины», им же и найденного и впервые опубликованного. К сожалению, второй стих цитаты он, по недосмотру, написал так: «Мой юный ум напевами пленила» вместо: «Мой юный слух…», как следовало бы и как значится действительно в пьесе, целиком приводимой через несколько страниц г. Анненковым в тех же своих «Материалах». Ошибка в цитате дает г. Ефремову случай показаться в полном блеске библиографической эрудиции своей и приступить к довольно забавному следственному процессу. Он задается вопросом: не было ли двух списков стихотворения, и порешив его отрицательно, переходит к главному пункту обвинения: «Кроме того, г. Анненков, по-видимому, плохо читал или плохо переписывал рукописи поэта для издания, потому что нередко одно и то же стихотворение воспроизводилось в разных местах издания в разных же видах (I, 509). И затем следует указание ошибки. Каким образом на примере одной погрешности в цитате из четырех стихов, отъятой от пьесы, имеющей их 26, г. Ефремов мог придти к заключению, что старое издание 1855 года печатало цельные стихотворения, с одного и того же списка, разно в различных местах, – не надо спрашивать: все это только средство разыграть, под прикрытием якобы серьезного труда, комедию скандального характера. Можно только пожалеть, что она дается на страницах, посвященных деятельности гениального русского человека. Таких фальшфейеров библиографической эрудиции, освещающих пустоту, у г. Ефремова множество. Если бы разобрать всю массу примечаний, собранных им только в двух первых томах своего издания, можно бы удивить читателя тою долей натянутости толкований, искусственных выводов из самых простых данных и посылок, какую они заключают в себе. К счастью его, подобная, столь же обширная, сколько бесполезная работа не скоро найдет охотников. Добраться в указаниях и заметках г. Ефремова до истинного значения фактов, заняться извлечением из этой груды всяких существенных и пустых подробностей какого-либо серьезного материала для истории нашей печати представляется делом в высшей степени трудным. Кажется, что г. Ефремов даже и рассчитывал на эту трудность и на сопряженную с нею относительную безответственность для себя.
Иногда преувеличения его и непонимание прямого смысла того, что он читает, по истине поразительны. Тот же составитель «Материалов для биографии Пушкина» касается в одном позднейшем своем труде известного общества «Зеленой лампы», членом которого состоял одно время наш поэт, и определяет общество это, как простое оргиаческое, не имевшее никакой политической окраски, занимавшееся преимущественно театральными делами и устраивавшее у себя пиры и зрелища далеко не целомудренного характера. Определение это не понравилось г. Ефремову и отразилось в его уме и понимании следующим образом: «…Анненков неосновательно свел (общество «Зеленой лампы») на степень развратно-грязного и шутовского, смешав его даже с татариновской сектой» (прим. 1, т. I, 559). Ничего подобного не делал г. Анненков, но что нужды? Надо же поместить наперед изготовленное, крепкое слово на предназначенное ему заранее место. В тех случаях, когда по отсутствию документов и предлога к употреблению такого слова оно становится затруднительным, г. Ефремов прибегает к восклицательным и вопросительным знакам. В этом роде весьма замечательна пара знаков удивления, пристегнутая им к словам г. Анненкова о кишиневском послании поэта, 1821 года, В.Л. Давыдову. Одна часть послания, им же г. Анненковым и найденного в бумагах поэта, была приведена им в статье о Пушкине («Вестник Европы» 1874 г., № 1), а от сообщения другой биограф отказался, ограничившись передачей стихов, где поэт извещает о своем говений у Инзова, и заменил все следовавшее затем словами: «и так далее до последних пределов глумления». Передавая эти строки г. Анненкова, г. Ефремов сопровождает их двумя знаками восклицания в скобках (т. I, стр. 558). Что означают они, какому движению мысли г. Ефремова призваны отвечать? Сомневается ли он в том, что в минуты страсти поэт мог нисходить до глумления над очень важными предметами, – на это есть свидетельства, которые г. Ефремов лучше знает, чем кто-либо другой, – или г. Ефремов негодует на непочтительное обозначение словом глумление произведений такого рода, как вышеупомянутое послание В.Л. Давыдову? Нелегко понять редактора нового издания в роли защитника, как и в роли обвинителя. Но все это еще безделица в сравнении с тем, что является в других местах под пером редактора нового издания.
Привычка подменять мысли и намерения, встречаемые автором, теми, которые приходятся более по вкусу самого редактора, должна была довести его до неблагонадежных заявлений. Пример такого печального результата библиографических разысканий г. Ефремова мы видим в примечании, которым он сопровождает два знаменитых послания Пушкина «К цензору». Выписываем существенную его часть целиком: оно дает образчик всей манеры г. Ефремова относиться к своей задаче редактора.
«Два послания цензору», говорит он, – «…в сокращенном виде явились в VII т. издания г. Анненкова, который имел мужество заявить, что они под его рукою стали лучше, ибо очищены им: «Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц и событий, они теряют всякий признак сатирического или полемического направления и только могут служить образцом строгого и высокого понимания одного из важнейших общественных служений». Действительно, мы видим цензурную рукопись VII тома и не нашли в этих стихотворениях ни одного цензурного исключения, так что вся честь очистки принадлежит г. Анненкову, который и заглавие им дал «Посланий к Аристарху…» (I, стр. 572).
Читатель уже догадывается, чего надо ожидать в конце от позорного обвинения. По справке, наведенной нами в VII томе издания г. Анненкова, нет не только ничего похожего на заявление, что оба великолепных послания сделались еще лучше от выпусков, в них произведенных, но нет еще и признака нити, которая давала бы возможность связать слова г. Анненкова с тем толкованием их, которое представил г. Ефремов. Редактор старого издания 1855–1857 годов очень сдержанно говорил в своем примечании к обоим посланиям Пушкина, которые он первый и успел провести в печать: «Решаемся представить публике эти два послания, писанные в Михайловском уединении 1824 года и хорошо известные почитателям нашего поэта. Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц»… и так далее, как в цитате г. Ефремова. Тут, очевидно, выступает намерение успокоить враждебные силы, мешавшие до того появлению стихотворений в печати, и успокоить их указанием на выпуски, – но где же хвастовство искажением текста, будто бы произведенным редактором с целью его улучшения? Мужество, о котором говорит г. Ефремов, гораздо более проявляется у него самого, когда он находит возможность приписать подобные намерения г. Анненкову. Нельзя требовать, чтобы г. Ефремов помнил, с какими условиями печати, теперь уже неизвестными современным писателям, боролся прежний издатель, но одно обстоятельство могло бы, кажется, остановить его внимание. В том же VII-м томе старого издания потребовалось замещение полных имен гг. Булгарина и Греча одними инициалами Б. и Г. в памфлете Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Б. и о прочем», хотя их полные имена красовались уже на страницах журнала «Телескоп», где памфлет был впервые помещен. Не скажет же г. Ефремов, что и это изменение произошло по инициативе и вследствие тайного предрасположения издателя к этим почетным лицам прежней русской журналистики? Впрочем, почему бы ему и не сказать этого после всего, что мы уже от него слыхали? Странно только, что литератор, хвастающийся знакомством с мельчайшими явлениями старой периодической нашей печати, не знает истории ее за последнее, ближайшее к нам время. Сохрани он какое-либо понятие о ней, он, может быть, не стал бы удивляться, что послания «К цензору» не могли предстать на суд к наследнику и преемнику, того же самого цензора, о котором в них говорится, под своим настоящим заглавием и потребовали его изменения в послания «К Аристарху». Может статься, он понял бы также, что произведенные выпуски из посланий сделаны по указаниям цензурной администрации, видевшей в этих образцовых произведениях глубокомысленного, патриотического и консервативного характера, не более как противоправительственную сатиру. Что касается до типографской тетрадки, с которой печатался VII-й том старого издания, и в которой г. Ефремов не нашел цензурных помарок, то они не могли там встретиться после предварительного соглашения с ведомством о печати на счет формы, какую следовало придать обеим пьесам для получения права явиться на свет. После всего сказанного спрашивается: имел ли г. Ефремов повод и основание к дикому обвинению?.. Оскорбительно и печально встречаться с подобными явлениями при разборе издания сочинений Пушкина!
Переходим к самим этим сочинениям, то есть, к плану, принятому г. Ефремовым для распределения произведений Пушкина в издании. В. виде нововведения он отбросил прежнюю общепринятую редакторскую систему расчленять громадный литературный материал, оставленный Пушкиным, на его естественные, так сказать, очевидные бесспорные отделы в роде отдела стихотворений, поэм и драм и предпочел другую, состоящую в печатании сплошь под одним годом, не разбирая формы произведений, всего, что в этот год было создано поэтом. В принципе строгая хронологическая последовательность не может встретить возражений, но она имеет тоже свои границы. Редактор должен был подумать о последствиях и неудобствах, какие встретятся при ее абсолютном приложении к делу. И старые издания, принявшие разделение произведений Пушкина на большие группы, ни мало не нарушали хронологического порядка, принятого ими за основу своих изданий, а только облегчали читателю способ классифицировать огромную, многостороннюю деятельность поэта и легче отдавать себе отчет в ней. Здесь видим совсем другое. Прежде всего система редактора не выдержана вполне во всех частях издания, да и не могла быть выдержана. Для этого следовало бы, руководясь одним хронологическим принципом, решиться на помещение рядом со стихотворными произведениями Пушкина и произведений его в прозе, перерезать лирические пьесы рассказами, повестями, трактатами, написанными в один год с ними, а потом начинать снова, под следующими годами, тот же пестрый полонез из всех произведений, стоящих на очереди в данный момент. Пред этим результатом своей системы отступил и редактор, допустив особый отдел прозы Пушкина. В самом зачислении некоторых поэм в ряды пьес одного точно определенного года уже есть несообразность: многие из них, как «Руслан», «Евгений Онегин», «Медный Всадник», «Галуб», писались автором несколько лет сряду, и объявлять их ровесниками каких бы то ни было других произведений значит погрешать неточностью, которую так преследует редактор везде, где ее находит или где ее предполагает. Но главная ошибка этого плана заключается в том, что по милости его смешение важного с неважным, высокохудожественного создания с шуткой и безделкой, не позволяет читателю укрепиться в одном художественном настроении. Для того, чтобы понять, какое противоэстетическое впечатление производит это нагромождение пьес, различных по форме, в одну кучку и друг на дружку, достаточно указать, что под 1825 годом хроника «Борис Годунов», начатая, как известно, еще ранее, помещается рядом с «Графом Нулиным», что тотчас же за «Полтавою» следует пародия: «Ты помнишь ли, ах, ваше благородье», что под 1829 годом поэма «Галуб» красуется между двумя альбомными стишками и т. д. Как бы для довершения смуты и путаницы, редактор присоединил еще к пушкинскому тексту новооткрытые эпиграммы, памфлетные выходки, частные развязные записочки и легкие импровизации поэта, которые г. Ефремов, за неимением никакого другого нового и серьезного материала под рукой, выдает за важные приобретения и помещает в соседство со всеми высокими проявлениями пушкинского гения. Последствия этих распорядков отразились на издании тем, что оно приобрело в двух еще первых своих частях вид какого-то огромного складочного магазина, какие бывают у оптовых торговцев, где до предметов первостепенной ценности надо добираться через груду остатков, не доделанных или испорченных вещей мастера.
Остановимся на этих новых приобретениях. Если дурно понятый принцип хронологического порядка в издании привел редактора к такому неудовлетворительному результату, то другой и тоже дурно понятый принцип достижения наивозможно большей полноты в издании наделал ему пущих бед. Редактор не подумал, что полнота полноте рознь, и бывает не только не желательная, но и положительно вредная полнота для сборников, та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему, – разве только это изменение нравственной физиономии автора входит в намерения самого издателя и составляет цель его сборника. Но без такого намерения перехватывать каждое слово, пущенное на ветер поэтом в минуту искусственного воодушевления и записанное его неразборчивыми друзьями, следить за каждою его застольного импровизацией, заниматься, как важным делом, каждою минутною, нецеремонною его шуткой, все это уже представляется заблуждением страстного библиографа, но не делом эстетического вкуса и понимания. Нет сомнения, что увлечения, порывы уклонения Пушкина от прямой своей дороги, в которых он так часто раскаивался при жизни, должны были найти себе место в собрании его сочинений, но не иначе, как отделенные от цикла созданий, стяжавших ему славное имя, и не иначе, как в виде паразитов, открытых на светлом фоне его поэзии, и с целью поучительного примера. Здесь мы видим совсем другое. Благодаря необдуманному исканию полноты, редактор принял их в состав издания на одних правах с самыми возвышенными произведениями поэта, как бы признавая в этих случайных ошибках его гения одну из принадлежностей его творчества[97 - Старое издание 1855 года поступило гораздо осторожнее, приняв за правило относить к концу года эпиграммы, записочки, шутки Пушкина, написанные в течение его.].
Как бы ужаснулся сам Пушкин, если бы мог предчувствовать при своей жизни, что наступит время, когда каждая строка, сбежавшая с его пера и им позабытая, каждое слово, сорвавшееся с языка и преданное им забвению, предстанут снова на свет без пояснений, часто даже обезображенные поправками, и притом в виде добавки к его жизненному подвигу!.. Известно, что Пушкин сам записал в тетрадях своих некоторые очень резкие и яркие проблески своей пылкой, увлекающейся природы, и записал, видимо, с целью сохранить перед глазами для будущих лет всю прошлую свою жизнь во всей ее наготе. Впоследствии он черпал из этой скорбной хроники потрясающие мотивы для стихотворений, в которых слышался вопль раскаяния, да вероятно, при более долгой жизни, рассказал бы по той же хронике и все болезни и страдания своей души, с ее падениями и возвращениями к свету, в поучение современникам и потомству. Наша задача, как ближайших его потомков, совсем другая; мы не можем следовать примеру Пушкина и приводить печальные документы его жизни просто как документы, не освещая их мыслью и оценкой обстоятельств и среды, из которых они выросли. Зная уже теперь вполне нравственную сущность великого человека, все психические элементы, образовавшие его личность, все благородные стремления его души и непогрешимую чистоту всех его мыслей и поэтических замыслов, мы имеем право и должны сказать, что те низменные проявления раздраженного, буйного и скандалезного творчества, о которых здесь идет речь, Пушкину не принадлежат в обширном смысле слова, хотя бы от них остались несомненные автографы, хотя бы они были записаны собственною его рукой на страницах его тетрадей. Они не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда были писаны. Они ничем не связаны с его действительною мыслью, не имеют корней во внутреннем его мире, не отвечают никакой склонности его ума или сердца. Все они суть детища брожения и замашек его времени, должны считаться эхом того говора и шума толпы, которая следила за ним по пятам всю жизнь, произведениями таланта, неверного самому себе, совести, изменившей собственным своим началам. Почет, оказанный им новым редактором, принявшим их за серьезные произведения пушкинской музы, есть одна из самых крупных ошибок издания.
А почет оказан, действительно, немалый: г. Ефремов нашел возможным ввести в пантеон пушкинской поэзии такие пьесы, как «Платонизм», «Еврейки», «Сиротка», «Иной имел мою Аглаю», «Город Кишинев», присоединив к ним шутки, эпиграммы, записочки в роде «С позволения сказать», «От всенощной вечор идя домой», «Дедушка игумен», «Эпитафия духовнику», «Пародия», «Княжне Хованской» и проч. Некоторые из них он подверг исправлениям, которые потом сделались притчей у фельетонной нашей печати (и напрасно, скажем мы от себя: переделки эти, каковы бы ни были, все-таки свидетельствуют о сохранившихся еще остатках уважения к публике); а в других заменил особенно резкие слова и стихи точками, – но поправленные и оставленные с одними пропусками одинаково отдают крепким букетом литературного скандала. Перенося их из рукописных частных сборников и школьных тетрадок доброго старого времени прямо на страницы своего издания, посвященные пушкинскому тексту, редактор не подумал, что все старания его замаскировать их содержание тем или другим способом только увеличивают соблазн и силу ядовитых их намеков. Разбирать смысл этих произведений по чертам, какие они сохранили еще на себе, просто значит упражняться в неблагопристойностях. Но если уже дело сделано, то возникает другой вопрос: почему не воспользовались гостеприимством редактора все другие пьесы Пушкина того же рода, которые стоят еще за вышеприведенными и имеют право завидовать своим собратам-близнецам, удостоенным чести занять место в собрании избранных пушкинских стихотворений? Билет на вход тоже принадлежал им по праву и во имя великого принципа полноты, Ведь переделывать их и проводить, на сколько то возможно, в порядочный вид, требуемый печатью, было не труднее, чем при туалете их предшественников. Но тут мы встречаемся с необъяснимою загадкой: загадки всегда являются в деятельности человека, который лишен ясного представления целей, к которым идет. От одной части этих пьес, оставленной за бортом издания, редактор отделывается голословным и весьма спорным валовым приговором, по которому они будто бы Пушкину не принадлежат. Знатоки русской потаенной литературы, видевшие список отверженных им пьес, который приложен был в «Русской Старине» к самому объявлению о выходе в свет нового издания (!) («Русская Старина» 1880, т. XXVIII, июль, стр. 590), заметили однако же, что приложить список не значит еще приложить и доказательство, и что существуют сильные поводы сомневаться в точности этого цинического реестра. Как бы там ни было, но исключив, по своему усмотрению, недостоверные цинические эпистолы и проч., редактор добродушно принял в состав издания некоторые подобные им и уже заведомо Пушкину не принадлежащие, в чем и принужден был сознаться. Так-то обманчива, ненадежна и подвижна болотная почва секретных литературных грехов, на которую с легким сердцем вступил наш библиограф, думая отыскать на ней материалы для сообщения сборнику сочинений Пушкина еще небывалой у нас полноты. В погоне за этим пустым призраком г. Ефремову удалось только представить зрелище, по истине редкое даже и в летописях русского книгопечатания, прославившегося, как известно, своим неряшеством. Словно по приговору какой-то Немезиды является у г. Ефремова ряд невольных противоречий и промахов, покрупнее всех тех, которым он посвятил в своих примечаниях самые желчные, грубые слова, какие только у него находились в распоряжении. Приписав неосновательно Пушкину безобразную балладу «Тень Баркова», он прибегает к вырезке страницы, на которой красовалось это стихотворение, и забывает, к удивлению, исключить в примечании и в алфавите ссылку на него и на страницу, уже не существующую, где оно было приведено (т. I, стр. 511 и 576). В другой раз он публично предуведомляет читателей о точно такой же вырезке и по тому же поводу произведенной им в каком-то томе, прося их вместе с тем перепутанные листы этого же тома с прозаическим текстом Пушкина обменивать на другие более правильные, заготовленные ad hoc («Новое Время» 1880 г.). Но все это, повторяем, может считаться еще мелочью в сравнении с тем, что добытые с такими жертвами и катастрофами блеклые цветы пушкинской секретной производительности редактор вплел в один венок с самыми роскошными, чистыми, благоуханными цветами не умирающей его поэзии. Так, соблазнительные пьесы: «Олиньке Масон» и «Платонизм» идут рука об руку с художественными антологическими: «Дорида», «Дориде»; за непристойною «К Еврейке» следует, через одно стихотворение, «Наполеон»; вдохновенное «К Овидию» соприкасается, поверх двух маленьких отрывков, с циническою «Иной имел мою Аглаю», и вообще контрасты, режущие глаза, встречаются беспрестанно в издании и составляют его отличительный характер.
Могут сказать однако: так было и в жизни поэта, полной контрастами, и редактор не виноват, когда по деспотическому указанию цифр годов свел их вместе и поставил друг против друга. В том и дело, что так не было в жизни, что между Пушкиным, писавшим «Подражания Корану», и тем же Пушкиным, чертившим «Дедушка игумен», лежит гораздо более пространства и времени, хотя они и принадлежат к одному году, чем показывает хронологический сборник, где они разделены одною секундой, нужною чтецу для перехода от произведения к произведению, почему и кажутся как бы слитными, да в добавок и написаны-то они двумя разными Пушкиными, не имеющими ничего общего между собою. Один из них, именно тот, которого силится воскресить г. Ефремов, нам вовсе чужд и носит известную физиономию своего времени, общую его сверстникам, как выдающимся из толпы, так и тем, которые ничем не отметили своего существования на земле. Только другой Пушкин, тот, который признан единогласно воспитателем русского общества, мощным агентом его развития и объяснителем духовных сил, присущих народу, только этот нам и нужен, а о его двойнике нам достаточно общей характеристики, нескольких сохранившихся о нем преданий да отметки тех нравственных черт и особенностей, которые составляли уже общее достояние обоих видов Пушкина. Важное поучение для современников наших, конечно, несет с собою и этот второй, побочный, так сказать, тип нашего поэта, если его изучить с надлежащей политической и этической точки зрения; но ценить его беседу наравне с тою, которая исходила от настоящего, великого Пушкина, мы уже не можем, а потому и ставить их рядом кажется нам более чем ошибкой. Кто же, кроме детей, будет заниматься тенью, бросаемою человеком, когда перед ним стоит сам человек, и при том какой! В предисловии к своему изданию г. Ефремов выражает сожаление, что не имел в руках рукописей поэта, но мы готовы признать это обстоятельство за большое счастье для русской публики и литературы. Что бы сталось с нравственным образом Пушкина, если бы все откровения, содержащиеся в рукописях, достигли до нас в комментариях г. Ефремова и через посредство того способа относиться к предметам исследования, который им усвоен! Мы получили бы, конечно, не изображение Пушкина, а кое-что другое, под его именем…
Крайнее непонимание поэта, за издание которого он принялся, г. Ефремов обнаружил с особою силой в ужасе и негодовании по случаю двойных числовых пометок, встречающихся на рукописях и стихотворениях Пушкина. Он пишет горячую диатрибу против старого издания 1855 года, указавшего несколько примеров таких двойственных пометок, и обвиняет за них его редактора, не досмотревшего явных противоречий в их цифрах. Не довольствуясь помещением диатрибы в своем издании (т. I, стр. 509), г. Ефремов пересылает ее еще в «Русскую Старину», где она любезно принимается составителем биографического очерка А.С. Пушкина, который отводит ей место в одном из своих примечаний («Русская Старина» 1880, июнь, стр. 320). Но этот монолог г. Ефремова, на обличительную силу которого он так надеялся, сослужил ему предательскую службу: он разоблачил его собственное непонимание особенностей творческой производительности Пушкина и подтвердил с непререкаемою очевидностью, что для настоящего понимания мало одного собирания и знания библиографических мелочей, ограниченных, так сказать, произведений русской словесности, примет и внешнего вида ее главных памятников и проч. Далее этого не идет редактор нового сборника. Не говоря уже о странности предположения, что редактор старого издания 1855 года мог выдумать пометки Пушкина, им приводимые, на что намекают иронические слова г. Ефремова: «в одних и тех же рукописях он вычитал разные указания» («Русская Старина», ib.), – но как было не остановиться перед тем фактом, что этот редактор постоянно и с необъяснимым упорством проводит несходные, числовые пометки Пушкина, которые иногда расходятся между собою только двумя-тремя днями? Так, при «Полтаве» свидетельствуется о двух пушкинских пометках – 27-е и 29-е октября, при стихотворении «Клеветникам России» – 2-е и 5-е августа, при пьесе «Расставание» – 5-е и 8-е октября и т. д.; чем же может объясниться эта настойчивость в показаниях? Ошибаться сплошь, беспрерывно вряд ли возможно и самому ветреному человеку. Может статься, что г. Ефремов и не написал бы своей патетической диатрибы, если бы принял в соображение общеизвестный, много раз расследованный и утвержденный факт, что Пушкин удостаивал числовыми пометками все случаи и обстоятельства, сопровождавшие какой-либо из его трудов. Он отмечал начало почти каждого своего создания и конец его, также как начало и конец его переписки набело, весьма часто и поправку, сделанную в нем, иногда даже время первой мысли о произведении. Поэт, видимо, имел намерение сберечь про себя и для дальнейших целей своих память о малейших подробностях своей творческой деятельности, подобно тому, как для автобиографии он записывал каждую свою мысль без разбора, о чем уже было упомянуто. Знай это г. Ефремов, он не удивился бы, встретив разные числовые пометки, которые и не могли быть схожи, относясь к различным моментам и случаям производства стихотворений, и не пришел бы в забавное негодование. Гораздо более прав на удивление заслуживает то, что г. Ефремов, пользовавшийся широко старым изданием 1855 года для существенной, объяснительной части своих примечаний, не пожелал на этот раз обратиться к нему за получением недостающих сведений о литературных приемах и привычках Пушкина. Там он нашел бы указание, что существуют еще и загадочные числовые пометки Пушкина, смысл которых очень хорошо понимал их автор, но ключ к которым теперь потерян. Вместо того он указывает на два-три типографских промаха старого издания, на две-три явных описки, что могло бы заслужить еще благодарность читателей, если бы сделано было не яростно и в более скромном тоне, который приличествовал человеку, представившему и со своей стороны образцы ошибок, вырезок и издательских грехов, весьма замечательные.
Не можем покинуть этого странного недоразумения, не указав, еще одной характеристической черты в полемике, поднятой г. Ефремовым. Пересматривая его примечания, мы набрели на курьез между многими другими, который заслуживает сохранения. Оказывается, что г. Ефремов в собственных своих материалах, в документах, находившихся у него под руками, уже встретил различные числовые пометки Пушкина, нисколько однако же не успокоившие его полемики, и не только что встретил, но и сам засвидетельствовал. Так, стихотворение Пушкина «Зачем безвременную скуку» он сопровождает следующим примечанием: «явилось в печати… только в 1827, в «Московском Вестнике», № 2, и перепечатано в издании 1829, где отнесено самим автором к 1821 году… Между тем, в бывшую Чертковскую библиотеку поступил собственноручный пушкинский оригинал этого стихотворения, тоже без заглавия, но с пометкою: 1-го ноября 1826 г. Москва > (т. I, издание Исакова, стр. 557). Кажется, свидетельство достаточно ясное о том, что Пушкин делал отметки на стихотворениях по соображениям, конечно, весьма важным и основательным для него, но уже темным и необъяснимым для нас. Можно было думать, что, имея перед глазами такой пример, сам г. Ефремов изменит свой взгляд на явление, поминутно встречаемое в рукописях поэта, и постарается вникнуть в него, исправив прежние ошибочные заключения. Вышло наоборот: заключения остались не тронутыми, рядом с фактами, их опровергающими. Так, увидав, что старое издание перенесло известную «Сцену из Фауста» в 1826 год из 1825, под которым она стояла в пушкинском издании 1829 года, г. Ефремов делает строгое внушение редактору за этот перенос, прибавляя: «Не мог же Пушкин в начале 1829 года уже забыть: в 1825 или в 1826 году писал он эту сцену»? (т. I, стр. 414). Очень хорошо! Но как же объяснить после того, что через несколько страниц сам же г. Ефремов указывает на пример забывчивости Пушкина, который пьесу свою «Зачем безвременную скуку» (см. выше) отнес один раз к 1821, а другой к 1826 году. Все подобные несообразности имеют одну исходную точку у г. Ефремова: он ведет кропотливые протоколы всему, что видит его глаз, и уже не дает себе труда проверить виденное мыслью, понять общий смысл фактов и поискать общего их источника в тех случаях, когда они выступают, так сказать, толпой и со всех сторон. При более внимательном отношении к своему предмету г. Ефремов убедился бы, что о забывчивости Пушкина или неверности его переписчиков не может быть тут и речи, а что есть очень важный вопрос для обсуждения. За разницей числовых пометок поэта скрывается всегда дельная, серьезная причина, а иногда загадочное число заключает в себе весьма любопытный творческий или биографический секрет, открытие которого именно и составляет прямую задачу настоящего исследователя[98 - Поиски за одною точностью, не осмысленною идеей и преследующею мелкие факты, приводят г. Ефремова по временам к комическим выходкам. Таково примечание к лицейскому посланию Пушкина 1815 года «Баронессе М.А. Дельвиг», которой тогда было восемь лет: «Напечатано», говорит он, – «в VII томе издания г. Анненкова, и хотя под стихами написано время их сочинения, но вероятно, или поэт ошибся, или год прочитан неверно, потому что в первом же стихе говорится: «вам восемь лет, а мне семнадцать било». Пушкин родился 26 мая 1799 г. – следовательно, 17 лет ему пробило не раньше мая 1816 г.» (т. I, стр. 518). Совершенно справедливо! Поэт ошибся, не справившись, когда писал пьесу, предварительно с метрическим своим свидетельством; но стоило ли вооружаться справками?].
Извиняемся перед читателями нашими за то, что принуждены были ввести iero, так сказать, в лабораторию г. Ефремова, где он занимается выплавкой и выковкой всех тех приговоров, догадок, заключений и обвинений, образцы которых здесь представлены. Нелегко было и самому руководителю пробираться в этом хаотическом смешении дельного и не дельного до истины, до настоящего смысла и значения разбираемых предлогов. Много еще замечательных в своем роде проявлений редакторского самоуправства приходилось при этом оставить не тронутыми на тех местах, где они стоят.
В заключение скажем, что издание г. Исакова имеет весьма поучительную сторону: оно может считаться своего рода знамением времени в том смысле, что вполне обнаруживает сущность направления, принятого одною и довольно значительною частью наших деятелей на почве исторической и биографической литературы. Это цветок, выросший в школе тех археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечета отметок, какие существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов по существу. Люди эти, сделавшие себе призвание из подбора остатков недавнего прошлого нашего, из механической сортировки крупиц, упавших со стола общественных наших деятелей, конечно, имеют право на уважение; но как бы изменилось достоинство их трудов, если бы они не питали глубокого презрения ко всяким попыткам обобщать факты, извлекать из них определение, основываясь на внутреннем их содержании, достигать положительных выводов и заключений, опираясь на мысль, полученную из сущности и духа самих собранных ими материалов! Отвращение, обнаруживаемое искателями этого рода ко всякому порядку идей и размышлений, непреодолимо. Оно преимущественно возникает из того мелкого резонерствующего скептицизма, который признает право на достоверность только за голым фактом, взятым одиноко, а право на звание точного исторического свидетельства – только за подробным описанием формы явления.
Издание сочинений Пушкина, г. Исакова, как в своем составе, так и в заметках своего редактора, есть самое верное и пышное выражение качеств и недостатков направления, о котором идет речь. При полном отсутствии первых, необходимейших условий осмысленного издательского плана оно отличается таким обилием всяческих справок, указаний, сведений, что будущим издателям Пушкина, которые – полагать должно – не замедлят явиться, придется совещаться с ним не один раз. Правда, что им будет предстоять нелегкий труд поправлять в заметках г. Ефремова преднамеренные увлечения и ошибки и пробиваться до зерна его указаний сквозь густой, удушливый полемический туман, в который он облек свои комментарии. Но самым трудным для новых предпринимателей будет, конечно, необходимость возвратить сборнику сочинений Пушкина приличный и серьезный характер, потерянный им в теперешнем издании. При соблюдении этих условий заметки последнего могут очень пригодиться и войти в состав дельной классической книги о Пушкине, которая исполнит свое назначение – служить одинаково как юношеству, так и возмужалым людям источником чистых впечатлений и невозмутимого умственного и эстетического наслаждения.
1880 год.
IV
Литературные проекты А.С Пушкина
Планы социального романа и фантастической драмы.
Посмертное наследство Пушкина, оставленное им в своих тетрадях в виде отрывков и набросков, представляет большую ценность. Вся черновая подготовительная работа Пушкина, его программы будущих поэм, романов, драм, трактатов, первые проблески идей и образов, развитых впоследствии до знакомой публике художественной стройности и выразительности, все это вместе образует такой богатый архив материалов для повести не только о литературной, но и о жизненной, общественной деятельности поэта, что разработка его займет, вероятно, много умов и рук. Сведения и данные, которые можно извлечь из этого архива, не уступают в важности тем, которые получаются при изучении его завершенных и опубликованных созданий. На отрывках и набросках Пушкина лежит та же печать его таланта и то же отражение его задушевной мысли, как и на последних. Программы его не имеют ничего общего с теми брульонами, первоначальными очерками, которые встречаются у многих писателей и которые становятся немыми, бесполезными, а иногда и безобразными свидетелями человеческого труда, пока не пояснены и не поправлены самим произведением, о мучительном рождении которого возвещают. Брульоны и остатки Пушкина в большинстве случаев сами по себе полные картины, хотя, конечно, все образы их представляются еще в виде теней, бескровных призраков и окружены туманом, из которого уже никогда и не выйдут за безвозвратною отлучкой художника, их начертившего. Брульоны или программы Пушкина суть тоже создания своего рода, к какому бы отделу литературы ни относились, имеют ли в виду художественную задачу, или исторический трактат. Пример творческой программы первого рода дан Пушкиным в известных «Сценах из рыцарских времен», о которых будем еще много говорить. Это – полное драматическое представление из средневекового европейского быта, но вместе с тем это только «план», как сцены были и озаглавлены самим автором; пример второго рода творческой программы с целью произведения историко-политического трактата мы имели случай представить в статье «Общественные идеалы Пушкина»[99 - Напечатана в III-й книге «Воспоминаний и критических очерков» П.В. Анненкова.]. Теперь к ряду уже известных литературных проектов Пушкина прибавляем два новые: программу современного романа из Александровской эпохи (20-х годов) и короткую программу драмы, основной мотив которой взят из католической или, лучше, папской легенды о епископе-женщине, воцарившемся в Риме. Обе программы носят на себе тот, же осмысленный и выразительный отблеск глубокой и ясной мысли, какой присущ большинству программ Пушкина, о чем было говорено.
Начинаем с романа. Время появления у Пушкина первой мысли о романе с лицами и завязкой из прошлого царствования, которое видело и начатки собственной его поэтической и общественной деятельности, определить довольно трудно. Известно только, что пережитая им Александровская эпоха издавна занимала его воображение. Еще ранее 1825 он уже мечтал сделаться летописцем последних годов этой эпохи и начал записки о странном и любопытном времени, в котором рядом шли и процветали самые противоположные направления, люди военных поселений и люди библейского общества, грубые нравы и инстинкты обок с конституционными идеями и т. д. После истребления этих записок почти вслед за их начатием, в том же 1825 году, Пушкин перенес всю свою нежность на «Евгения Онегина», в котором думал сохранить бытовые данные и характерные черты городской и деревенской жизни первой четверти нашего столетия, оставляя до другого более удобного времени намерение заняться изображением самих лиц, близких или дальних знакомцев своей молодости. Пока существовал «Евгений Онегин», этот неразлучный спутник его вояжей и кабинетных трудов, побывавший с ним также точно в глуши провинции, как и за чертой государства, в Армении и Турции, сопровождавший поэта повсюду, где он сам являлся, мысль о романе из эпохи двадцатых годов находила своего рода замену в любимой поэме, которая поддерживала умственные его связи со старым обществом, все более и более отходившим в область преданий, все более и более изменявшимся на его глазах. Как известно, мы не имеем полной поэмы: множество отрывков из разных ее глав и остатки от целой пропавшей ее главы («Путешествие Онегина») показывают однако же до очевидности, что стихотворный рассказ этот, развиваясь с возрастающим художественным блеском и интересом, служил Пушкину вместе с тем и складочным местом для суждений, афоризмов, заметок о современных явлениях, большею частью очень метких и особенно важных по биографическому их значению. Призвание поэмы с самого начала было двойное – обрисовать общество и высказать по поводу его типов критическую мысль автора. Образчиков этого совместного участия творчества и посторонней ему думы довольно много. Приводим еще один. Он касается явления, уже не нового и во времена поэта, а затем повторившегося много раз позднее. Усталый, надорванный, праздный Онегин становится у него внезапно народолюбцем:
Наскуча или слыть Мельмотом,
Иль маской щеголять другой,
Проснулся раз он патриотом
В H?tel de Londres, что на Морской.
Россия, Русь мгновенно
Ему понравились отменно.
И решено: уж он влюблен,
Россией только бредит он!
Уж он Европу ненавидит
С ее логической душой,
С ее разумной суетой!
Он едет, он увидит
Святую Русь, ее поля,
Селенья, степи и моря!
2 октября (1830?).
И сколько таких образчиков может открыться еще впоследствии!
Но с 1832 года связи Пушкина с «Онегиным» порываются. В этом году он отдал в печать последнюю главу поэмы и остался, так сказать, одиноким. Ради художественных созданий, возникавших непрерывно с этой эпохи под его пером, не наполняли еще пустоты, образовавшейся после «Онегина». Поэт утерял в нем постоянного собеседника. «Онегин» унес у него благовидный предлог делиться с публикой внутренним своим миром, заметками, вынесенными из жизненного опыта, мыслями, возбужденными явлениями текущей минуты и воспоминаниями своего прошлого. Тяжело и грустно расставался Пушкин со своим другом; на последней VIII-й главе романа лежит несомненно меланхолический, трогательный оттенок сердечного прощания. Она и начинается нежным обращением к Царскосельскому лицею, где поэт услыхал впервые призыв музы и пророчество о своем предназначении на Руси, а кончается скорбным воспоминанием о героине романа, о людях и друзьях, некогда вcтречавших первую главу поэмы (явилась в 1825 году). Пушкин так сильно чувствовал отсутствие «Онегина», что думал, как известно, возвратиться к нему уже и после того, как полное, законченное издание поэмы в 1833 году завершило все расчеты с ним и прекратило все старые его отношения к труду. Конечно, мысль была оставлена…
Вернуться снова к труду своей молодости поэт уже не мог. Другие задачи и совсем иное настроение художника требовали уже и новых форм создания. Пушкин всецело предался мысли испробовать реальный роман в прозе, в котором поэтический элемент играл бы ту же роль, какую он играет в «Wahrheit und Dichtung» Гете, например, где соединение исторических данных с вымыслом и фантазией так крепко сплочено, что оно еще не поддалось и до сих пор ножу критического анализа силившегося много раз разделить это единство на составные его части. Нам осталось от Пушкина много повествовательных отрывков, романов и рассказов, порванных на первых же главах своих. Если все эти попытки, обещавшие по тону и приемам своим вырасти в шедевры эпического искусства, были им брошены и забыты то единственное объяснение такому пренебрежению заключается, по нашему мнению, в том обстоятельстве, что они не достаточно были широки и не обхватывали область явлений русской жизни в той полноте, какая нужна была поэту. Он мечтал с 1833 года о романе, который отразил бы целиком многоразличные стороны нашего общества за какую-либо часть его исторического существования, не исключая из картины и низших слоев, на которых это общество покоилось. Всего более интересовало его и всего более знакомо ему было общество последних годов прошлого царствования, да он обладал и массой хороших материалов для точного изображения его в художественно-реальной картине: материалы эти слагались из его собственных воспоминаний, из сношений и связей его с действующими лицами того времени, из рассказов бывалых людей, им слышанных, и из личного знакомства со всеми увлечениями, похождениями и волнениями тогдашнего молодого поколения. В 1835 году явился известный роман Бульвера: «Pelham or the adventures of a gentleman, by Edward Bulver-Lytton» (Пельгам или приключения одного благородного господина, соч. Е. Бульвера-Лейтона), имевший большой успех в английской и континентальной публике вообще за ввод в рамку романа очень схожих портретов с важнейших членов английской аристократии и английского парламента, что было тогда новостью, и за характер главного героя – Пельгама, добывающего себе влиятельное место в обществе и правительстве после того, как перебывал во множестве закоулков блестящего светского и грубого уличного порока и разврата и вынес из них знание подкладки, оборотной стороны общественного строя и большую практическую опытность. О романе Бульвера будем еще говорить впоследствии. Пушкин обратил на него свое внимание, заинтересованный его интригой, которая напоминала ему многое из того, что он сам видел на веку своем. Он решился, по следам Бульвера, рассказать кое-что о Пельгамах русского происхождения и воспитания. Плодом этой мысли были программы романа, которые теперь представляем читателям. Нужно ли прибавлять, что он не взял ни одной черты из английского произведения для своего плана, и оно остается только в значении внешнего толчка, данного фантазии поэта? Пушкин скоро перестал и называть своего героя русским Пельгамом, как было начал, перекрестив его просто в нашего доморощенного Пелымова.
Четыре раза приступал Пушкин к изложению на бумаге плана будущего распорядка и действия задуманного им романа, и плодом этого были четыре последовательные программы, расширившие каждая все более и более рамки предприятия. Из них две первые не совсем безызвестны нашей читающей публике: они были напечатаны в «Библиографических Записках» 1859 года (№№ 5 и 6) с цензурного одобрения и с незначительными пропусками, которые здесь восстанавливаем. Для понимания основной идеи романа мы принуждены были повторить их в этом отчете. Две последние, еще не опубликованные и, кажется нам, наиболее важные, освещают многое из того, что едва намечено первыми, и уже помогают различить цели и намерения автора с некоторою ясностью и определенностью.
Вот первые два проекта повести, приведенные «Библиографическими Записками».
I
«Русский Пелам – сын барина, воспитан французами. Отец его frivole в русском роде. Двоюродный брат его[100 - Здесь неразборчивая иностранная фраза: она должна содержать намек на то, что этот двоюродный брат есть, как оказывается из последующих программ, побочный сын кн. X… Это следует помнить читателю, для понимания дальнейшего развития программы.]… Пелам в свете – театр, литераторы, картежники. Он свидетель бесчестия одного молодого человека. Его дружба с Ф. Ор. Он помогает ему увезти любовницу, отказывается от игры фальшивой. Брат [то есть, вышеупомянутый двоюродный брат] в игре получает пощечину; дуэль, брат его струсил.
Ф. Ор. увозит девушку; ее несчастное положение – бедность – разврат мужа; она влюбляется в Пелама – связь ее с ним – подозрения мужа. Смерть Ф. Ор.
Пелам влюбляется в женщину высшего общества. Пелам в большом обществе, любовь в большом свете. (Пелам едет в —). Отец его умирает. Пелам в деревне (эпизод жены Ф. Op.). Соседи, жизнь русских помещиков. Слышит о свадьбе двоюродного брата, едет в Петербург. Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства. Он выслан из города (Ф. Ор. доходит до разбойничества – Пелам son confident). Он свидетель нападения [NB: а не наказания, как ошибочно напечатано в «Библиографических Записках»]. Он оправдан самим Ф. Ор.»
Остановимся на этой первой программе. Итак, вот главные черты ее, которые в следующих программах будут только полнеть, крепнуть и резче обозначаться. В родном доме Пелам уже на первых порах встречается с загадкой, с так называемым двоюродным братом своим, мальчиком сомнительного происхождения. Затем, при выходе в свет он тотчас же окружен всею золотою молодежью того времени, в числе которой почетное место занимают и картежники. С одним из них, Ф. Op., он состоит на дружеской ноге и хотя отказывается поступить в сословие шулеров, но помогает ему похитить девушку и становится его поверенным даже и тогда, когда тот в водовороте удалого кутежа доходит до разбоя. Любовь к девушке высшего общества, куда Пелам тоже попадает, неожиданно и скоро кончается отъездом в деревню: Пелама высылают из города по делу Ф. Ор. В деревне он хоронит отца, ведет жизнь помещика того времени, завязывает связи с соседями и с дворней и проч. Двоюродный брат его, наоборот, степенно женится, становится врагом Пелама, доносит на брата, который между тем оправдался от наветов его и, вероятно, опять является в город, о чем программа однако ж не упоминает, довольствуясь обозначением фактов и упуская вообще их распределение и порядок их постепенного возникновения.
Таков первый набросок плана. При втором приступе к нему Пушкин, сохраняя главную основу романа неприкосновенно, вводит в него новые подробности, которые отчасти дополняют, а отчасти даже и изменяют физиономию первоначальной темы. Связь между обеими программами заключается преимущественно в общей им истории похождений какого-то светского кутилы, обозначаемого буквами Ф. Ор. Скажем теперь же, что это недописанное имя не должно давать повода к каким-либо догадкам о лице, под ним скрывающимся, потому что в сущности ни до кого не относится. Под ним собраны у Пушкина подвиги и черты множества светских кутил, которыми так обилен был век, и которые, расточая безоглядно свою жизнь и свои силы, нередко доходили до уголовных преступлений. Старожилы еще помнят, как долго ходили по Москве толки об убийстве, совершенном двумя выдающимися светскими молодыми членами высшего общества Алябьевым и Шатиловым, на большой дороге и над несчастным игроком, который, проиграв им значительную сумму денег, хотел избавиться от этого долга чести бегством из столицы…
II
«Пелам выходит в большой свет (влюбляется) и, наскуча им, вдается в дурное общество.
В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Ор и с ним дружится, отказывается от игры наверное, помогает ему увезти девушку.
Продолжает свою беспутную жизнь. Связь его с танцоркой на счет гр. З*.
Дуэль Ф. Ор. с двоюродным братом Пелама.
(Несчастная жизнь жены Ф. Ор. – Ор. доходит до нищеты и до разбойничества. Пелам узнает обо всем – укрывает его у себя)[101 - Круглые скобки поставлены Пушкиным и должны были напоминать, что эпизодическая подробность эта относится к позднейшей деревенской жизни Пелама.].
Пелам влюбляется. Отец у него умирает. Перемена его. Он ссорится с танцоркой.
Он сватается – ему отказывают.
Он едет в деревню.
Разбой —
Иногда преувеличения его и непонимание прямого смысла того, что он читает, по истине поразительны. Тот же составитель «Материалов для биографии Пушкина» касается в одном позднейшем своем труде известного общества «Зеленой лампы», членом которого состоял одно время наш поэт, и определяет общество это, как простое оргиаческое, не имевшее никакой политической окраски, занимавшееся преимущественно театральными делами и устраивавшее у себя пиры и зрелища далеко не целомудренного характера. Определение это не понравилось г. Ефремову и отразилось в его уме и понимании следующим образом: «…Анненков неосновательно свел (общество «Зеленой лампы») на степень развратно-грязного и шутовского, смешав его даже с татариновской сектой» (прим. 1, т. I, 559). Ничего подобного не делал г. Анненков, но что нужды? Надо же поместить наперед изготовленное, крепкое слово на предназначенное ему заранее место. В тех случаях, когда по отсутствию документов и предлога к употреблению такого слова оно становится затруднительным, г. Ефремов прибегает к восклицательным и вопросительным знакам. В этом роде весьма замечательна пара знаков удивления, пристегнутая им к словам г. Анненкова о кишиневском послании поэта, 1821 года, В.Л. Давыдову. Одна часть послания, им же г. Анненковым и найденного в бумагах поэта, была приведена им в статье о Пушкине («Вестник Европы» 1874 г., № 1), а от сообщения другой биограф отказался, ограничившись передачей стихов, где поэт извещает о своем говений у Инзова, и заменил все следовавшее затем словами: «и так далее до последних пределов глумления». Передавая эти строки г. Анненкова, г. Ефремов сопровождает их двумя знаками восклицания в скобках (т. I, стр. 558). Что означают они, какому движению мысли г. Ефремова призваны отвечать? Сомневается ли он в том, что в минуты страсти поэт мог нисходить до глумления над очень важными предметами, – на это есть свидетельства, которые г. Ефремов лучше знает, чем кто-либо другой, – или г. Ефремов негодует на непочтительное обозначение словом глумление произведений такого рода, как вышеупомянутое послание В.Л. Давыдову? Нелегко понять редактора нового издания в роли защитника, как и в роли обвинителя. Но все это еще безделица в сравнении с тем, что является в других местах под пером редактора нового издания.
Привычка подменять мысли и намерения, встречаемые автором, теми, которые приходятся более по вкусу самого редактора, должна была довести его до неблагонадежных заявлений. Пример такого печального результата библиографических разысканий г. Ефремова мы видим в примечании, которым он сопровождает два знаменитых послания Пушкина «К цензору». Выписываем существенную его часть целиком: оно дает образчик всей манеры г. Ефремова относиться к своей задаче редактора.
«Два послания цензору», говорит он, – «…в сокращенном виде явились в VII т. издания г. Анненкова, который имел мужество заявить, что они под его рукою стали лучше, ибо очищены им: «Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц и событий, они теряют всякий признак сатирического или полемического направления и только могут служить образцом строгого и высокого понимания одного из важнейших общественных служений». Действительно, мы видим цензурную рукопись VII тома и не нашли в этих стихотворениях ни одного цензурного исключения, так что вся честь очистки принадлежит г. Анненкову, который и заглавие им дал «Посланий к Аристарху…» (I, стр. 572).
Читатель уже догадывается, чего надо ожидать в конце от позорного обвинения. По справке, наведенной нами в VII томе издания г. Анненкова, нет не только ничего похожего на заявление, что оба великолепных послания сделались еще лучше от выпусков, в них произведенных, но нет еще и признака нити, которая давала бы возможность связать слова г. Анненкова с тем толкованием их, которое представил г. Ефремов. Редактор старого издания 1855–1857 годов очень сдержанно говорил в своем примечании к обоим посланиям Пушкина, которые он первый и успел провести в печать: «Решаемся представить публике эти два послания, писанные в Михайловском уединении 1824 года и хорошо известные почитателям нашего поэта. Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц»… и так далее, как в цитате г. Ефремова. Тут, очевидно, выступает намерение успокоить враждебные силы, мешавшие до того появлению стихотворений в печати, и успокоить их указанием на выпуски, – но где же хвастовство искажением текста, будто бы произведенным редактором с целью его улучшения? Мужество, о котором говорит г. Ефремов, гораздо более проявляется у него самого, когда он находит возможность приписать подобные намерения г. Анненкову. Нельзя требовать, чтобы г. Ефремов помнил, с какими условиями печати, теперь уже неизвестными современным писателям, боролся прежний издатель, но одно обстоятельство могло бы, кажется, остановить его внимание. В том же VII-м томе старого издания потребовалось замещение полных имен гг. Булгарина и Греча одними инициалами Б. и Г. в памфлете Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Б. и о прочем», хотя их полные имена красовались уже на страницах журнала «Телескоп», где памфлет был впервые помещен. Не скажет же г. Ефремов, что и это изменение произошло по инициативе и вследствие тайного предрасположения издателя к этим почетным лицам прежней русской журналистики? Впрочем, почему бы ему и не сказать этого после всего, что мы уже от него слыхали? Странно только, что литератор, хвастающийся знакомством с мельчайшими явлениями старой периодической нашей печати, не знает истории ее за последнее, ближайшее к нам время. Сохрани он какое-либо понятие о ней, он, может быть, не стал бы удивляться, что послания «К цензору» не могли предстать на суд к наследнику и преемнику, того же самого цензора, о котором в них говорится, под своим настоящим заглавием и потребовали его изменения в послания «К Аристарху». Может статься, он понял бы также, что произведенные выпуски из посланий сделаны по указаниям цензурной администрации, видевшей в этих образцовых произведениях глубокомысленного, патриотического и консервативного характера, не более как противоправительственную сатиру. Что касается до типографской тетрадки, с которой печатался VII-й том старого издания, и в которой г. Ефремов не нашел цензурных помарок, то они не могли там встретиться после предварительного соглашения с ведомством о печати на счет формы, какую следовало придать обеим пьесам для получения права явиться на свет. После всего сказанного спрашивается: имел ли г. Ефремов повод и основание к дикому обвинению?.. Оскорбительно и печально встречаться с подобными явлениями при разборе издания сочинений Пушкина!
Переходим к самим этим сочинениям, то есть, к плану, принятому г. Ефремовым для распределения произведений Пушкина в издании. В. виде нововведения он отбросил прежнюю общепринятую редакторскую систему расчленять громадный литературный материал, оставленный Пушкиным, на его естественные, так сказать, очевидные бесспорные отделы в роде отдела стихотворений, поэм и драм и предпочел другую, состоящую в печатании сплошь под одним годом, не разбирая формы произведений, всего, что в этот год было создано поэтом. В принципе строгая хронологическая последовательность не может встретить возражений, но она имеет тоже свои границы. Редактор должен был подумать о последствиях и неудобствах, какие встретятся при ее абсолютном приложении к делу. И старые издания, принявшие разделение произведений Пушкина на большие группы, ни мало не нарушали хронологического порядка, принятого ими за основу своих изданий, а только облегчали читателю способ классифицировать огромную, многостороннюю деятельность поэта и легче отдавать себе отчет в ней. Здесь видим совсем другое. Прежде всего система редактора не выдержана вполне во всех частях издания, да и не могла быть выдержана. Для этого следовало бы, руководясь одним хронологическим принципом, решиться на помещение рядом со стихотворными произведениями Пушкина и произведений его в прозе, перерезать лирические пьесы рассказами, повестями, трактатами, написанными в один год с ними, а потом начинать снова, под следующими годами, тот же пестрый полонез из всех произведений, стоящих на очереди в данный момент. Пред этим результатом своей системы отступил и редактор, допустив особый отдел прозы Пушкина. В самом зачислении некоторых поэм в ряды пьес одного точно определенного года уже есть несообразность: многие из них, как «Руслан», «Евгений Онегин», «Медный Всадник», «Галуб», писались автором несколько лет сряду, и объявлять их ровесниками каких бы то ни было других произведений значит погрешать неточностью, которую так преследует редактор везде, где ее находит или где ее предполагает. Но главная ошибка этого плана заключается в том, что по милости его смешение важного с неважным, высокохудожественного создания с шуткой и безделкой, не позволяет читателю укрепиться в одном художественном настроении. Для того, чтобы понять, какое противоэстетическое впечатление производит это нагромождение пьес, различных по форме, в одну кучку и друг на дружку, достаточно указать, что под 1825 годом хроника «Борис Годунов», начатая, как известно, еще ранее, помещается рядом с «Графом Нулиным», что тотчас же за «Полтавою» следует пародия: «Ты помнишь ли, ах, ваше благородье», что под 1829 годом поэма «Галуб» красуется между двумя альбомными стишками и т. д. Как бы для довершения смуты и путаницы, редактор присоединил еще к пушкинскому тексту новооткрытые эпиграммы, памфлетные выходки, частные развязные записочки и легкие импровизации поэта, которые г. Ефремов, за неимением никакого другого нового и серьезного материала под рукой, выдает за важные приобретения и помещает в соседство со всеми высокими проявлениями пушкинского гения. Последствия этих распорядков отразились на издании тем, что оно приобрело в двух еще первых своих частях вид какого-то огромного складочного магазина, какие бывают у оптовых торговцев, где до предметов первостепенной ценности надо добираться через груду остатков, не доделанных или испорченных вещей мастера.
Остановимся на этих новых приобретениях. Если дурно понятый принцип хронологического порядка в издании привел редактора к такому неудовлетворительному результату, то другой и тоже дурно понятый принцип достижения наивозможно большей полноты в издании наделал ему пущих бед. Редактор не подумал, что полнота полноте рознь, и бывает не только не желательная, но и положительно вредная полнота для сборников, та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему, – разве только это изменение нравственной физиономии автора входит в намерения самого издателя и составляет цель его сборника. Но без такого намерения перехватывать каждое слово, пущенное на ветер поэтом в минуту искусственного воодушевления и записанное его неразборчивыми друзьями, следить за каждою его застольного импровизацией, заниматься, как важным делом, каждою минутною, нецеремонною его шуткой, все это уже представляется заблуждением страстного библиографа, но не делом эстетического вкуса и понимания. Нет сомнения, что увлечения, порывы уклонения Пушкина от прямой своей дороги, в которых он так часто раскаивался при жизни, должны были найти себе место в собрании его сочинений, но не иначе, как отделенные от цикла созданий, стяжавших ему славное имя, и не иначе, как в виде паразитов, открытых на светлом фоне его поэзии, и с целью поучительного примера. Здесь мы видим совсем другое. Благодаря необдуманному исканию полноты, редактор принял их в состав издания на одних правах с самыми возвышенными произведениями поэта, как бы признавая в этих случайных ошибках его гения одну из принадлежностей его творчества[97 - Старое издание 1855 года поступило гораздо осторожнее, приняв за правило относить к концу года эпиграммы, записочки, шутки Пушкина, написанные в течение его.].
Как бы ужаснулся сам Пушкин, если бы мог предчувствовать при своей жизни, что наступит время, когда каждая строка, сбежавшая с его пера и им позабытая, каждое слово, сорвавшееся с языка и преданное им забвению, предстанут снова на свет без пояснений, часто даже обезображенные поправками, и притом в виде добавки к его жизненному подвигу!.. Известно, что Пушкин сам записал в тетрадях своих некоторые очень резкие и яркие проблески своей пылкой, увлекающейся природы, и записал, видимо, с целью сохранить перед глазами для будущих лет всю прошлую свою жизнь во всей ее наготе. Впоследствии он черпал из этой скорбной хроники потрясающие мотивы для стихотворений, в которых слышался вопль раскаяния, да вероятно, при более долгой жизни, рассказал бы по той же хронике и все болезни и страдания своей души, с ее падениями и возвращениями к свету, в поучение современникам и потомству. Наша задача, как ближайших его потомков, совсем другая; мы не можем следовать примеру Пушкина и приводить печальные документы его жизни просто как документы, не освещая их мыслью и оценкой обстоятельств и среды, из которых они выросли. Зная уже теперь вполне нравственную сущность великого человека, все психические элементы, образовавшие его личность, все благородные стремления его души и непогрешимую чистоту всех его мыслей и поэтических замыслов, мы имеем право и должны сказать, что те низменные проявления раздраженного, буйного и скандалезного творчества, о которых здесь идет речь, Пушкину не принадлежат в обширном смысле слова, хотя бы от них остались несомненные автографы, хотя бы они были записаны собственною его рукой на страницах его тетрадей. Они не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда были писаны. Они ничем не связаны с его действительною мыслью, не имеют корней во внутреннем его мире, не отвечают никакой склонности его ума или сердца. Все они суть детища брожения и замашек его времени, должны считаться эхом того говора и шума толпы, которая следила за ним по пятам всю жизнь, произведениями таланта, неверного самому себе, совести, изменившей собственным своим началам. Почет, оказанный им новым редактором, принявшим их за серьезные произведения пушкинской музы, есть одна из самых крупных ошибок издания.
А почет оказан, действительно, немалый: г. Ефремов нашел возможным ввести в пантеон пушкинской поэзии такие пьесы, как «Платонизм», «Еврейки», «Сиротка», «Иной имел мою Аглаю», «Город Кишинев», присоединив к ним шутки, эпиграммы, записочки в роде «С позволения сказать», «От всенощной вечор идя домой», «Дедушка игумен», «Эпитафия духовнику», «Пародия», «Княжне Хованской» и проч. Некоторые из них он подверг исправлениям, которые потом сделались притчей у фельетонной нашей печати (и напрасно, скажем мы от себя: переделки эти, каковы бы ни были, все-таки свидетельствуют о сохранившихся еще остатках уважения к публике); а в других заменил особенно резкие слова и стихи точками, – но поправленные и оставленные с одними пропусками одинаково отдают крепким букетом литературного скандала. Перенося их из рукописных частных сборников и школьных тетрадок доброго старого времени прямо на страницы своего издания, посвященные пушкинскому тексту, редактор не подумал, что все старания его замаскировать их содержание тем или другим способом только увеличивают соблазн и силу ядовитых их намеков. Разбирать смысл этих произведений по чертам, какие они сохранили еще на себе, просто значит упражняться в неблагопристойностях. Но если уже дело сделано, то возникает другой вопрос: почему не воспользовались гостеприимством редактора все другие пьесы Пушкина того же рода, которые стоят еще за вышеприведенными и имеют право завидовать своим собратам-близнецам, удостоенным чести занять место в собрании избранных пушкинских стихотворений? Билет на вход тоже принадлежал им по праву и во имя великого принципа полноты, Ведь переделывать их и проводить, на сколько то возможно, в порядочный вид, требуемый печатью, было не труднее, чем при туалете их предшественников. Но тут мы встречаемся с необъяснимою загадкой: загадки всегда являются в деятельности человека, который лишен ясного представления целей, к которым идет. От одной части этих пьес, оставленной за бортом издания, редактор отделывается голословным и весьма спорным валовым приговором, по которому они будто бы Пушкину не принадлежат. Знатоки русской потаенной литературы, видевшие список отверженных им пьес, который приложен был в «Русской Старине» к самому объявлению о выходе в свет нового издания (!) («Русская Старина» 1880, т. XXVIII, июль, стр. 590), заметили однако же, что приложить список не значит еще приложить и доказательство, и что существуют сильные поводы сомневаться в точности этого цинического реестра. Как бы там ни было, но исключив, по своему усмотрению, недостоверные цинические эпистолы и проч., редактор добродушно принял в состав издания некоторые подобные им и уже заведомо Пушкину не принадлежащие, в чем и принужден был сознаться. Так-то обманчива, ненадежна и подвижна болотная почва секретных литературных грехов, на которую с легким сердцем вступил наш библиограф, думая отыскать на ней материалы для сообщения сборнику сочинений Пушкина еще небывалой у нас полноты. В погоне за этим пустым призраком г. Ефремову удалось только представить зрелище, по истине редкое даже и в летописях русского книгопечатания, прославившегося, как известно, своим неряшеством. Словно по приговору какой-то Немезиды является у г. Ефремова ряд невольных противоречий и промахов, покрупнее всех тех, которым он посвятил в своих примечаниях самые желчные, грубые слова, какие только у него находились в распоряжении. Приписав неосновательно Пушкину безобразную балладу «Тень Баркова», он прибегает к вырезке страницы, на которой красовалось это стихотворение, и забывает, к удивлению, исключить в примечании и в алфавите ссылку на него и на страницу, уже не существующую, где оно было приведено (т. I, стр. 511 и 576). В другой раз он публично предуведомляет читателей о точно такой же вырезке и по тому же поводу произведенной им в каком-то томе, прося их вместе с тем перепутанные листы этого же тома с прозаическим текстом Пушкина обменивать на другие более правильные, заготовленные ad hoc («Новое Время» 1880 г.). Но все это, повторяем, может считаться еще мелочью в сравнении с тем, что добытые с такими жертвами и катастрофами блеклые цветы пушкинской секретной производительности редактор вплел в один венок с самыми роскошными, чистыми, благоуханными цветами не умирающей его поэзии. Так, соблазнительные пьесы: «Олиньке Масон» и «Платонизм» идут рука об руку с художественными антологическими: «Дорида», «Дориде»; за непристойною «К Еврейке» следует, через одно стихотворение, «Наполеон»; вдохновенное «К Овидию» соприкасается, поверх двух маленьких отрывков, с циническою «Иной имел мою Аглаю», и вообще контрасты, режущие глаза, встречаются беспрестанно в издании и составляют его отличительный характер.
Могут сказать однако: так было и в жизни поэта, полной контрастами, и редактор не виноват, когда по деспотическому указанию цифр годов свел их вместе и поставил друг против друга. В том и дело, что так не было в жизни, что между Пушкиным, писавшим «Подражания Корану», и тем же Пушкиным, чертившим «Дедушка игумен», лежит гораздо более пространства и времени, хотя они и принадлежат к одному году, чем показывает хронологический сборник, где они разделены одною секундой, нужною чтецу для перехода от произведения к произведению, почему и кажутся как бы слитными, да в добавок и написаны-то они двумя разными Пушкиными, не имеющими ничего общего между собою. Один из них, именно тот, которого силится воскресить г. Ефремов, нам вовсе чужд и носит известную физиономию своего времени, общую его сверстникам, как выдающимся из толпы, так и тем, которые ничем не отметили своего существования на земле. Только другой Пушкин, тот, который признан единогласно воспитателем русского общества, мощным агентом его развития и объяснителем духовных сил, присущих народу, только этот нам и нужен, а о его двойнике нам достаточно общей характеристики, нескольких сохранившихся о нем преданий да отметки тех нравственных черт и особенностей, которые составляли уже общее достояние обоих видов Пушкина. Важное поучение для современников наших, конечно, несет с собою и этот второй, побочный, так сказать, тип нашего поэта, если его изучить с надлежащей политической и этической точки зрения; но ценить его беседу наравне с тою, которая исходила от настоящего, великого Пушкина, мы уже не можем, а потому и ставить их рядом кажется нам более чем ошибкой. Кто же, кроме детей, будет заниматься тенью, бросаемою человеком, когда перед ним стоит сам человек, и при том какой! В предисловии к своему изданию г. Ефремов выражает сожаление, что не имел в руках рукописей поэта, но мы готовы признать это обстоятельство за большое счастье для русской публики и литературы. Что бы сталось с нравственным образом Пушкина, если бы все откровения, содержащиеся в рукописях, достигли до нас в комментариях г. Ефремова и через посредство того способа относиться к предметам исследования, который им усвоен! Мы получили бы, конечно, не изображение Пушкина, а кое-что другое, под его именем…
Крайнее непонимание поэта, за издание которого он принялся, г. Ефремов обнаружил с особою силой в ужасе и негодовании по случаю двойных числовых пометок, встречающихся на рукописях и стихотворениях Пушкина. Он пишет горячую диатрибу против старого издания 1855 года, указавшего несколько примеров таких двойственных пометок, и обвиняет за них его редактора, не досмотревшего явных противоречий в их цифрах. Не довольствуясь помещением диатрибы в своем издании (т. I, стр. 509), г. Ефремов пересылает ее еще в «Русскую Старину», где она любезно принимается составителем биографического очерка А.С. Пушкина, который отводит ей место в одном из своих примечаний («Русская Старина» 1880, июнь, стр. 320). Но этот монолог г. Ефремова, на обличительную силу которого он так надеялся, сослужил ему предательскую службу: он разоблачил его собственное непонимание особенностей творческой производительности Пушкина и подтвердил с непререкаемою очевидностью, что для настоящего понимания мало одного собирания и знания библиографических мелочей, ограниченных, так сказать, произведений русской словесности, примет и внешнего вида ее главных памятников и проч. Далее этого не идет редактор нового сборника. Не говоря уже о странности предположения, что редактор старого издания 1855 года мог выдумать пометки Пушкина, им приводимые, на что намекают иронические слова г. Ефремова: «в одних и тех же рукописях он вычитал разные указания» («Русская Старина», ib.), – но как было не остановиться перед тем фактом, что этот редактор постоянно и с необъяснимым упорством проводит несходные, числовые пометки Пушкина, которые иногда расходятся между собою только двумя-тремя днями? Так, при «Полтаве» свидетельствуется о двух пушкинских пометках – 27-е и 29-е октября, при стихотворении «Клеветникам России» – 2-е и 5-е августа, при пьесе «Расставание» – 5-е и 8-е октября и т. д.; чем же может объясниться эта настойчивость в показаниях? Ошибаться сплошь, беспрерывно вряд ли возможно и самому ветреному человеку. Может статься, что г. Ефремов и не написал бы своей патетической диатрибы, если бы принял в соображение общеизвестный, много раз расследованный и утвержденный факт, что Пушкин удостаивал числовыми пометками все случаи и обстоятельства, сопровождавшие какой-либо из его трудов. Он отмечал начало почти каждого своего создания и конец его, также как начало и конец его переписки набело, весьма часто и поправку, сделанную в нем, иногда даже время первой мысли о произведении. Поэт, видимо, имел намерение сберечь про себя и для дальнейших целей своих память о малейших подробностях своей творческой деятельности, подобно тому, как для автобиографии он записывал каждую свою мысль без разбора, о чем уже было упомянуто. Знай это г. Ефремов, он не удивился бы, встретив разные числовые пометки, которые и не могли быть схожи, относясь к различным моментам и случаям производства стихотворений, и не пришел бы в забавное негодование. Гораздо более прав на удивление заслуживает то, что г. Ефремов, пользовавшийся широко старым изданием 1855 года для существенной, объяснительной части своих примечаний, не пожелал на этот раз обратиться к нему за получением недостающих сведений о литературных приемах и привычках Пушкина. Там он нашел бы указание, что существуют еще и загадочные числовые пометки Пушкина, смысл которых очень хорошо понимал их автор, но ключ к которым теперь потерян. Вместо того он указывает на два-три типографских промаха старого издания, на две-три явных описки, что могло бы заслужить еще благодарность читателей, если бы сделано было не яростно и в более скромном тоне, который приличествовал человеку, представившему и со своей стороны образцы ошибок, вырезок и издательских грехов, весьма замечательные.
Не можем покинуть этого странного недоразумения, не указав, еще одной характеристической черты в полемике, поднятой г. Ефремовым. Пересматривая его примечания, мы набрели на курьез между многими другими, который заслуживает сохранения. Оказывается, что г. Ефремов в собственных своих материалах, в документах, находившихся у него под руками, уже встретил различные числовые пометки Пушкина, нисколько однако же не успокоившие его полемики, и не только что встретил, но и сам засвидетельствовал. Так, стихотворение Пушкина «Зачем безвременную скуку» он сопровождает следующим примечанием: «явилось в печати… только в 1827, в «Московском Вестнике», № 2, и перепечатано в издании 1829, где отнесено самим автором к 1821 году… Между тем, в бывшую Чертковскую библиотеку поступил собственноручный пушкинский оригинал этого стихотворения, тоже без заглавия, но с пометкою: 1-го ноября 1826 г. Москва > (т. I, издание Исакова, стр. 557). Кажется, свидетельство достаточно ясное о том, что Пушкин делал отметки на стихотворениях по соображениям, конечно, весьма важным и основательным для него, но уже темным и необъяснимым для нас. Можно было думать, что, имея перед глазами такой пример, сам г. Ефремов изменит свой взгляд на явление, поминутно встречаемое в рукописях поэта, и постарается вникнуть в него, исправив прежние ошибочные заключения. Вышло наоборот: заключения остались не тронутыми, рядом с фактами, их опровергающими. Так, увидав, что старое издание перенесло известную «Сцену из Фауста» в 1826 год из 1825, под которым она стояла в пушкинском издании 1829 года, г. Ефремов делает строгое внушение редактору за этот перенос, прибавляя: «Не мог же Пушкин в начале 1829 года уже забыть: в 1825 или в 1826 году писал он эту сцену»? (т. I, стр. 414). Очень хорошо! Но как же объяснить после того, что через несколько страниц сам же г. Ефремов указывает на пример забывчивости Пушкина, который пьесу свою «Зачем безвременную скуку» (см. выше) отнес один раз к 1821, а другой к 1826 году. Все подобные несообразности имеют одну исходную точку у г. Ефремова: он ведет кропотливые протоколы всему, что видит его глаз, и уже не дает себе труда проверить виденное мыслью, понять общий смысл фактов и поискать общего их источника в тех случаях, когда они выступают, так сказать, толпой и со всех сторон. При более внимательном отношении к своему предмету г. Ефремов убедился бы, что о забывчивости Пушкина или неверности его переписчиков не может быть тут и речи, а что есть очень важный вопрос для обсуждения. За разницей числовых пометок поэта скрывается всегда дельная, серьезная причина, а иногда загадочное число заключает в себе весьма любопытный творческий или биографический секрет, открытие которого именно и составляет прямую задачу настоящего исследователя[98 - Поиски за одною точностью, не осмысленною идеей и преследующею мелкие факты, приводят г. Ефремова по временам к комическим выходкам. Таково примечание к лицейскому посланию Пушкина 1815 года «Баронессе М.А. Дельвиг», которой тогда было восемь лет: «Напечатано», говорит он, – «в VII томе издания г. Анненкова, и хотя под стихами написано время их сочинения, но вероятно, или поэт ошибся, или год прочитан неверно, потому что в первом же стихе говорится: «вам восемь лет, а мне семнадцать било». Пушкин родился 26 мая 1799 г. – следовательно, 17 лет ему пробило не раньше мая 1816 г.» (т. I, стр. 518). Совершенно справедливо! Поэт ошибся, не справившись, когда писал пьесу, предварительно с метрическим своим свидетельством; но стоило ли вооружаться справками?].
Извиняемся перед читателями нашими за то, что принуждены были ввести iero, так сказать, в лабораторию г. Ефремова, где он занимается выплавкой и выковкой всех тех приговоров, догадок, заключений и обвинений, образцы которых здесь представлены. Нелегко было и самому руководителю пробираться в этом хаотическом смешении дельного и не дельного до истины, до настоящего смысла и значения разбираемых предлогов. Много еще замечательных в своем роде проявлений редакторского самоуправства приходилось при этом оставить не тронутыми на тех местах, где они стоят.
В заключение скажем, что издание г. Исакова имеет весьма поучительную сторону: оно может считаться своего рода знамением времени в том смысле, что вполне обнаруживает сущность направления, принятого одною и довольно значительною частью наших деятелей на почве исторической и биографической литературы. Это цветок, выросший в школе тех археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечета отметок, какие существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов по существу. Люди эти, сделавшие себе призвание из подбора остатков недавнего прошлого нашего, из механической сортировки крупиц, упавших со стола общественных наших деятелей, конечно, имеют право на уважение; но как бы изменилось достоинство их трудов, если бы они не питали глубокого презрения ко всяким попыткам обобщать факты, извлекать из них определение, основываясь на внутреннем их содержании, достигать положительных выводов и заключений, опираясь на мысль, полученную из сущности и духа самих собранных ими материалов! Отвращение, обнаруживаемое искателями этого рода ко всякому порядку идей и размышлений, непреодолимо. Оно преимущественно возникает из того мелкого резонерствующего скептицизма, который признает право на достоверность только за голым фактом, взятым одиноко, а право на звание точного исторического свидетельства – только за подробным описанием формы явления.
Издание сочинений Пушкина, г. Исакова, как в своем составе, так и в заметках своего редактора, есть самое верное и пышное выражение качеств и недостатков направления, о котором идет речь. При полном отсутствии первых, необходимейших условий осмысленного издательского плана оно отличается таким обилием всяческих справок, указаний, сведений, что будущим издателям Пушкина, которые – полагать должно – не замедлят явиться, придется совещаться с ним не один раз. Правда, что им будет предстоять нелегкий труд поправлять в заметках г. Ефремова преднамеренные увлечения и ошибки и пробиваться до зерна его указаний сквозь густой, удушливый полемический туман, в который он облек свои комментарии. Но самым трудным для новых предпринимателей будет, конечно, необходимость возвратить сборнику сочинений Пушкина приличный и серьезный характер, потерянный им в теперешнем издании. При соблюдении этих условий заметки последнего могут очень пригодиться и войти в состав дельной классической книги о Пушкине, которая исполнит свое назначение – служить одинаково как юношеству, так и возмужалым людям источником чистых впечатлений и невозмутимого умственного и эстетического наслаждения.
1880 год.
IV
Литературные проекты А.С Пушкина
Планы социального романа и фантастической драмы.
Посмертное наследство Пушкина, оставленное им в своих тетрадях в виде отрывков и набросков, представляет большую ценность. Вся черновая подготовительная работа Пушкина, его программы будущих поэм, романов, драм, трактатов, первые проблески идей и образов, развитых впоследствии до знакомой публике художественной стройности и выразительности, все это вместе образует такой богатый архив материалов для повести не только о литературной, но и о жизненной, общественной деятельности поэта, что разработка его займет, вероятно, много умов и рук. Сведения и данные, которые можно извлечь из этого архива, не уступают в важности тем, которые получаются при изучении его завершенных и опубликованных созданий. На отрывках и набросках Пушкина лежит та же печать его таланта и то же отражение его задушевной мысли, как и на последних. Программы его не имеют ничего общего с теми брульонами, первоначальными очерками, которые встречаются у многих писателей и которые становятся немыми, бесполезными, а иногда и безобразными свидетелями человеческого труда, пока не пояснены и не поправлены самим произведением, о мучительном рождении которого возвещают. Брульоны и остатки Пушкина в большинстве случаев сами по себе полные картины, хотя, конечно, все образы их представляются еще в виде теней, бескровных призраков и окружены туманом, из которого уже никогда и не выйдут за безвозвратною отлучкой художника, их начертившего. Брульоны или программы Пушкина суть тоже создания своего рода, к какому бы отделу литературы ни относились, имеют ли в виду художественную задачу, или исторический трактат. Пример творческой программы первого рода дан Пушкиным в известных «Сценах из рыцарских времен», о которых будем еще много говорить. Это – полное драматическое представление из средневекового европейского быта, но вместе с тем это только «план», как сцены были и озаглавлены самим автором; пример второго рода творческой программы с целью произведения историко-политического трактата мы имели случай представить в статье «Общественные идеалы Пушкина»[99 - Напечатана в III-й книге «Воспоминаний и критических очерков» П.В. Анненкова.]. Теперь к ряду уже известных литературных проектов Пушкина прибавляем два новые: программу современного романа из Александровской эпохи (20-х годов) и короткую программу драмы, основной мотив которой взят из католической или, лучше, папской легенды о епископе-женщине, воцарившемся в Риме. Обе программы носят на себе тот, же осмысленный и выразительный отблеск глубокой и ясной мысли, какой присущ большинству программ Пушкина, о чем было говорено.
Начинаем с романа. Время появления у Пушкина первой мысли о романе с лицами и завязкой из прошлого царствования, которое видело и начатки собственной его поэтической и общественной деятельности, определить довольно трудно. Известно только, что пережитая им Александровская эпоха издавна занимала его воображение. Еще ранее 1825 он уже мечтал сделаться летописцем последних годов этой эпохи и начал записки о странном и любопытном времени, в котором рядом шли и процветали самые противоположные направления, люди военных поселений и люди библейского общества, грубые нравы и инстинкты обок с конституционными идеями и т. д. После истребления этих записок почти вслед за их начатием, в том же 1825 году, Пушкин перенес всю свою нежность на «Евгения Онегина», в котором думал сохранить бытовые данные и характерные черты городской и деревенской жизни первой четверти нашего столетия, оставляя до другого более удобного времени намерение заняться изображением самих лиц, близких или дальних знакомцев своей молодости. Пока существовал «Евгений Онегин», этот неразлучный спутник его вояжей и кабинетных трудов, побывавший с ним также точно в глуши провинции, как и за чертой государства, в Армении и Турции, сопровождавший поэта повсюду, где он сам являлся, мысль о романе из эпохи двадцатых годов находила своего рода замену в любимой поэме, которая поддерживала умственные его связи со старым обществом, все более и более отходившим в область преданий, все более и более изменявшимся на его глазах. Как известно, мы не имеем полной поэмы: множество отрывков из разных ее глав и остатки от целой пропавшей ее главы («Путешествие Онегина») показывают однако же до очевидности, что стихотворный рассказ этот, развиваясь с возрастающим художественным блеском и интересом, служил Пушкину вместе с тем и складочным местом для суждений, афоризмов, заметок о современных явлениях, большею частью очень метких и особенно важных по биографическому их значению. Призвание поэмы с самого начала было двойное – обрисовать общество и высказать по поводу его типов критическую мысль автора. Образчиков этого совместного участия творчества и посторонней ему думы довольно много. Приводим еще один. Он касается явления, уже не нового и во времена поэта, а затем повторившегося много раз позднее. Усталый, надорванный, праздный Онегин становится у него внезапно народолюбцем:
Наскуча или слыть Мельмотом,
Иль маской щеголять другой,
Проснулся раз он патриотом
В H?tel de Londres, что на Морской.
Россия, Русь мгновенно
Ему понравились отменно.
И решено: уж он влюблен,
Россией только бредит он!
Уж он Европу ненавидит
С ее логической душой,
С ее разумной суетой!
Он едет, он увидит
Святую Русь, ее поля,
Селенья, степи и моря!
2 октября (1830?).
И сколько таких образчиков может открыться еще впоследствии!
Но с 1832 года связи Пушкина с «Онегиным» порываются. В этом году он отдал в печать последнюю главу поэмы и остался, так сказать, одиноким. Ради художественных созданий, возникавших непрерывно с этой эпохи под его пером, не наполняли еще пустоты, образовавшейся после «Онегина». Поэт утерял в нем постоянного собеседника. «Онегин» унес у него благовидный предлог делиться с публикой внутренним своим миром, заметками, вынесенными из жизненного опыта, мыслями, возбужденными явлениями текущей минуты и воспоминаниями своего прошлого. Тяжело и грустно расставался Пушкин со своим другом; на последней VIII-й главе романа лежит несомненно меланхолический, трогательный оттенок сердечного прощания. Она и начинается нежным обращением к Царскосельскому лицею, где поэт услыхал впервые призыв музы и пророчество о своем предназначении на Руси, а кончается скорбным воспоминанием о героине романа, о людях и друзьях, некогда вcтречавших первую главу поэмы (явилась в 1825 году). Пушкин так сильно чувствовал отсутствие «Онегина», что думал, как известно, возвратиться к нему уже и после того, как полное, законченное издание поэмы в 1833 году завершило все расчеты с ним и прекратило все старые его отношения к труду. Конечно, мысль была оставлена…
Вернуться снова к труду своей молодости поэт уже не мог. Другие задачи и совсем иное настроение художника требовали уже и новых форм создания. Пушкин всецело предался мысли испробовать реальный роман в прозе, в котором поэтический элемент играл бы ту же роль, какую он играет в «Wahrheit und Dichtung» Гете, например, где соединение исторических данных с вымыслом и фантазией так крепко сплочено, что оно еще не поддалось и до сих пор ножу критического анализа силившегося много раз разделить это единство на составные его части. Нам осталось от Пушкина много повествовательных отрывков, романов и рассказов, порванных на первых же главах своих. Если все эти попытки, обещавшие по тону и приемам своим вырасти в шедевры эпического искусства, были им брошены и забыты то единственное объяснение такому пренебрежению заключается, по нашему мнению, в том обстоятельстве, что они не достаточно были широки и не обхватывали область явлений русской жизни в той полноте, какая нужна была поэту. Он мечтал с 1833 года о романе, который отразил бы целиком многоразличные стороны нашего общества за какую-либо часть его исторического существования, не исключая из картины и низших слоев, на которых это общество покоилось. Всего более интересовало его и всего более знакомо ему было общество последних годов прошлого царствования, да он обладал и массой хороших материалов для точного изображения его в художественно-реальной картине: материалы эти слагались из его собственных воспоминаний, из сношений и связей его с действующими лицами того времени, из рассказов бывалых людей, им слышанных, и из личного знакомства со всеми увлечениями, похождениями и волнениями тогдашнего молодого поколения. В 1835 году явился известный роман Бульвера: «Pelham or the adventures of a gentleman, by Edward Bulver-Lytton» (Пельгам или приключения одного благородного господина, соч. Е. Бульвера-Лейтона), имевший большой успех в английской и континентальной публике вообще за ввод в рамку романа очень схожих портретов с важнейших членов английской аристократии и английского парламента, что было тогда новостью, и за характер главного героя – Пельгама, добывающего себе влиятельное место в обществе и правительстве после того, как перебывал во множестве закоулков блестящего светского и грубого уличного порока и разврата и вынес из них знание подкладки, оборотной стороны общественного строя и большую практическую опытность. О романе Бульвера будем еще говорить впоследствии. Пушкин обратил на него свое внимание, заинтересованный его интригой, которая напоминала ему многое из того, что он сам видел на веку своем. Он решился, по следам Бульвера, рассказать кое-что о Пельгамах русского происхождения и воспитания. Плодом этой мысли были программы романа, которые теперь представляем читателям. Нужно ли прибавлять, что он не взял ни одной черты из английского произведения для своего плана, и оно остается только в значении внешнего толчка, данного фантазии поэта? Пушкин скоро перестал и называть своего героя русским Пельгамом, как было начал, перекрестив его просто в нашего доморощенного Пелымова.
Четыре раза приступал Пушкин к изложению на бумаге плана будущего распорядка и действия задуманного им романа, и плодом этого были четыре последовательные программы, расширившие каждая все более и более рамки предприятия. Из них две первые не совсем безызвестны нашей читающей публике: они были напечатаны в «Библиографических Записках» 1859 года (№№ 5 и 6) с цензурного одобрения и с незначительными пропусками, которые здесь восстанавливаем. Для понимания основной идеи романа мы принуждены были повторить их в этом отчете. Две последние, еще не опубликованные и, кажется нам, наиболее важные, освещают многое из того, что едва намечено первыми, и уже помогают различить цели и намерения автора с некоторою ясностью и определенностью.
Вот первые два проекта повести, приведенные «Библиографическими Записками».
I
«Русский Пелам – сын барина, воспитан французами. Отец его frivole в русском роде. Двоюродный брат его[100 - Здесь неразборчивая иностранная фраза: она должна содержать намек на то, что этот двоюродный брат есть, как оказывается из последующих программ, побочный сын кн. X… Это следует помнить читателю, для понимания дальнейшего развития программы.]… Пелам в свете – театр, литераторы, картежники. Он свидетель бесчестия одного молодого человека. Его дружба с Ф. Ор. Он помогает ему увезти любовницу, отказывается от игры фальшивой. Брат [то есть, вышеупомянутый двоюродный брат] в игре получает пощечину; дуэль, брат его струсил.
Ф. Ор. увозит девушку; ее несчастное положение – бедность – разврат мужа; она влюбляется в Пелама – связь ее с ним – подозрения мужа. Смерть Ф. Ор.
Пелам влюбляется в женщину высшего общества. Пелам в большом обществе, любовь в большом свете. (Пелам едет в —). Отец его умирает. Пелам в деревне (эпизод жены Ф. Op.). Соседи, жизнь русских помещиков. Слышит о свадьбе двоюродного брата, едет в Петербург. Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства. Он выслан из города (Ф. Ор. доходит до разбойничества – Пелам son confident). Он свидетель нападения [NB: а не наказания, как ошибочно напечатано в «Библиографических Записках»]. Он оправдан самим Ф. Ор.»
Остановимся на этой первой программе. Итак, вот главные черты ее, которые в следующих программах будут только полнеть, крепнуть и резче обозначаться. В родном доме Пелам уже на первых порах встречается с загадкой, с так называемым двоюродным братом своим, мальчиком сомнительного происхождения. Затем, при выходе в свет он тотчас же окружен всею золотою молодежью того времени, в числе которой почетное место занимают и картежники. С одним из них, Ф. Op., он состоит на дружеской ноге и хотя отказывается поступить в сословие шулеров, но помогает ему похитить девушку и становится его поверенным даже и тогда, когда тот в водовороте удалого кутежа доходит до разбоя. Любовь к девушке высшего общества, куда Пелам тоже попадает, неожиданно и скоро кончается отъездом в деревню: Пелама высылают из города по делу Ф. Ор. В деревне он хоронит отца, ведет жизнь помещика того времени, завязывает связи с соседями и с дворней и проч. Двоюродный брат его, наоборот, степенно женится, становится врагом Пелама, доносит на брата, который между тем оправдался от наветов его и, вероятно, опять является в город, о чем программа однако ж не упоминает, довольствуясь обозначением фактов и упуская вообще их распределение и порядок их постепенного возникновения.
Таков первый набросок плана. При втором приступе к нему Пушкин, сохраняя главную основу романа неприкосновенно, вводит в него новые подробности, которые отчасти дополняют, а отчасти даже и изменяют физиономию первоначальной темы. Связь между обеими программами заключается преимущественно в общей им истории похождений какого-то светского кутилы, обозначаемого буквами Ф. Ор. Скажем теперь же, что это недописанное имя не должно давать повода к каким-либо догадкам о лице, под ним скрывающимся, потому что в сущности ни до кого не относится. Под ним собраны у Пушкина подвиги и черты множества светских кутил, которыми так обилен был век, и которые, расточая безоглядно свою жизнь и свои силы, нередко доходили до уголовных преступлений. Старожилы еще помнят, как долго ходили по Москве толки об убийстве, совершенном двумя выдающимися светскими молодыми членами высшего общества Алябьевым и Шатиловым, на большой дороге и над несчастным игроком, который, проиграв им значительную сумму денег, хотел избавиться от этого долга чести бегством из столицы…
II
«Пелам выходит в большой свет (влюбляется) и, наскуча им, вдается в дурное общество.
В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Ор и с ним дружится, отказывается от игры наверное, помогает ему увезти девушку.
Продолжает свою беспутную жизнь. Связь его с танцоркой на счет гр. З*.
Дуэль Ф. Ор. с двоюродным братом Пелама.
(Несчастная жизнь жены Ф. Ор. – Ор. доходит до нищеты и до разбойничества. Пелам узнает обо всем – укрывает его у себя)[101 - Круглые скобки поставлены Пушкиным и должны были напоминать, что эпизодическая подробность эта относится к позднейшей деревенской жизни Пелама.].
Пелам влюбляется. Отец у него умирает. Перемена его. Он ссорится с танцоркой.
Он сватается – ему отказывают.
Он едет в деревню.
Разбой —