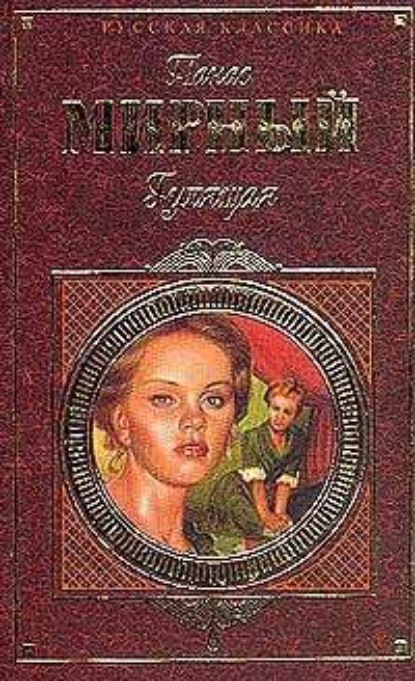По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гулящая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Спасибо.
– Филипп дома?
– Нет его.
– Вот тебе и на! На черта и лучше! А мне его надо. Где же он?
– Да как поехал на ярмарку еще в Варварин день, так и не возвращался, – вздохнув, говорит Приська.
– На черта и лучше! – повторил Грыцько.
– А что вам?
– Что? Подушную! – грозно крикнул Грыцько, пройдясь по хате и ударив ногой об ногу.
– Не знаю, – помолчав, говорит Приська. – Когда вернется, скажу… Повез немного хлеба продать; если продал…
– Да я эту песню всюду слышу, – перебил ее Грыцько. – Черт понес их на ярмарку! А тут житья не дают: иди да иди! По такой погоде… ххе!
– Что же им так приспичило? – спрашивает Приська.
– Бог их знает!.. Вот несчастье!.. – почесывая затылок, произнес Грыцько. – Они там на ярмарках гуляют, водку пьют, а ты тут ходи да кланяйся…
Приська молчала. Она хорошо знала этого Грыцька: не было более горячего человека во всем селе. Рассердить его – что раз плюнуть; а если рассердился, так пристанет, как репейник. Лучше уж молчать. Грыцько молча ходил по хате, потирал руки, бил сапогом об сапог.
– А теперь еще плестись к Гудзю! Весь свет, вишь, обнищал, – сердился Грыцько. – Душу за них, проклятых, заложи!.. Да хоть бы деньги давали.
– Что ж, если нет денег, – тихо говорит Приська, – разве б люди не рады были отдать? А если и заработать нельзя?
– Брехня! – оборвал ее Грыцько. – Таков уж нрав лодырей, привычка такая чертова! Так повелось: ходи к ним по десять раз да проси, в ноги кланяйся!.. А нет того, что раз ты должен – отдай, что следует с тебя. Так нет же! Лучше в шинке пропью, чем в казну отдам.
– Было бы что отдавать, – усмехаясь, говорит Приська, – а не то что в шинок носить… Уже, сдается, что у кого было, все содрали… Доколе будут с нас драть?
– То не нашего ума дело… Сказано – дай, значит – отдай.
– Ведь и даванию конец должен быть… Уж все, что было, забрали… ягнят продали, свиней продали, одежду лишнюю… Остались – в чем душа держится. Доколе же его брать и откуда оно возьмется?
– Толкуй! Что тебе, поможет?… А ну, дай-ка, девка, огонька закурить, – подходя к печи, сказал Грыцько.
Христя достала ему жар.
– Как же ты его возьмешь? – крикнул Грыцько, показывая рукой на кучу пепла, в котором тлели угольки. – А с хлопцами небось проворна? – злобно ввернул он. – Давай пучок соломы!
Христя скрутила соломенный жгут, зажгла его и подала Грыцько.
– Так ты ж скажи Филиппу, чтобы беспременно принес деньги, – говорит Грыцько, раскуривая трубку. Огонь осветил его лицо, насупленные брови, серые злые глаза, скользнувшие по лицу Христи… Кажется, трескучий мороз не обдал бы ее таким холодом, как этот взгляд.
– Скажу, скажу…
– Ска-а-жу-у! – нараспев сердито повторил Грыцько, сплюнул, надел бурку и вышел из хаты.
– Учтивый дядька, нечего сказать. Ушел и даже не попрощался! – сказала Христя.
– Жди от Грыцька учтивости – дождешься! Он уже и людское обхождение из-за своей спеси забыл, – вздохнув, промолвила Приська и снова забилась в угол.
Тяжелая, саднящая тоска сдавила ей сердце, гнетущие мысли заполнили голову. Картины ее долгой жизни промелькнули перед глазами. Где ее радости, веселье? День-деньской работа, хлопоты, ни погулять, ни отдохнуть. А нужда какая была, такая и есть, с детства привязалась и не отвяжется… Все хорошее в сердце, живое в душе она, как червь, источила; и красота была, да незаметно поблекла; и сила неизвестно куда девалась; надежды увяли; осталось только одно – дочку пристроить, тогда и умереть можно… Без жалости, без печали, скорее с радостью оставила бы она этот мир: такой он горький, осточертевший, темный и неприветливый… Там – хоть вечный покой, а тут ни отдыха нет, ни одной отрадной минуты… Она и так долго протянула; другого бы раздавила такая тяжелая нужда и горе или заставила руки на себя наложить, а она все вытерпела, все превозмогла… Неудивительно, что в сорок лет поседела; глубокие морщины изрезали высокий лоб, избороздили некогда полное румяное лицо; высушенное и обесцвеченное беспросветной жизнью, оно стало желтым, как воск; стройный стан согнулся, сгорбилась спина и впала грудь, а юный жар в очах погас, потускнел, как вянет цветок на морозе. Глубокие занозы вогнала жизнь в сердце Приськи, страшным морозом сковало ей душу! Как мученица, сидела она теперь на нарах, и не хотелось ей глядеть ни на что, не хотелось жить; закрыв глаза, она тяжко вздохнула.
Буря выла, наполняя отчаянием душу, сердце, все существо Приськи.
– Вы бы легли, мама, отдохнули, – окончив работу, говорит Христя.
– Он уже не вернется сегодня, – глухо промолвила Приська. – И то – отдохнуть пора… – Вытянув свои синие корявые руки, она взобралась на печь. Суставы ее трещали, сама она все время стонала.
Христя проводила взглядом мать, и сердце ее захолонуло. Как она постарела, высохла, немощна. Неужели и ей суждено быть такой? Не приведи Господи!
Всю ночь будили Христю тяжелые вздохи матери, не раз слышала она и сдавленный плач.
– Мама, вы плачете? – допытывалась Христя.
Плач и вздохи на некоторое время замирали. И тогда слышней становилось жалобное завывание вьюги.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Недаром горевала Приська, недаром всю ночь не спала, то заливаясь горькими слезами, то тяжело вздыхая. Уже третий день миновал после Николы, а Филиппа все еще не было. Ежедневно бегала она к Здорихе разузнать, не вернулся ли ее муж. Пока Здора не было, надежда еще теплилась в ее душе, шевелилась на самом дне, согревала. А когда Карпо приехал и сказал, что Филипп, продав хлеб, ушел куда-то и больше ему на глаза не попадался, – ни жива ни мертва вернулась Приська домой. В голове у нее гудит, в ушах звенит, в глазах темно… Она не могла вымолвить ни слова; как слегла, так и пролежала, словно деревянная, до следующего дня.
Назавтра она пошла по селу расспросить у вернувшихся из города, не видел ли кто-нибудь ее Филиппа. Кнур сказал, что видел его в шинке; Грыцько Хоменко рассказывал, что встретил его в компании с Власом Загнибидой; Дмитро Шкарубский сказал, что в самый Николин день Филипп ушел из города. «Куда ты? – спросил Дмитро. Домой? Что, расторговался?» – «Расторговался», – ответил Филипп, ударив рукой по карману. «А не боишься, что метет?» – спросил Дмитро. «Это не про нас метет», – смеясь, ответил Филипп. «А про кого же?» – «Про тех, что в рыдванах ездят и боятся мороза». – И, захохотав, пошел прочь.
Другие на вопросы Приськи ответили, что и в глаза не видали Филиппа; проклинали метель, проклинали дорогу, занесенную снегом; клялись, что во веки веков не поедут больше на эту ярмарку; рассказывали, что много народу замерзло, не говоря уж о тех, кто руку, ногу или нос отморозил… И полиция, и становые пристава ездят всюду, разрывают снежные сугробы и откапывают залубеневшие трупы. «Как дрова они навалены в полиции», – добавил Петро Усенко.
Вернулась Приська домой опечаленная, в слезах. Христя, глядя на нее, тоже плачет; друг другу слова не говорят. А тут еще Грыцько наседает: каждый день за подушной податью приходит – покоя от него нет.
– Где же я возьму? Видишь – Филипп не возвращается, – плача, ответила Приська.
– Запил, должно быть, – не унимается Грыцько. – Все уже вернулись, а его все нет.
– Может, и не вернется никогда… – говорит Приська.
– Черт его возьмет! Такого ничто не берет! – кричит Грыцько, потом еще Христю шпыняет… все хлопцами ее укоряет. Христя знает, куда он гнет, но молчит, чтобы пуще его не разозлить.
Грыцько – богатей, мироед; у него три пары волов, две лошади, целая сотня овец, две хаты – одну сдает внаем, в другой живет сам с женой и сыном. Тихий хлопец его сын Федор, красивый, работящий, послушный; водку не пьет, по шинкам не шатается. Все бы хорошо, да… сватал осенью Грыцько Федора за Рябченкову Хиврю, – хоть и очень некрасивую, зато богатую, – а Федор возьми и заупрямься: «Ни за что не возьму Хиврю». – «А кого же тебе надо? Поповну?» – «Вот, – говорит Федор, – красивая девка у Притыки – Христя». Грыцько так посмотрел на сына, словно хотел этим взглядом пронзить его насквозь. «У Притыки?… Красивая, а что у нее за душой?» – грозно спросил он. И уже больше к Федору не приставал.
С того времени Грыцько никогда не упускал случая так или иначе насолить Притыке. А Федор, несмотря на отцовские угрозы, все больше привязывался к Христе; не так она к нему, как он к ней льнет. По селу пошли разговоры: околдовала Христя Федора да и насмехается над ним. Услышал это Грыцько и совсем взбеленился: выругал Федора, чуть не избил и угрожал, что он этого Притыку со всей его семьей со свету сживет; а если Христю где встретит, сейчас ей начнет глаза колоть хлопцами. Так и теперь – точно иголки втыкал в ее и без того израненное сердце. Христя молчала. Да и что ей сказать? Что ей теперь до хлопцев, когда дома такая беда? Но Приська заступилась за нее.
– Что ты мелешь, Грыцько? – спросила она. – Только увидишь Христю, так все с хлопцами к ней пристаешь…
– А ты за своей дочкой смотришь? – грозно спросил Грыцько.
Защемило материнское сердце. Тяжелая тоска и без того придавила его, а тут острая обида точно шилом проколола.