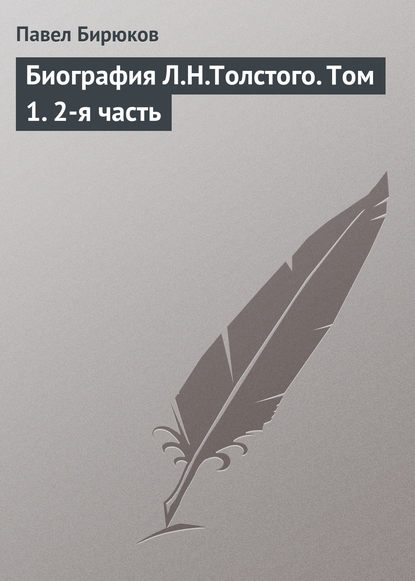По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Биография Л.Н.Толстого. Том 1. 2-я часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Понятие «образование» не совпадает с понятием «грамотность».
Мы видим людей, хорошо знающих все факты, необходимые для агрономии, и большое число отношений этих фактов, не знающих грамоты; или прекрасных военных распорядителей, прекрасных торговцев, управляющих, смотрителей работ, мастеров, ремесленников, подрядчиков и просто образованных жизнью людей с большими знаниями и здравым суждением, основанным на этих знаниях, не знающих грамоты, и, наоборот, видим знающих грамоту и не приобретших вследствие этого искусства никаких новых знаний».
Как на одну из причин противоречия между жизненными потребностями народа и навязываемой ему интеллигенцией грамотностью, Толстой указывает на исторический ход развития учебных заведений.
«Прежде основались не низшие, а высшие школы: сначала монастырские, потом средние, потом народные…
Грамота есть последняя ступень образования в этой организованной иерархии заведений, или первая ступень с конца, и потому низшая школа отвечала при теперешнем порядке только на те потребности, которые заявляет высшая школа. Но есть другая точка зрения, с которой народная школа представляется самостоятельным учреждением, не обязанным нести на себе недостатки устройства высшего учебного заведения, но и имеющим свою независимую цель народного образования».
Школа грамоты существует в народе как мастерская и удовлетворяет своей ограниченной потребности, и потому грамотность для него есть особого рода ремесло или искусство.
Выяснив эту сущность грамотности и указав присущее ей место в народной жизни, Лев Николаевич переходит к рассмотрению различных методов обучения грамотности.
Разобрав достоинства и недостатки старинной методы буки-аз-ба, метод гласных и метод звуковой, остановившись несколько дольше на комизме немецкой педантической Lautiranchau und sunterrichts methode, он выводит заключение, что все методы хороши и все дурны, что искусство и талант учителя есть основание всякой методы, и, наконец, обращается к учителю со следующим советом:
«Всякий учитель грамоты должен твердо знать и опытом своим проверить одну выработанную в народе методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе способность изобретать новые приемы. Всякий учитель должен знать, что каждая изобретенная метода есть ступень, на которую должно становиться для того, чтобы идти дальше; должен знать, что ежели он сам того не сделает, то другой, усвоив себе эту методу, на основании ее пойдет дальше, и что, так как дело преподавания есть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны».
Еще более подробно и ясно развивает Лев Николаевич свои педагогические понятия в своей статье «Воспитание и образование».
Прежде всего Толстой констатирует факт смешения этих двух понятий у большей части педагогов как русских, так и европейских. И затем он старается восстановить разницу этих понятий, давая свои определения трем главным педагогическим терминам: образование, воспитание и преподавание.
«Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказание родителей, книги, работы, учение, насильственное или свободное, искусства, науки, жизнь – все образовывает.
Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки.
Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение, оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно, и когда преподавание ведется исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными».
Воспитание насильственно, образование свободно. Но где же право на это насилие?
«Право воспитания не существует. Я не признаю его, – говорит Толстой, – не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания».
Где же причины такого не признаваемого человечеством насилия? На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так:
«Если существует веками такое ненормальное явление, как насилие в образовании – воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве и 4) в обществе (в тесном смысле – у нас, в кругу чиновников и дворянства)».
Не оправдывая первых трех причин насилия, Толстой говорит, что они понятны. Трудно воспрепятствовать родителям стараться воспитывать детей такими, каковы они сами, трудно верующему человеку не стремиться к тому, чтобы ребенок рос в вере его руководителя, наконец, трудно требовать от правительства, чтобы оно не воспитывало нужных ему чиновников.
Но какое право имеет привилегированное, либеральное общество воспитывать чуждый ему народ по своему шаблону – этого нельзя объяснить ничем иным, как грубым, эгоистическим заблуждением. Отчего же происходит это заблуждение?
«Я думаю, – говорит Толстой, – только оттого, что мы не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим, потому что он говорит не в печати и не с кафедры. А это могучий голос народа, – надо прислушиваться к нему».
И вот Толстой приступает к рассмотрению орудий этого воспитательного насилия, т. е. учебных заведений, от низших до высших, и не видит в них ничего отрадного. Особенной критике подвергает он устройство наших университетов. Не отвергая в принципе университетского образования, Толстой говорит:
«Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее – собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, неизвестные нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов».
Кроме отсутствия свободы, самостоятельности, один из главных недостатков наших университетов – это абсолютная оторванность их от жизни:
«Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргиза-скотовода быть скотоводом: он смолоду уже становится, в прямые отношения с жизнью, с природой, с людьми, смолоду учится, плодотворно работая, и учится, обеспеченный с материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещением; и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающим его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студентов за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостью и не находящие себе места в жизни, так называемые люди университетского образования, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присваивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу».
На эту радикальную постановку вопроса Толстой предвидит робкое возражение людей, боящихся перемены, и тут же отвечает на это возражение, заключая этим ответом свою статью:
«Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с человечеством? – слышу я. Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и вы не сумеете их сделать хорошими. Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д., – слышу я. Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь; я только говорю, что, если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу так же, как и вы. Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать? – опять слышу я.
Не бойтесь, будет и латынь, и риторика, будут еще сотни лет, и будут только потому, что лекарство куплено – надо его выпить» (как говорил один больной). Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут все готовые заведения: училища, гимназии, университеты, и вырастут свободно сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения».
Конечно, такие дерзкие мысли не могли быть приняты педагогами, руководившими в 60-х годах в России общественным и народным образованием. Оскорбленная наука даже не удостоила этих мыслей серьезным возражением. В «Сборнике критической литературы о Толстом» Зелинского, составленном очень тщательно, находятся только две серьезные статьи, посвященные журналу «Ясная Поляна» и яснополянской школе, помещенные одна в «Современнике» в 1862 году, другая в «Русском вестнике» в 1862 году.
На одну из них, статью Е. Маркова, Лев Николаевич ответил в своем журнале статьей «Прогресс и определение образования».
Сущность возражения Маркова, резюмированная им в конце его статьи, заключается в том, что Марков открыто признает за обществом право педагогического насилия и, стало быть, отрицает свободное образование; затем он признает современные системы образования удовлетворительными, в практике же яснополянской школы, к которой он относился с восторгом, видит противоречие с теориями ее основателя и руководителя Л. Н. Толстого.
Толстой, возражая Маркову и повторяя и разъясняя сказанное уж им в предыдущих статьях, приходит к заключению, что главное разногласие его с Марковым основано на том, что Марков верит в прогресс, а у него этой веры нет.
И, объясняя свое отрицание прогресса, он говорит следующее:
«Во всем человечестве, с незапамятных времен, происходит процесс прогресса, говорит историк, верующий в прогресс, и доказывает это положение, сравнивая, положим, Англию 1685 года с Англией нашего времени. Но если бы даже и можно было доказать, сравнивая Россию, Францию и Италию нашего времени с древним Римом, Грецией, Карфагеном и т. д., что благосостояние новых народов более благосостояния древних, меня при этом всегда поражает одно непонятное явление – выводят общий закон для всего человечества из сравнения одной малой части человечества Европы в прошедшем и настоящем. Прогресс есть общий закон для человечества, говорят они, только кроме Азии, Африки, Америки, Австралии, кроме миллиарда людей. Нами замечен закон прогресса в герцогстве Гогенцоллерн-Зигмарингенском, имеющем 3000 жителей. Нам известен Китай, имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу теорию прогресса, и мы ни на минуту не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества и что мы, верующие в прогресс, правы, а неверующие в него виноваты, и мы с пушками и ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Здравый смысл говорит мне, что ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток, не подтверждает закона прогресса, а, напротив, опровергает его, то закона этого не существует для всего человечества, а существует только верование в него известной части человечества. Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, что человечество живет, что воспоминания прошедшего так же увеличиваются, как и исчезают; что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего, часто служат и преградой для них; что благосостояние людей то увеличивается в одном месте, в одном слое и в одном смысле, то уменьшается; что, как бы мне ни желательно было, я не могу найти никакого общего закона в жизни человечества, а что подвести историю под идею регресса так же легко, как подвести ее под идею прогресса или под какую хотите историческую фантазию. Скажу более: я не вижу никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека, и только вследствие заблуждения переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается пустою, праздною болтовнею, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма. Прогресс вообще в человечестве есть факт недоказанный и несуществующий для всех восточных народов, и потому сказать, что прогресс есть закон человечества, столь же неосновательно, как сказать, что все люди бывают белокурые, за исключением черноволосых».
Положения, высказанные в этой цитате, подробно развиваются Львом Николаевичем в его статье, но это уже выходит несколько из рамок нашего обозрения.
Мы закончим наше изложение, упомянув еще об одной статье, под названием «Проект общего плана устройства народных училищ». Статья эта представляет остроумную критику и беглый обзор вышедшего в 1862 году нового правительственного положения об училищах.
Общие критические замечания Льва Николаевича на это положение можно резюмировать в следующих пунктах: 1) В основу этого положения легла американская система: обложение народа школьной податью и содержание правительством всех школ на эту собранную подать. Но то, что хорошо в демократической республике, то может быть очень плохо в деспотическом государстве, где закон, выражающий «волю народа», обращается в грубое насилие над ним. 2) Общая несостоятельность проекта – это неприспособленность его к народным потребностям, основанная на полном незнании русской народной жизни его составителями, и, наконец, 3) Регламентация народного образования, утверждаемая этим положением, послужит тормозом уже существующего и распространяющегося свободного народного образования.
Заканчивая этим беглый обзор педагогических взглядов Льва Николаевича, мы выскажем наше заключение, совершенно противоположное заключению г-на Маркова, а именно, что практика яснополянской школы нисколько не является противоречием этим взглядам, а, напротив, их непосредственным приложением, проведенным с неподражаемым и блестящим успехом. Мы воспользуемся описаниями, сделанными самим Львом Николаевичем, как автобиографическим материалом.
Глава 15. Устройство и практика яснополянской школы
Лев Николаевич несколько раз принимался за педагогическую деятельность.
Еще в 1849 году, когда он возвратился в Ясную Поляну из Петербурга, он завел народную школу, вместе с другими учреждениями и реформами, посредством которых он пытался сблизиться с народом. Мы знаем из его «Утра помещика», как неудачно кончилась эта первая попытка. С его отъездом на Кавказ школа, конечно, закрылась. Он возобновил ее, возвратясь в Ясную Поляну по выходе в отставку и после первой заграничной поездки. Мы упоминали об этом в своем месте.
Возобновив свои педагогические занятия, Лев Николаевич почувствовал недостаток теоретических знаний и поспешил пополнить этот пробел своего образования чтением, заграничной поездкой, личными сношениями с выдающимися педагогами и практическими занятиями в разных школах. Почувствовав себя в силах, он с новым рвением в третий раз принялся за школьное дело и довел его до небывалой высоты.
Вот как он сам рассказывает в одной из педагогических статей об этих своих попытках и подготовке к школьному делу:
«15 лет тому назад, когда я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий и взглядов на дело, с одним только желанием прямо, непосредственно содействовать этому делу, будучи учителем в своей школе, я тотчас же столкнулся с двумя вопросами: 1) чему нужно учить? и 2) как нужно учить?
…Во всей массе людей, заинтересованных образованием, существует, как и прежде существовало, величайшее разноречие. В то время, как и теперь, одни, отвечая на вопрос: чему надо учить? – говорили, что, кроме грамоты, самые полезные для первоначальной школы знания суть знания естественные; другие, как и теперь, говорили, что это не нужно и даже вредно; так же, как и теперь, одни предлагали историю, географию, другие отрицали их необходимость, одни предлагали славянский язык и грамматику, закон Божий, другие находили и это излишним и приписывали главную важность развитию. По вопросу: как учить? – было и есть еще большее разногласие. Предлагались и предлагаются самые противоположные один другому приемы обучения грамоте и арифметике.
Встретившись с этими вопросами и не найдя на них никакого ответа в русской литературе, я обратился к европейской. Прочтя то, что было писано об этом предмете, познакомившись лично с так называемыми лучшими представителями педагогической науки в Европе, я нигде не только не нашел какого-нибудь ответа на занимавший меня вопрос, но убедился, что вопроса этого для педагогии как науки даже не существует, что каждый педагог известной школы твердо верит, что те приемы, которые он употребляет, суть наилучшие, потому что они основаны на абсолютной истине, и что относиться к ним критически было бы бесполезно. Между прочим, потому ли, что, как я сказал, я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий, или потому что я взялся за это дело, не издалека предписывая законы, как надо учить, а сам стал школьным учителем в глухой деревенской народной школе, – я не мог отказаться от мысли, что необходимо должен существовать критериум, по которому решается вопрос, чему и как лучше учить: учить ли наизусть псалтырь или классификацию организмов, учить ли по звуковой, переведенной с немецкого азбуке, или по часовнику? В решении этих вопросов мне помогли: некоторый педагогический такт, которым я одарен, и в особенности то близкое и страстное отношение, в которое я стал к делу. Вступив сразу в самые близкие непосредственные отношения с теми 40 маленькими мужичками, которые составляли мою школу (я их называю маленькими мужичками, потому что я нашел в них те самые черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого, которыми вообще отличается русский мужик), увидав эту восприимчивость, открытость к приобретению тех знаний, в которых они нуждались, я тотчас же почувствовал, что старинный, церковный способ обучения уже отжил свой век и не годится для них. И я стал испытывать другие предлагаемые методы обучения; но так как принуждение при обучении и по убеждению моему, и по характеру мне противно, я не принуждал и, как скоро замечал, что что-нибудь неохотно принимается, я не насиловал и отыскивал другое. Из этих опытов оказалось для меня и тех учителей, которые вместе со мною в Ясной Поляне и других школах, на тех же основаниях свободы, занимались преподаванием, что почти все то, что пишется в педагогическом мире для школ, отделяется неизмеримою пучиною от действительности, и что из предлагаемых методов многие приемы, как, например, наглядное обучение, естественные науки, звуковые приемы и другие, вызывают отвращение и насмешку и не принимаются учениками. Мы стали отыскивать то содержание и те приемы, которые охотно воспринимались учениками, и напали на то, что составляет мой метод обучения. Но этот метод становился наряду со всеми другими методами, и вопрос о том, почему он лучше других, оставался точно так же не решенным.
…В то время я не нашел в педагогической литературе не только сочувствия, не нашел даже и противоречий, но совершеннейшее равнодушие к поставленному мною вопросу. Были нападки на некоторые подробности, мелочи, но самый вопрос, очевидно, никого не интересовал. Я тогда был молод, – и это равнодушие огорчало меня. Я не понимал, что я со своим вопросом: почем вы знаете, чему и как учить? – был подобен тому человеку, который бы, положим, хоть бы в собрании турецких пашей, обсуждающих вопрос о том, как бы побольше с народа собрать податей, предложил бы им следующее: гг., чтобы знать, с кого сколько податей, надо разобрать вопрос, на чем основано наше право взимания? Очевидно, все паши продолжали бы свое обсуждение о мерах взыскания и только молчанием отозвались бы на неуместный вопрос».
В 1860 г. Л. Н-ч задумывал основать общество народного образования. Мысли свои по поводу этого он изложил в своем письме к Егору Петровичу Ковалевскому, брату тогдашнего министра народного просвещения, своему севастопольскому сослуживцу и, очевидно, близкому ему по душе человеку. Приводим здесь целиком это интересное письмо:
«Вы, может быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уж 3-й год живу в деревне и занимаюсь хозяйством. Нынешний год (с осени), кроме хозяйства, я занимаюсь еще школой для мальчиков, девочек и больших, которую я завел для всех желающих. У меня набралось около 50 учеников, и все прибавляются. Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны. Но всего не расскажешь, как и почему; надо или книгу написать, или самому посмотреть. Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, академии художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится 1/100 доля всего народонаселения. Все это полезно (академии и т. д.), но полезно так, как полезен обед Английского клуба, который весь съест эконом и повар. Все эти вещи производятся всеми 70000000 русских, а потребляются тысячами. Как ни смешны славянофилы со своей народностью и оторванностью et tout le tremblement, они только не умеют называть вещи по имени, а они, нечаянно, правы. Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных, или, вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств. Впрочем, ежели бы в Англии приходился 1 дикий на сто, и тогда, наверно, общественное зло происходило бы только от этого процента диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большею частью – насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества? Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. Только кажется, что Наполеон III заключил Виллафранкский мир и запрещает журналы и хочет захватить Савойю, а все это делают Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты. Однако мои педагогические привычки увлекли меня, и мне самому смешно, что я вам пресерьезно доказываю, что 2 ? 2 = 4, т. е. что насущнейшая потребность русского народа есть народное образование. Образования этого нет. Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведовать им. Что его нет, этого доказывать нельзя, а ежели бы вы были здесь, то мы бы сейчас обошли всю деревню и посмотрели бы и послушали. Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы тоже сейчас прошли в школу, и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами: полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Грамота, процесс чтения и писания, вредна. Первое, что они читают, – славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе – гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее неучеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества. Не стану приводить пример Англии, самой образованной страны, – самая сущность дела говорит за себя. Ежели бы правительство бросило все дела, закрыло бы все департаменты и комиссии (и прекрасно бы сделало) и занялось бы одним народным воспитанием, и тогда едва ли бы оно успело, – потому что механизм, усвоенный правительством, помешал бы ему, и, главное, потому что интересы его кажутся отдаленными (в сущности, это один его интерес) от народного образования. Общество же должно успеть, потому что интересы его непосредственно связаны со степенью образования народа, потому что лишенные всех насильственных средств действия общества будут сообразоваться только с потребностью народа, которая выразится в филантропическом или денежном успехе предприятия, в степени удовлетворения народной потребности будут постоянно иметь поверку своих действий. Но я опять, кажется, доказываю дважды два. Вопрос может быть только в том, существует ли потребность образовывать и образовываться. Для меня этот вопрос решенный. Полгода моей школы породили три таких же в околотке, и везде успех был одинаковый. Дело вот в чем: что скажет правительство, ежели ему представить следующий проект:
«Общество народного образования (или более скромные название) имеет целью распространение образования в народе.
Мы видим людей, хорошо знающих все факты, необходимые для агрономии, и большое число отношений этих фактов, не знающих грамоты; или прекрасных военных распорядителей, прекрасных торговцев, управляющих, смотрителей работ, мастеров, ремесленников, подрядчиков и просто образованных жизнью людей с большими знаниями и здравым суждением, основанным на этих знаниях, не знающих грамоты, и, наоборот, видим знающих грамоту и не приобретших вследствие этого искусства никаких новых знаний».
Как на одну из причин противоречия между жизненными потребностями народа и навязываемой ему интеллигенцией грамотностью, Толстой указывает на исторический ход развития учебных заведений.
«Прежде основались не низшие, а высшие школы: сначала монастырские, потом средние, потом народные…
Грамота есть последняя ступень образования в этой организованной иерархии заведений, или первая ступень с конца, и потому низшая школа отвечала при теперешнем порядке только на те потребности, которые заявляет высшая школа. Но есть другая точка зрения, с которой народная школа представляется самостоятельным учреждением, не обязанным нести на себе недостатки устройства высшего учебного заведения, но и имеющим свою независимую цель народного образования».
Школа грамоты существует в народе как мастерская и удовлетворяет своей ограниченной потребности, и потому грамотность для него есть особого рода ремесло или искусство.
Выяснив эту сущность грамотности и указав присущее ей место в народной жизни, Лев Николаевич переходит к рассмотрению различных методов обучения грамотности.
Разобрав достоинства и недостатки старинной методы буки-аз-ба, метод гласных и метод звуковой, остановившись несколько дольше на комизме немецкой педантической Lautiranchau und sunterrichts methode, он выводит заключение, что все методы хороши и все дурны, что искусство и талант учителя есть основание всякой методы, и, наконец, обращается к учителю со следующим советом:
«Всякий учитель грамоты должен твердо знать и опытом своим проверить одну выработанную в народе методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе способность изобретать новые приемы. Всякий учитель должен знать, что каждая изобретенная метода есть ступень, на которую должно становиться для того, чтобы идти дальше; должен знать, что ежели он сам того не сделает, то другой, усвоив себе эту методу, на основании ее пойдет дальше, и что, так как дело преподавания есть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны».
Еще более подробно и ясно развивает Лев Николаевич свои педагогические понятия в своей статье «Воспитание и образование».
Прежде всего Толстой констатирует факт смешения этих двух понятий у большей части педагогов как русских, так и европейских. И затем он старается восстановить разницу этих понятий, давая свои определения трем главным педагогическим терминам: образование, воспитание и преподавание.
«Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказание родителей, книги, работы, учение, насильственное или свободное, искусства, науки, жизнь – все образовывает.
Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки.
Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение, оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно, и когда преподавание ведется исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными».
Воспитание насильственно, образование свободно. Но где же право на это насилие?
«Право воспитания не существует. Я не признаю его, – говорит Толстой, – не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания».
Где же причины такого не признаваемого человечеством насилия? На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так:
«Если существует веками такое ненормальное явление, как насилие в образовании – воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве и 4) в обществе (в тесном смысле – у нас, в кругу чиновников и дворянства)».
Не оправдывая первых трех причин насилия, Толстой говорит, что они понятны. Трудно воспрепятствовать родителям стараться воспитывать детей такими, каковы они сами, трудно верующему человеку не стремиться к тому, чтобы ребенок рос в вере его руководителя, наконец, трудно требовать от правительства, чтобы оно не воспитывало нужных ему чиновников.
Но какое право имеет привилегированное, либеральное общество воспитывать чуждый ему народ по своему шаблону – этого нельзя объяснить ничем иным, как грубым, эгоистическим заблуждением. Отчего же происходит это заблуждение?
«Я думаю, – говорит Толстой, – только оттого, что мы не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим, потому что он говорит не в печати и не с кафедры. А это могучий голос народа, – надо прислушиваться к нему».
И вот Толстой приступает к рассмотрению орудий этого воспитательного насилия, т. е. учебных заведений, от низших до высших, и не видит в них ничего отрадного. Особенной критике подвергает он устройство наших университетов. Не отвергая в принципе университетского образования, Толстой говорит:
«Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее – собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, неизвестные нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов».
Кроме отсутствия свободы, самостоятельности, один из главных недостатков наших университетов – это абсолютная оторванность их от жизни:
«Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргиза-скотовода быть скотоводом: он смолоду уже становится, в прямые отношения с жизнью, с природой, с людьми, смолоду учится, плодотворно работая, и учится, обеспеченный с материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещением; и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающим его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студентов за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостью и не находящие себе места в жизни, так называемые люди университетского образования, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присваивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу».
На эту радикальную постановку вопроса Толстой предвидит робкое возражение людей, боящихся перемены, и тут же отвечает на это возражение, заключая этим ответом свою статью:
«Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с человечеством? – слышу я. Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и вы не сумеете их сделать хорошими. Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д., – слышу я. Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь; я только говорю, что, если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу так же, как и вы. Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать? – опять слышу я.
Не бойтесь, будет и латынь, и риторика, будут еще сотни лет, и будут только потому, что лекарство куплено – надо его выпить» (как говорил один больной). Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут все готовые заведения: училища, гимназии, университеты, и вырастут свободно сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения».
Конечно, такие дерзкие мысли не могли быть приняты педагогами, руководившими в 60-х годах в России общественным и народным образованием. Оскорбленная наука даже не удостоила этих мыслей серьезным возражением. В «Сборнике критической литературы о Толстом» Зелинского, составленном очень тщательно, находятся только две серьезные статьи, посвященные журналу «Ясная Поляна» и яснополянской школе, помещенные одна в «Современнике» в 1862 году, другая в «Русском вестнике» в 1862 году.
На одну из них, статью Е. Маркова, Лев Николаевич ответил в своем журнале статьей «Прогресс и определение образования».
Сущность возражения Маркова, резюмированная им в конце его статьи, заключается в том, что Марков открыто признает за обществом право педагогического насилия и, стало быть, отрицает свободное образование; затем он признает современные системы образования удовлетворительными, в практике же яснополянской школы, к которой он относился с восторгом, видит противоречие с теориями ее основателя и руководителя Л. Н. Толстого.
Толстой, возражая Маркову и повторяя и разъясняя сказанное уж им в предыдущих статьях, приходит к заключению, что главное разногласие его с Марковым основано на том, что Марков верит в прогресс, а у него этой веры нет.
И, объясняя свое отрицание прогресса, он говорит следующее:
«Во всем человечестве, с незапамятных времен, происходит процесс прогресса, говорит историк, верующий в прогресс, и доказывает это положение, сравнивая, положим, Англию 1685 года с Англией нашего времени. Но если бы даже и можно было доказать, сравнивая Россию, Францию и Италию нашего времени с древним Римом, Грецией, Карфагеном и т. д., что благосостояние новых народов более благосостояния древних, меня при этом всегда поражает одно непонятное явление – выводят общий закон для всего человечества из сравнения одной малой части человечества Европы в прошедшем и настоящем. Прогресс есть общий закон для человечества, говорят они, только кроме Азии, Африки, Америки, Австралии, кроме миллиарда людей. Нами замечен закон прогресса в герцогстве Гогенцоллерн-Зигмарингенском, имеющем 3000 жителей. Нам известен Китай, имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу теорию прогресса, и мы ни на минуту не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества и что мы, верующие в прогресс, правы, а неверующие в него виноваты, и мы с пушками и ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Здравый смысл говорит мне, что ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток, не подтверждает закона прогресса, а, напротив, опровергает его, то закона этого не существует для всего человечества, а существует только верование в него известной части человечества. Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, что человечество живет, что воспоминания прошедшего так же увеличиваются, как и исчезают; что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего, часто служат и преградой для них; что благосостояние людей то увеличивается в одном месте, в одном слое и в одном смысле, то уменьшается; что, как бы мне ни желательно было, я не могу найти никакого общего закона в жизни человечества, а что подвести историю под идею регресса так же легко, как подвести ее под идею прогресса или под какую хотите историческую фантазию. Скажу более: я не вижу никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека, и только вследствие заблуждения переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается пустою, праздною болтовнею, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма. Прогресс вообще в человечестве есть факт недоказанный и несуществующий для всех восточных народов, и потому сказать, что прогресс есть закон человечества, столь же неосновательно, как сказать, что все люди бывают белокурые, за исключением черноволосых».
Положения, высказанные в этой цитате, подробно развиваются Львом Николаевичем в его статье, но это уже выходит несколько из рамок нашего обозрения.
Мы закончим наше изложение, упомянув еще об одной статье, под названием «Проект общего плана устройства народных училищ». Статья эта представляет остроумную критику и беглый обзор вышедшего в 1862 году нового правительственного положения об училищах.
Общие критические замечания Льва Николаевича на это положение можно резюмировать в следующих пунктах: 1) В основу этого положения легла американская система: обложение народа школьной податью и содержание правительством всех школ на эту собранную подать. Но то, что хорошо в демократической республике, то может быть очень плохо в деспотическом государстве, где закон, выражающий «волю народа», обращается в грубое насилие над ним. 2) Общая несостоятельность проекта – это неприспособленность его к народным потребностям, основанная на полном незнании русской народной жизни его составителями, и, наконец, 3) Регламентация народного образования, утверждаемая этим положением, послужит тормозом уже существующего и распространяющегося свободного народного образования.
Заканчивая этим беглый обзор педагогических взглядов Льва Николаевича, мы выскажем наше заключение, совершенно противоположное заключению г-на Маркова, а именно, что практика яснополянской школы нисколько не является противоречием этим взглядам, а, напротив, их непосредственным приложением, проведенным с неподражаемым и блестящим успехом. Мы воспользуемся описаниями, сделанными самим Львом Николаевичем, как автобиографическим материалом.
Глава 15. Устройство и практика яснополянской школы
Лев Николаевич несколько раз принимался за педагогическую деятельность.
Еще в 1849 году, когда он возвратился в Ясную Поляну из Петербурга, он завел народную школу, вместе с другими учреждениями и реформами, посредством которых он пытался сблизиться с народом. Мы знаем из его «Утра помещика», как неудачно кончилась эта первая попытка. С его отъездом на Кавказ школа, конечно, закрылась. Он возобновил ее, возвратясь в Ясную Поляну по выходе в отставку и после первой заграничной поездки. Мы упоминали об этом в своем месте.
Возобновив свои педагогические занятия, Лев Николаевич почувствовал недостаток теоретических знаний и поспешил пополнить этот пробел своего образования чтением, заграничной поездкой, личными сношениями с выдающимися педагогами и практическими занятиями в разных школах. Почувствовав себя в силах, он с новым рвением в третий раз принялся за школьное дело и довел его до небывалой высоты.
Вот как он сам рассказывает в одной из педагогических статей об этих своих попытках и подготовке к школьному делу:
«15 лет тому назад, когда я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий и взглядов на дело, с одним только желанием прямо, непосредственно содействовать этому делу, будучи учителем в своей школе, я тотчас же столкнулся с двумя вопросами: 1) чему нужно учить? и 2) как нужно учить?
…Во всей массе людей, заинтересованных образованием, существует, как и прежде существовало, величайшее разноречие. В то время, как и теперь, одни, отвечая на вопрос: чему надо учить? – говорили, что, кроме грамоты, самые полезные для первоначальной школы знания суть знания естественные; другие, как и теперь, говорили, что это не нужно и даже вредно; так же, как и теперь, одни предлагали историю, географию, другие отрицали их необходимость, одни предлагали славянский язык и грамматику, закон Божий, другие находили и это излишним и приписывали главную важность развитию. По вопросу: как учить? – было и есть еще большее разногласие. Предлагались и предлагаются самые противоположные один другому приемы обучения грамоте и арифметике.
Встретившись с этими вопросами и не найдя на них никакого ответа в русской литературе, я обратился к европейской. Прочтя то, что было писано об этом предмете, познакомившись лично с так называемыми лучшими представителями педагогической науки в Европе, я нигде не только не нашел какого-нибудь ответа на занимавший меня вопрос, но убедился, что вопроса этого для педагогии как науки даже не существует, что каждый педагог известной школы твердо верит, что те приемы, которые он употребляет, суть наилучшие, потому что они основаны на абсолютной истине, и что относиться к ним критически было бы бесполезно. Между прочим, потому ли, что, как я сказал, я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий, или потому что я взялся за это дело, не издалека предписывая законы, как надо учить, а сам стал школьным учителем в глухой деревенской народной школе, – я не мог отказаться от мысли, что необходимо должен существовать критериум, по которому решается вопрос, чему и как лучше учить: учить ли наизусть псалтырь или классификацию организмов, учить ли по звуковой, переведенной с немецкого азбуке, или по часовнику? В решении этих вопросов мне помогли: некоторый педагогический такт, которым я одарен, и в особенности то близкое и страстное отношение, в которое я стал к делу. Вступив сразу в самые близкие непосредственные отношения с теми 40 маленькими мужичками, которые составляли мою школу (я их называю маленькими мужичками, потому что я нашел в них те самые черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого, которыми вообще отличается русский мужик), увидав эту восприимчивость, открытость к приобретению тех знаний, в которых они нуждались, я тотчас же почувствовал, что старинный, церковный способ обучения уже отжил свой век и не годится для них. И я стал испытывать другие предлагаемые методы обучения; но так как принуждение при обучении и по убеждению моему, и по характеру мне противно, я не принуждал и, как скоро замечал, что что-нибудь неохотно принимается, я не насиловал и отыскивал другое. Из этих опытов оказалось для меня и тех учителей, которые вместе со мною в Ясной Поляне и других школах, на тех же основаниях свободы, занимались преподаванием, что почти все то, что пишется в педагогическом мире для школ, отделяется неизмеримою пучиною от действительности, и что из предлагаемых методов многие приемы, как, например, наглядное обучение, естественные науки, звуковые приемы и другие, вызывают отвращение и насмешку и не принимаются учениками. Мы стали отыскивать то содержание и те приемы, которые охотно воспринимались учениками, и напали на то, что составляет мой метод обучения. Но этот метод становился наряду со всеми другими методами, и вопрос о том, почему он лучше других, оставался точно так же не решенным.
…В то время я не нашел в педагогической литературе не только сочувствия, не нашел даже и противоречий, но совершеннейшее равнодушие к поставленному мною вопросу. Были нападки на некоторые подробности, мелочи, но самый вопрос, очевидно, никого не интересовал. Я тогда был молод, – и это равнодушие огорчало меня. Я не понимал, что я со своим вопросом: почем вы знаете, чему и как учить? – был подобен тому человеку, который бы, положим, хоть бы в собрании турецких пашей, обсуждающих вопрос о том, как бы побольше с народа собрать податей, предложил бы им следующее: гг., чтобы знать, с кого сколько податей, надо разобрать вопрос, на чем основано наше право взимания? Очевидно, все паши продолжали бы свое обсуждение о мерах взыскания и только молчанием отозвались бы на неуместный вопрос».
В 1860 г. Л. Н-ч задумывал основать общество народного образования. Мысли свои по поводу этого он изложил в своем письме к Егору Петровичу Ковалевскому, брату тогдашнего министра народного просвещения, своему севастопольскому сослуживцу и, очевидно, близкому ему по душе человеку. Приводим здесь целиком это интересное письмо:
«Вы, может быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уж 3-й год живу в деревне и занимаюсь хозяйством. Нынешний год (с осени), кроме хозяйства, я занимаюсь еще школой для мальчиков, девочек и больших, которую я завел для всех желающих. У меня набралось около 50 учеников, и все прибавляются. Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны. Но всего не расскажешь, как и почему; надо или книгу написать, или самому посмотреть. Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, академии художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится 1/100 доля всего народонаселения. Все это полезно (академии и т. д.), но полезно так, как полезен обед Английского клуба, который весь съест эконом и повар. Все эти вещи производятся всеми 70000000 русских, а потребляются тысячами. Как ни смешны славянофилы со своей народностью и оторванностью et tout le tremblement, они только не умеют называть вещи по имени, а они, нечаянно, правы. Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных, или, вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств. Впрочем, ежели бы в Англии приходился 1 дикий на сто, и тогда, наверно, общественное зло происходило бы только от этого процента диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большею частью – насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества? Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. Только кажется, что Наполеон III заключил Виллафранкский мир и запрещает журналы и хочет захватить Савойю, а все это делают Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты. Однако мои педагогические привычки увлекли меня, и мне самому смешно, что я вам пресерьезно доказываю, что 2 ? 2 = 4, т. е. что насущнейшая потребность русского народа есть народное образование. Образования этого нет. Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведовать им. Что его нет, этого доказывать нельзя, а ежели бы вы были здесь, то мы бы сейчас обошли всю деревню и посмотрели бы и послушали. Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы тоже сейчас прошли в школу, и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами: полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Грамота, процесс чтения и писания, вредна. Первое, что они читают, – славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе – гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее неучеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества. Не стану приводить пример Англии, самой образованной страны, – самая сущность дела говорит за себя. Ежели бы правительство бросило все дела, закрыло бы все департаменты и комиссии (и прекрасно бы сделало) и занялось бы одним народным воспитанием, и тогда едва ли бы оно успело, – потому что механизм, усвоенный правительством, помешал бы ему, и, главное, потому что интересы его кажутся отдаленными (в сущности, это один его интерес) от народного образования. Общество же должно успеть, потому что интересы его непосредственно связаны со степенью образования народа, потому что лишенные всех насильственных средств действия общества будут сообразоваться только с потребностью народа, которая выразится в филантропическом или денежном успехе предприятия, в степени удовлетворения народной потребности будут постоянно иметь поверку своих действий. Но я опять, кажется, доказываю дважды два. Вопрос может быть только в том, существует ли потребность образовывать и образовываться. Для меня этот вопрос решенный. Полгода моей школы породили три таких же в околотке, и везде успех был одинаковый. Дело вот в чем: что скажет правительство, ежели ему представить следующий проект:
«Общество народного образования (или более скромные название) имеет целью распространение образования в народе.