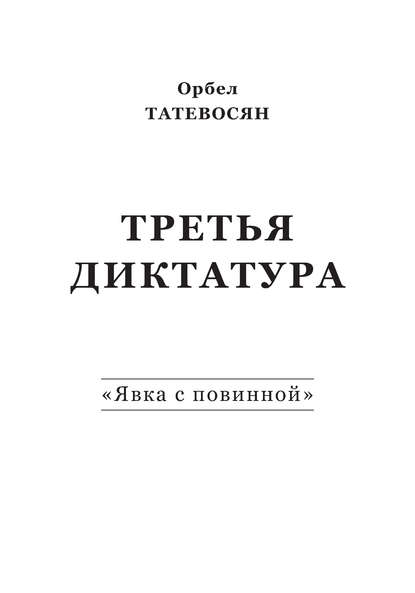По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Третья диктатура. «Явка с повинной» (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Третья диктатура. «Явка с повинной» (сборник)
Орбел Григорьевич Татевосян
Очерки по сути мемуарные. Это взгляд на «Совок» и на себя внутри той и последующей за ней реальности. Здесь – и глубоко интимное, личностное, и попытка выйти на широкие обобщения – о жизни человека, клана, страны, даже – планеты в целом… Автор – бывший советский журналист, порвавший со своим «цехом» с первого дня нового капитализма в России. Признает и сам: настоящим капиталистом стать ему не довелось, так, мелкий предприниматель. Но участвовал, видел, отстаивал, переживал… Что из этого получилось – пусть судит читатель. Автор уверен: его читатель не может оказаться недоброжелательным, потому как книга адресована родным, ближайшим друзьям и их потомкам. Каждый из нас живет в психологическом комфорте благодаря своему реальному ближайшему окружению. А дискомфорта такого рода автор избегал (нередко, увы, безуспешно) в течение всей своей жизни. Отсюда и его уверенность в доброжелательности своего читателя.
Орбел Татевосян
Третья диктатура. «Явка с повинной»
© Татевосян О. Г., 2015.
© ПРОБЕЛ-2000, 2015.
Об авторе
Родился в 1939-м. По версии своей матери – 1 августа. По версии отца – 31 июля. По версии ЗАГСа (дед регистрировал в сельсовете) – 10 сентября. Сам склоняюсь к версии матери, так как у нее сохранилась даже справка роддома от первого августа. Вот и отмечаю всю жизнь день рождения, гордый сознанием, что родился под знаком Льва, как какой-нибудь Наполеон Бонапарт. Тот, правда, давно уже отравлен бритами. Очень давно. Но люди помнят! А это так соблазнительно…
Обо всем остальном относительно автора и его жизни – в самой этой книге (см. ее второе название – «Явка с повинной»).
Как бы увертюра
Что наша жизнь? Игра! Жизнь – это борьба за существование. В жизни есть место подвигу. Что за роман – моя жизнь! Я разве слажу? Уж лучше – сразу! В этой жизни умирать не ново…
Уверен, мой читатель уже и авторов этих мнений расставил по местам. А и в самом деле – что есть жизнь отдельно взятого человека? Более конкретно: как она корреспондируется со своим временем, с современниками, с миром в целом, в конце концов? Мы же стадные, живем социумами, так? Село, поселок, городок, город, мегаполис… Как ладим между собой? Ну, сексуальное не берем в счет. Это чисто животное влечение, у каждого самца или самки оно свое. Можно, конечно, типизировать, сгруппировать по схожим признакам, ранжировать по физиологии… А с интеллектом-то как? Мы же сами себя называем сапиенс – разумные. Мера есть хоть какая-нибудь? IQ? Фи, какой примитив. Я давеча провел тест у пары десятков интеллектуалов (с высшим образованием, кое-кто даже с техническим!): что такое тангенс? Только двое из двадцати сказали: тригонометрическая функция. Какая именно – ни один! Не знаю, имеет ли программа средней школы интеллектуальную ценность. А нет, так на хрена детей мордовать? Отмените, и дело с концом. Разве же не очевидный факт: все увеличивающийся объем знаний человечества все дальше углубляет пропасть между специалистом и дилетантом, знающими и обывателями. Все знать и все понять никому не дано. Одинаково на вещи смотреть даже у отца с сыном редко получается.
Обычно пишут о выдающихся. Как бы – эталон, делать жизнь с кого. Редко (и то только в художественной прозе, то есть в выдумках) – об ординарных. И уж если журналисты берутся сами себя пропагандировать, так только самое лучшее выставляется, достижения. А жизнь так многогранна, так изменчива… Может, описание ее без приукрашивания, самоедское, что называется, больше пищи даст для понимания эпохи, народа, страны?
Вообще-то я писал эти очерки для своих родных. Писал честно, как я ее, честность, понимаю. Пропагандировать себя, пиарить поздновато, четверть века, как отошел от активной журналистской деятельности. Но тут близкие уж больно насели на меня: пиши да пиши, нам интересно. Написав пару очерков, стал склоняться к мысли, что все это может оказаться интересным целому поколению и 21-го века. Вспомнил, как бабушка закадычной (еще со школы!) подруги Натальи (моей жены в последние сорок лет жизни) дала почитать свои бесхитростные записи, и то огромное впечатление, что они на меня произвели. Несколько лет провела она в сталинских лагерях для ЧСИР (непосвященным расшифрую: член семьи изменника родины). Из того непрофессионального рассказа почерпнул об эпохе куда больше, чем из кучи исторических источников. Она не «писатель», конечно, как мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург (ее «Крутой маршрут» знаменит во всем мире, пьеса по этой повести была поставлена в московском «Современнике»), всего лишь медсестра (но весьма высокого «калибра», у знаменитого нейрохирурга Бурденко была операционной сестрой). И муж ее – никакой не изменник родины, а начальник Главного артиллерийского управления РККА (это, надеюсь, пока не нуждается в расшифровке?). «Полагалось» расстреливать военных, вот руками того карлика-гомика и осуществили (потом и самого Ежова расстреляли, слишком много знал, вероятно). А чтобы семьи расстрелянных не путались в ногах – в ссылки и лагеря. Обо всем этом бабушка Маши и написала от нечего делать, сидя долгими зимними вечерами у печи на даче в Мамонтовке. То не графомания, а крик души: «Вот что ты, милый, сделал мне…».
Бог миловал – в лагерях сидеть не доводилось мне. Ничего такого экстраординарного, что может привлечь внимание читателя, в моей жизни как-то и не было. Ну, разве что кроме контактов с ЧК. Врагу не пожелаю в этой стране оказаться в поле внимания российских спецслужб, да даже вообще – правоохранителей. Нынче они превратились в касту отъявленных негодяев. Попадет случайно в их среду порядочный, они его уничтожат в считанные дни – в тюрягу посадят, выкинут без права работы «в органах»… Оценили? «Органы»! Увы, жизнью моего поколения и был – надзор КГБ: куда же «совку» без него! Была она, та жизнь, со своим поколением, со своим кругом, с людьми, кои теперь или «на выходе», или уже ушли. Документ о той эпохе, мне показалось, всегда будет интересен людям: надо же понять, как многомиллионная страна превращается в единобезмыслие и как жилось в ней тем, кто не «единомысленник», но кого и к диссидентам не отнесешь. Нас, кухонных философов, было абсолютное большинство в «советской» интеллигенции. Одни наши анекдоты чего стоили: до сих пор с хохотом рассказывают! Это потом многие стали ностальгировать по той эпохе: в новой, оказалось, надо уметь себя «продавать», проявиться, найти место в жизни в самой банальной конкуренции. Их не только этому не учили – не готовили, а даже шла обратная селекция: конкурентоспособных и не поддающихся в разряд «одобрямс» «зачищали», а поддавшихся лишали индивидуальности. Кушать же в «Совке» полагалось всем согласным. Люди и обленились, перестали расти, потеряли главный стимул к самосовершенствованию – кусок жирнее… Мир ушел далеко вперед. Мы остались в глубокой…
Оттуда и я. К тому же профессионал, судя по отзывам на предлагаемые ниже очерки, еще не окончательно растерявший навыки писать. Все-таки учили меня этому делу в лучшем советском вузе. Да и четвертьвековой опыт газетной работы что-то же значит. Не верите? Проверить легко: почитайте. Не понравится, с любой точки можно отбросить в сторону. Покажется интересно, так и дочитайте до конца. Заранее скажу вам: не люблю навязываться, как и не терплю навязчивых. Это-то уж не пропаганда, а голая правда. Пища для размышлений о нас, ваших предшественниках.
Перефразируя Поэта: мы тоже были. Вам оценить – какими. Чтобы понять, какие вы и как ваши потомки оценят вас.
Бунтарь
(Диспозиция)
Никита Хрущев к 1964 году был «на хозяйстве» больше 10 лет. Последние 6 из них – в регалиях Сталина: Генсек ЦК КПСС и Предсовмина одновременно (вторую должность он себе взял после разгона просталинского Политбюро, убрав Булганина и выселив его с женой в 2-комнатную квартиру на Погодинку, ближе к последнему пристанищу – Новодевичьему кладбищу). 70 исполнилось ему в том же 64-м, в апреле. Были грандиозные торжества. Самому Никите они очень понравились. На них он и объявил: бодр, здоров вполне, готов служить народу многие годы. Народ аплодировал (ну, как иначе! Так было, так есть, так будет вовеки: как что Генсек изрек – бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию). Внешнее впечатление: власть его незыблема, если и покинет своего носителя, только вместе с его душой (или чуть позже, до прихода новых «вождей», после положенных и по такому случаю торжеств, уже без аплодисментов, не артиста же провожают в последний путь, а очередного политического фигляра). Полнометражный фильм «Наш Никита Сергеевич», толстенный фолиант «Лицом к лицу с Америкой», авторы которого (больше десятка их было) так до конца жизни и подписывались: «Лауреат Ленинской премии» (Никите сильно понравилось, как его там расписали, он и дал за нее высшую премию), заполненные рассказами о его «геройствах» в войну газеты (особенно в Сталинградской битве, 20-летие ее отмечалось больше года из-за него же: был он там членом Военного Совета одного из фронтов)… Слава! Слава! Слава! Надоедливая, навязчивая, но, увы, соответствующая царящим в те годы правилам игры.
Студент – третьекурсник факультета журналистики МГУ. Тогда в Москве иных университетов не было. Разве что «Дружбы народов» им. Патриса Лумумбы, который и до техникума не дотягивал (интервьюировал там одного студента из Уганды, убожество) да «марксизма-ленинизма» (ну, клубная самодеятельность, не более). Так что Ломоносов обычно не упоминался. Нацмен (не «титульный», вечно мнящий себя пупом Земли). Ему 25. На журфак в те годы нельзя было поступать после школы, только с двухгодичным трудовым стажем и при наличии публикаций хоть в многотиражке. Умудрился наш «герой» и пару лет после школы проваландаться на геологическом (выгнали в конце 58-го из того же МГУ, ибо нарушил внутренний распорядок общежития, посмел, видите ли, девушку оставить на ночь, виданное ли дело!). Работал в донецкой шахте и в Москве (дворником, управдомом, плотником, таксистом…). Освоив русский как родной, посмел подать документы на журфак. Прошел с первой же попытки. Учился нормально, почти все время получал повышенную стипендию за отлично сданные сессии (четверть номинала прибавки, выходило 44р.75к., плюс зарплата ночного сторожа на стационаре, то есть внутри помещения, с диваном: и самому жить можно, и алименты платить…). Уже на первом курсе поставили командиром факультетского стройотряда («опытный» строитель же!), больше двух месяцев 86 сокурсников трудились под его началом в целинном совхозе, заработали хорошие деньги и благодарный отзыв совхозного руководства.
(Завязка)
В МГУ мужской студенческий контингент параллельно избранной профессии обучался и войне (девок натаскивали на медсестер). Учили где танкистов, где химиков, где артиллеристов… На журфаке специализация была – «офицер по пропаганде среди войск и населения противника». Преподаватели все в военной форме, одни полковники (был еще отставной генерал Дудко, бывший военный советник при Мао, строевую подготовку вдалбливал). Американистов (язык в основе) вел полковник Левицкий. Олег Александрович, кажись. Он еще кандидат исторических наук. Так что полный ажур, свой парень, все путем…
По понедельникам на первые две «пары» будущих «пропагандистов среди войск и населения противника» загоняли в секретную аудиторию, раздавали их же лекционные тетради (они хранились здесь, в секретном сейфе) и бубнили лекции. Тема ее 14 сентября 64-го была обозначена «Стратегия и тактика Красной Армии в Гражданской войне». Походя лягнув Сталина (как и полагалось при Хрущеве), Левицкий выдал: «Между прочим, у товарища Сталина была тенденция приписывать себе значительно большую роль в Гражданской войне, чем Ленину. Это абсолютно неверно!». Тут-то студент-«диссидент» не выдержал: без должного «протокола» («студент такой-то, разрешите обратиться!»; армия же!), с места в карьер бросил: «А это свойственно всем вождям, товарищ полковник. Вот и Никита Сергеич приписывает себе Сталинградскую битву». Левицкий взвился: «Студент Татевосян, встаньте!» Встал. «Представьтесь!». Представился по всей форме. «Вы сказали большую глупость, Татевосян. Товарищ Хрущев был членом Военного Совета фронта, участвовал в обсуждении и решении всех задач». «Все газеты пишут об этом, – отпарировал. – А имя командующего тем фронтом нигде ни упоминалось. Может, Вы знаете?». Полковник заметно сник, явно не помнил нужную фамилию. «Садитесь!», – раздраженно выдал вместо ответа…
Пятница, 18 сентября. В тюринском корпусе, на 1-м этаже, буфет. Забегали в перерывах – за чашкой кофе, омлетом… Похоже, и ныне он там, достался в наследство журфаку после переезда экономистов на Воробьевы Горы. На Моховой «гуманитариям» помещений тогда не хватало, гоняли «табуны» из здания в здание ежедневно, в иной из них и дважды. В дверях того буфета Левицкий и поймал «врага» на перемене между занятиями. «Татевосян, за что тебя из комсомола исключили?». «А с чего Вы взяли? Не исключали, сам бросил билет в лицо секретарю вузкома. Он мне „бегунок“ не подписывал, пока персональное дело не рассмотрит, а без того из общежития не выписывали. Мне – уезжать, билет в кармане… Вот с секретарем мы „не глядя“ и махнулись: я ему – свой комсомольский билет, он мне – подпись в „бегунке“. Вы-то с чего этим заинтересовались?». «Ну, как же! Ты такую глупость спорол на прошлой лекции… Я же обязан реагировать». «В каком это смысле?». «Увидишь скоро». Заронил, гад, тревогу в душу!
Вторник, 22 сентября. Прямо с занятий вызывают Татевосяна в деканат, в соседний казаковский корпус. Прибежал. Секретарша декана: «Натворил чего?» «Вроде нет. А что?» «Мария Ивановна срочно просит тебя». «Бегу!». Мария Ивановна – душа-человек, женщина в возрасте (по нашим студенческим понятиям), секретарь проректора по гуманитарным факультетам Н. И. Мохова. Добрые с ней отношения – с первого курса, со времени организации стройотряда. Нередко приходилось бегать к Мохову подписывать разные письма: в стройтрест – помогите инструментом, в автобазу – выделите грузовик… Все вопросы – через Марию Ивановну. Видимо, и она заприметила командира отряда журфака, бывала неизменно доброжелательна, во всем оказывала посильную помощь.
«Ты чего натворил?» Опять тот же тревожный вопрос. «А что случилось – то, Маривановна?». «А то, что полковники военной кафедры, начальник потока Левицкий и секретарь партбюро Парпаров, прислали в ректорат донос на тебя, будто ты Хрущева поносил, еще какие-то похабные переделки хороших советских песен читал однокурсникам на перемене». «Чушь какая! И чего они хотят?». «Дураку понятно – выгнать тебя». «А что Николай Иванович – поддался?». «Отписал Донченко, своему заму – разберитесь. Ты его знаешь?». «Пока не очень. Он в нашей группе семинары по истмату ведет». «Донос я ему утром отдала, запишись на прием, исповедуйся. Он не зверь, вменяемый».
Исповедуйся… Сказать легко. Донченко не проявлял у нас личного отношения к кому-либо из студентов. Больше чиновник, чем «тютор». А вдруг и он, как вояки, не «возлюбил»? Но тут пронесло: чуть позже Мария Ивановна сообщила (то и дело к ней прибегал – что и как там?): и Донченко не стал мараться, отписал донос в Студсовет факультета: сами, мол, определитесь.
Фу, полегчало! На факультете из-за такой ерунды вряд ли дадут в обиду. «Тройка»: Валера Лукошин, Володя Скуратник и виновник «торжества» – обсудила «оказию». Вывод: надо сыграть на опережение. Вроде никто ничего не знает, а Татевосян сам пришел посоветоваться-покаяться к заместителю декана по учебной части Элеоноре Лазаревич. Женщина добрая, ко всем благоволит, к нему – уж точно. Она же и возглавляет Студсовет. К Засурскому, декану, решили, не резон: только-только назначен, еще не оперился, ответственности на себя не возьмет. Элеонора – дело другое, не первый год – зам по учебе, все ходы-выходы знает.
На приеме у нее (пятница, 25-го, кажется) спектакль прошел по намеченному сценарию. Лазаревич не дала даже толком объяснить цель прихода. «Да знаю я все», сказала. «Вы-то откуда знаете?» (притворное удивление). «А из письма военной кафедры в ректорат, его и прислали мне разобраться». «И что в нем?» (с нарастающим изумлением). «Твой „подвиг“. В среду Студсовет рассмотрит».
Дальше пошли советы: скажешь, что хотел оживить скучную лекцию, что на самом деле ты, конечно, вполне понимаешь большую роль Никиты Сергеевича в Сталинградской битве и все такое… Пожурим за недостойное поведение на лекции, и дело с концом.
Да, придется, выхода нет. Эти послушные «идеологи» выкинут ведь на улицу в верноподданническом раже. Противно… Слов нет!
Сложились к тому времени (3-й курс, все уже раскрылись) весьма теплые отношения с Борисом Есиным, доцентом кафедры русской литературы и журналистики, секретарем партбюро факультета. Ему ситуация была известна. Есин неожиданно принял сердечное участие (не сталинское время, попадались уже разумные люди, смелые не только в своих кухнях). Ему, видимо, было совестно потерять толкового студента из-за опрометчиво брошенной здравой мысли (а ведь партийный секретарь, горой должен стоять за своего Генсека, вон Парпаров – в глаза человека не видел, а пасквиль на него подписал, секретарь же!). Были люди и в наше время! Доложил Есину план Элеоноры. Он его одобрил.
(Кульминация)
Искомая среда, 30-е сентября. Студсовет – в конце рабочего дня, 15:00. При томительном ожидании время легче коротать в приятной беседе. Вот и вполне подходящий собеседник – Стыкалин. Сергей Ильич – доцент кафедры «тр-пр» (так в тогдашнем студенческом жаргоне называлась кафедра теории и практики советской печати), но человек умный и очень приятный. С ним в коридоре течет мирная беседа о том о сем. Из глубины коридора – еще один доцент, этот уже с кафедры зарубежной литературы, Ю. Ф. Шведов. Весь сияет в улыбке, не поймешь – дружеской или иезуитской. «Ну, что, Татевосян, пора на Студсовет – на экзекуцию?» Стыкалин: «Что еще за экзекуция?» Шведов: «Ты что – не в курсе? Весь факультет же на ушах стоит! Татевосяна будем сечь». Стыкалин, удивленно: «И за что же?». Шведов: «Пойдем с нами, гарантирую – скучно не будет». Поплелся мужик, явно делать ему сегодня нечего на факультете. Шведов-то, понятно, профсоюзный босс, предместкома, по должности – член Студсовета. Да ничего и не поделаешь, заседания совета не закрытые, лимитирует приход ротозеев только размер помещения. Вот и сейчас – один лишь дополнительный стул рядом с дверью в аудиторию, его и занял Стыкалин, в той трагикомедии нежданно-негаданно сыгравший весьма значимую роль.
Поначалу все шло по плану. Элеонора доложила, народ слушал. Потом народу выпало слушать путаные объяснения обвиняемого об «оживлении». Шведов и подал голос: «Татевосян, брось-ка лапшу на уши вешать. Здесь тебя знают как облупленного. И я не забыл, как после первого курса приходил выпрашивать оценки тому или иному сокурснику под сурдинку поездки его на целину… Ты же обычно лезешь напролом, чего теперь юлишь?» «Да что Вы, Юрий Филиппович! Элеонора Анатольевна не даст соврать: деканат мне как командиру стройотряда предоставил право просить о досрочном приеме экзаменов у „целинников“, чтобы ребята перед выездом успели на неделю-вторую домой съездить. Тем правом я и пользовался». Лазаревич согласно закивала, что еще больше раззадорило Шведова. Он отпарировал: «Это были не просьбы, а выуживание положительных оценок. И сейчас ты не то говоришь. Ты ведь уверен, что член Военного Совета – не та должность, чтобы воспевать его подвиги».
Доконал, стервец! Спровоцировал! «Юрий Филиппович, вы вот тут сидите человек десять, все сплошь с учеными степенями, преимущественно историки. Из вас кто-нибудь читал, помнит, кто командовал тем фронтом, на котором Никита Сергеевич был членом Военного Совета?». Шок! Гробовое молчание! Это победа – за явным преимуществом! Они утерлись и заткнулись. Тут и проявился Стыкалин: «Я знаю. Еременко». «И где Вы о том прочитали?». «Нигде. Мне-то чего читать, я воевал на том фронте». Так! Это уже победа не по очкам, это «туше»! Полное подтверждение: в газетах фамилия не фигурировала, ее знают только те, кому довелось 20 лет назад на себе испытать сталинградский ад.
Пиррова, однако, победа. Скорее полное фиаско. Не только полковники военной кафедры, никто в СССР не вправе был допустить такой наглой нападки на своего вождя от своих же. Запад пусть пишет, чего хочет. Они там, мы знаем, смеются и над ним, и над нами всеми (не столь давно ведущий американский телерепортер Никите в лицо сказал: «Вы лаете на Луну». Ой, какая обида! Пришлось американцу извиниться, чтобы Хрущев не сорвал интервью). Да это фиг с ними. Их ТВ или прессы у нас нет, разве что в КГБ. Нам-то зачем над вождем изголяться?
Пока упивался, самодовольный, «чистой победой», Лазаревич вылила ушат холодной воды на голову: «Ах вот Вы как, Татевосян! Пишите объяснение, будем разбираться всерьез. Я со следующей недели в отпуске, но в понедельник буду. Вам хватит времени до понедельника».
Ага, нашла дурака. Так я и подписал себе смертный приговор…Бегом к Есину, ждет Борис Иванович исхода. После отчета: «Во СМЕРШевский мерзавец!». «О ком Вы, Борис Иванович?» «О Шведове». «Он что – в войну своих расстреливал?». «И то приходилось, конечно». «А Вы почем знаете?». «Вместе и служили, он был капитаном, я майором». Дела, однако… «Ты тяни, не пиши ничего. Пусть пока Элеонора уезжает в отпуск. Там посмотрим». Спасибо, Борис Иванович, за дельный совет, до седых волос помню.
(Развязка)
В понедельник Лазаревич скорее всего не было на факультете, не довелось встретиться. Столкнулись лишь в среду – 7-го октября. «Вы чего тянете? Я же сказала – до понедельника». «Да вот формулирую, Элеонора Анатольевна, дело ведь серьезное, надо как следует продумать». «Чтобы до пятницы объяснение было у меня на столе!». Держи карман шире! Она, вероятно, должна куда-то уехать в отпуск после пятницы, скорее всего прав Борис Иванович. Будем тянуть дальше.
Минула пятница. В понедельник Лазаревич опять появилась. Никуда не уехала, стало быть. Мельком в коридоре попался ей на глаза. Она сделала вид, что не заметила. Добрый знак! К концу дня прибегает Гена Мусаелян из «Известий». Обычно он ошивался в «Неделе», и летнюю практику там прошел, при Веселовском. По Гениным «басням» – Никиту снимают, Аджубея уже нет в редакции, ушли его. Конечно, никто не поверил, сплошная редакционная болтовня. А вот через день уже не один Мус о том болтал, воздух пропитан интригой. Вечером, я уже ложился, прибежали Скуратник с Водолажским (вся наша группа, почитай, задействована). Принесли рабочий оттиск 1-ой полосы «Известий» с портретами Брежнева и Косыгина – новых «вождей». Утром, стало быть, эта информационная «бомба» взорвется. Божатся: номер уже подписан и ушел в печать. Невозможно не верить. А сомнения все еще одолевают. В жизни ни разу не везло так нечаянно. Обычно все давалось тяжким трудом, за всю жизнь в лотерею ни рубля не выиграл. А тут – на тебе, Кремль меня спасает.
Поздравления наутро, качание, объятия… К Борису Ивановичу: надеюсь, писать уже ничего не надо будет? «Ну, что ты, ты же прав оказался. А формулировка „по состоянию здоровья“ – обычная демагогия. Они, видимо, имеют в виду его психическое здоровье», зло съязвил бывший СМЕРШевец. Пока в коридоре с ним оживленно разговариваем – Шведов с сияющей улыбкой и растопыренными руками, вроде обнять-поздравить хочет. Спрятал руки за спину, очень сухо: «Здравствуйте, Юрий Филиппович. Благодарю. Вашими же молитвами».
И митинг был, как же без него! Собрали народ в большую аудиторию, сколько она вмещала. Речи разные потолкали. В. А. Архипов запомнился (зав кафедрой русской литературы, где Есин доцентом): «Мы вам годами бубнили о славном десятилетии, прожитом страной. Это была ложь, друзья мои. Ничего славного в нем не было. Вы уж простите нас, грешных, обязывали, мы и поддавались…».
В тот год Лазаревич отдохнуть толком так и не удалось: если и уезжала – совсем ненадолго. Когда пришла мне в голову идея – сдать 3-й курс досрочно и проскочить на год вперед (а это было где-то в первой декаде ноября), она была на месте и вполне доступна. Одобрила. Было заметно – даже с удовольствием. Тут же распорядилась учебной части выписывать направления по моим просьбам, как только договорюсь с экзаменаторами. И пошло-поехало. Первую сессию 3-го курса удалось сдать к середине декабря. Вторую – к середине января. Четверокурсники еще не закончили свою сессию, как к ним присоединился этот выскочка с третьего. А к началу следующего семестра (7-го февраля) все было сдано. И со Шведовым столкнулись. Оказалось, только он и принимает экзамен по европейской литературе эпохи просвещения, нет иных специалистов по этому периоду на кафедре Засурского. Сопротивляйся-не сопротивляйся, а делать нечего, пришлось пойти на «контакт». И то сказать: Шведов вообще-то классный специалист. Влюбил нас повально, например, в Шекспира. Почти все сонеты его знал наизусть. «Гамлета» разобрал – пальчики оближешь. Экзамен тот прошел в большом напряжении. Но он не придирался, поставил оценку адекватную. Молодец, верно?
И с Сергеем Стыкалиным «разобрались». В «курилке», рядом с большой (6-ой, 16-ой?) аудиторией. Он тоже был курящим. Зашел там разговор, и он выдал: «А ты как хотел? Чтобы Левицкий промолчал? Ты ж его загнал в угол, в тупик. Не напишет сам – напишут на него, полкурса стукачей у вас, неужто промолчат? Получится по еврейскому анекдоту: сел из-за лени, не первым постучал. И Студсовет ты загнал в тупик. Не спасай я положения, тебя бы растерзали. Ты умник, да? А остальные дураки, так? А кому будет охота признать себя дураком или подонком – не подумал?».
Убийственная логика. А рабская же! Вот вам два мужика из СМЕРШа. Оба – талантливые и умнющие. Один – циник и ханжа одновременно, без оглядки играющий по общим неписанным правилам. Другой из того же теста, а с явными признаками порядочности. Не говорите, что во всех наших бедах виновата система. Есть ее роль, бесспорно. Но это наша система, сами ее создали. Может, именно поэтому мало кто противостоит ей? Все с удивительной покорностью подчиняются! Шведова кто-то тянул за язык? Мог промолчать? Ладно, Левицкий шкуру спасал. А Стыкалин, Сережа Стыкалин? Хороший же мужик! Его-то кто просил выступать? Это он считает, что меня спас. А ставши в тупик Студсовет с этим Шведовым вместе как объяснил бы повальное знание имени члена Военного Совета при полном неведении о командующем? Дерзость? Не могла тогда пройти безнаказанно? Наказание-то возможно одно-единственное – исключить из числа студентов. Вот и интересно, у кого бы поднялась рука. Мы сами себя определили в послушание и рабство. Дай-то Бог хоть когда-нибудь избавиться от этого.
Перевод на 4-й курс, тем временем, уперся в военную кафедру. Досрочная сдача экзамена исключалась, на военной кафедре она не имела «хождения». Никакого перевода на следующий курс при наличии «хвоста», Лазаревич однозначно подтвердила, быть не может (это на уровне догадок, разумеется, экстерната в истории факультета никогда не было на дневном отделении). Надо найти язык с вояками, иного варианта нет.
Кафедрой командовал полковник Маслов. Пошел к нему на прием. Мужик с «понятием», как теперь говорят. Не извиняется за своих, конечно, но видно, что ему очень неловко. Ищем с ним выход из сложившегося тупика. По ходу поиска всплывает: по военному билету данный студент «ограниченно годен», к строевой службе-таки не приспособишь его. «Что же Вы молчали до сих пор?», – возмущается. «Давно бы сказали, я бы Вас освободил от военного дела, и позора бы не случилось». Велел завтра же прийти с военным билетом и с заявлением. И на следующий же день издал приказ: отчислить по негодности к будущей военной профессии. Лазаревич, как и я, возликовала. И сказала: «Съезди проведай родителей, отдохни до начала марта. Приедешь и пойдешь уже на 4-й, приказ я сделаю». Так и получилось.
Орбел Григорьевич Татевосян
Очерки по сути мемуарные. Это взгляд на «Совок» и на себя внутри той и последующей за ней реальности. Здесь – и глубоко интимное, личностное, и попытка выйти на широкие обобщения – о жизни человека, клана, страны, даже – планеты в целом… Автор – бывший советский журналист, порвавший со своим «цехом» с первого дня нового капитализма в России. Признает и сам: настоящим капиталистом стать ему не довелось, так, мелкий предприниматель. Но участвовал, видел, отстаивал, переживал… Что из этого получилось – пусть судит читатель. Автор уверен: его читатель не может оказаться недоброжелательным, потому как книга адресована родным, ближайшим друзьям и их потомкам. Каждый из нас живет в психологическом комфорте благодаря своему реальному ближайшему окружению. А дискомфорта такого рода автор избегал (нередко, увы, безуспешно) в течение всей своей жизни. Отсюда и его уверенность в доброжелательности своего читателя.
Орбел Татевосян
Третья диктатура. «Явка с повинной»
© Татевосян О. Г., 2015.
© ПРОБЕЛ-2000, 2015.
Об авторе
Родился в 1939-м. По версии своей матери – 1 августа. По версии отца – 31 июля. По версии ЗАГСа (дед регистрировал в сельсовете) – 10 сентября. Сам склоняюсь к версии матери, так как у нее сохранилась даже справка роддома от первого августа. Вот и отмечаю всю жизнь день рождения, гордый сознанием, что родился под знаком Льва, как какой-нибудь Наполеон Бонапарт. Тот, правда, давно уже отравлен бритами. Очень давно. Но люди помнят! А это так соблазнительно…
Обо всем остальном относительно автора и его жизни – в самой этой книге (см. ее второе название – «Явка с повинной»).
Как бы увертюра
Что наша жизнь? Игра! Жизнь – это борьба за существование. В жизни есть место подвигу. Что за роман – моя жизнь! Я разве слажу? Уж лучше – сразу! В этой жизни умирать не ново…
Уверен, мой читатель уже и авторов этих мнений расставил по местам. А и в самом деле – что есть жизнь отдельно взятого человека? Более конкретно: как она корреспондируется со своим временем, с современниками, с миром в целом, в конце концов? Мы же стадные, живем социумами, так? Село, поселок, городок, город, мегаполис… Как ладим между собой? Ну, сексуальное не берем в счет. Это чисто животное влечение, у каждого самца или самки оно свое. Можно, конечно, типизировать, сгруппировать по схожим признакам, ранжировать по физиологии… А с интеллектом-то как? Мы же сами себя называем сапиенс – разумные. Мера есть хоть какая-нибудь? IQ? Фи, какой примитив. Я давеча провел тест у пары десятков интеллектуалов (с высшим образованием, кое-кто даже с техническим!): что такое тангенс? Только двое из двадцати сказали: тригонометрическая функция. Какая именно – ни один! Не знаю, имеет ли программа средней школы интеллектуальную ценность. А нет, так на хрена детей мордовать? Отмените, и дело с концом. Разве же не очевидный факт: все увеличивающийся объем знаний человечества все дальше углубляет пропасть между специалистом и дилетантом, знающими и обывателями. Все знать и все понять никому не дано. Одинаково на вещи смотреть даже у отца с сыном редко получается.
Обычно пишут о выдающихся. Как бы – эталон, делать жизнь с кого. Редко (и то только в художественной прозе, то есть в выдумках) – об ординарных. И уж если журналисты берутся сами себя пропагандировать, так только самое лучшее выставляется, достижения. А жизнь так многогранна, так изменчива… Может, описание ее без приукрашивания, самоедское, что называется, больше пищи даст для понимания эпохи, народа, страны?
Вообще-то я писал эти очерки для своих родных. Писал честно, как я ее, честность, понимаю. Пропагандировать себя, пиарить поздновато, четверть века, как отошел от активной журналистской деятельности. Но тут близкие уж больно насели на меня: пиши да пиши, нам интересно. Написав пару очерков, стал склоняться к мысли, что все это может оказаться интересным целому поколению и 21-го века. Вспомнил, как бабушка закадычной (еще со школы!) подруги Натальи (моей жены в последние сорок лет жизни) дала почитать свои бесхитростные записи, и то огромное впечатление, что они на меня произвели. Несколько лет провела она в сталинских лагерях для ЧСИР (непосвященным расшифрую: член семьи изменника родины). Из того непрофессионального рассказа почерпнул об эпохе куда больше, чем из кучи исторических источников. Она не «писатель», конечно, как мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург (ее «Крутой маршрут» знаменит во всем мире, пьеса по этой повести была поставлена в московском «Современнике»), всего лишь медсестра (но весьма высокого «калибра», у знаменитого нейрохирурга Бурденко была операционной сестрой). И муж ее – никакой не изменник родины, а начальник Главного артиллерийского управления РККА (это, надеюсь, пока не нуждается в расшифровке?). «Полагалось» расстреливать военных, вот руками того карлика-гомика и осуществили (потом и самого Ежова расстреляли, слишком много знал, вероятно). А чтобы семьи расстрелянных не путались в ногах – в ссылки и лагеря. Обо всем этом бабушка Маши и написала от нечего делать, сидя долгими зимними вечерами у печи на даче в Мамонтовке. То не графомания, а крик души: «Вот что ты, милый, сделал мне…».
Бог миловал – в лагерях сидеть не доводилось мне. Ничего такого экстраординарного, что может привлечь внимание читателя, в моей жизни как-то и не было. Ну, разве что кроме контактов с ЧК. Врагу не пожелаю в этой стране оказаться в поле внимания российских спецслужб, да даже вообще – правоохранителей. Нынче они превратились в касту отъявленных негодяев. Попадет случайно в их среду порядочный, они его уничтожат в считанные дни – в тюрягу посадят, выкинут без права работы «в органах»… Оценили? «Органы»! Увы, жизнью моего поколения и был – надзор КГБ: куда же «совку» без него! Была она, та жизнь, со своим поколением, со своим кругом, с людьми, кои теперь или «на выходе», или уже ушли. Документ о той эпохе, мне показалось, всегда будет интересен людям: надо же понять, как многомиллионная страна превращается в единобезмыслие и как жилось в ней тем, кто не «единомысленник», но кого и к диссидентам не отнесешь. Нас, кухонных философов, было абсолютное большинство в «советской» интеллигенции. Одни наши анекдоты чего стоили: до сих пор с хохотом рассказывают! Это потом многие стали ностальгировать по той эпохе: в новой, оказалось, надо уметь себя «продавать», проявиться, найти место в жизни в самой банальной конкуренции. Их не только этому не учили – не готовили, а даже шла обратная селекция: конкурентоспособных и не поддающихся в разряд «одобрямс» «зачищали», а поддавшихся лишали индивидуальности. Кушать же в «Совке» полагалось всем согласным. Люди и обленились, перестали расти, потеряли главный стимул к самосовершенствованию – кусок жирнее… Мир ушел далеко вперед. Мы остались в глубокой…
Оттуда и я. К тому же профессионал, судя по отзывам на предлагаемые ниже очерки, еще не окончательно растерявший навыки писать. Все-таки учили меня этому делу в лучшем советском вузе. Да и четвертьвековой опыт газетной работы что-то же значит. Не верите? Проверить легко: почитайте. Не понравится, с любой точки можно отбросить в сторону. Покажется интересно, так и дочитайте до конца. Заранее скажу вам: не люблю навязываться, как и не терплю навязчивых. Это-то уж не пропаганда, а голая правда. Пища для размышлений о нас, ваших предшественниках.
Перефразируя Поэта: мы тоже были. Вам оценить – какими. Чтобы понять, какие вы и как ваши потомки оценят вас.
Бунтарь
(Диспозиция)
Никита Хрущев к 1964 году был «на хозяйстве» больше 10 лет. Последние 6 из них – в регалиях Сталина: Генсек ЦК КПСС и Предсовмина одновременно (вторую должность он себе взял после разгона просталинского Политбюро, убрав Булганина и выселив его с женой в 2-комнатную квартиру на Погодинку, ближе к последнему пристанищу – Новодевичьему кладбищу). 70 исполнилось ему в том же 64-м, в апреле. Были грандиозные торжества. Самому Никите они очень понравились. На них он и объявил: бодр, здоров вполне, готов служить народу многие годы. Народ аплодировал (ну, как иначе! Так было, так есть, так будет вовеки: как что Генсек изрек – бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию). Внешнее впечатление: власть его незыблема, если и покинет своего носителя, только вместе с его душой (или чуть позже, до прихода новых «вождей», после положенных и по такому случаю торжеств, уже без аплодисментов, не артиста же провожают в последний путь, а очередного политического фигляра). Полнометражный фильм «Наш Никита Сергеевич», толстенный фолиант «Лицом к лицу с Америкой», авторы которого (больше десятка их было) так до конца жизни и подписывались: «Лауреат Ленинской премии» (Никите сильно понравилось, как его там расписали, он и дал за нее высшую премию), заполненные рассказами о его «геройствах» в войну газеты (особенно в Сталинградской битве, 20-летие ее отмечалось больше года из-за него же: был он там членом Военного Совета одного из фронтов)… Слава! Слава! Слава! Надоедливая, навязчивая, но, увы, соответствующая царящим в те годы правилам игры.
Студент – третьекурсник факультета журналистики МГУ. Тогда в Москве иных университетов не было. Разве что «Дружбы народов» им. Патриса Лумумбы, который и до техникума не дотягивал (интервьюировал там одного студента из Уганды, убожество) да «марксизма-ленинизма» (ну, клубная самодеятельность, не более). Так что Ломоносов обычно не упоминался. Нацмен (не «титульный», вечно мнящий себя пупом Земли). Ему 25. На журфак в те годы нельзя было поступать после школы, только с двухгодичным трудовым стажем и при наличии публикаций хоть в многотиражке. Умудрился наш «герой» и пару лет после школы проваландаться на геологическом (выгнали в конце 58-го из того же МГУ, ибо нарушил внутренний распорядок общежития, посмел, видите ли, девушку оставить на ночь, виданное ли дело!). Работал в донецкой шахте и в Москве (дворником, управдомом, плотником, таксистом…). Освоив русский как родной, посмел подать документы на журфак. Прошел с первой же попытки. Учился нормально, почти все время получал повышенную стипендию за отлично сданные сессии (четверть номинала прибавки, выходило 44р.75к., плюс зарплата ночного сторожа на стационаре, то есть внутри помещения, с диваном: и самому жить можно, и алименты платить…). Уже на первом курсе поставили командиром факультетского стройотряда («опытный» строитель же!), больше двух месяцев 86 сокурсников трудились под его началом в целинном совхозе, заработали хорошие деньги и благодарный отзыв совхозного руководства.
(Завязка)
В МГУ мужской студенческий контингент параллельно избранной профессии обучался и войне (девок натаскивали на медсестер). Учили где танкистов, где химиков, где артиллеристов… На журфаке специализация была – «офицер по пропаганде среди войск и населения противника». Преподаватели все в военной форме, одни полковники (был еще отставной генерал Дудко, бывший военный советник при Мао, строевую подготовку вдалбливал). Американистов (язык в основе) вел полковник Левицкий. Олег Александрович, кажись. Он еще кандидат исторических наук. Так что полный ажур, свой парень, все путем…
По понедельникам на первые две «пары» будущих «пропагандистов среди войск и населения противника» загоняли в секретную аудиторию, раздавали их же лекционные тетради (они хранились здесь, в секретном сейфе) и бубнили лекции. Тема ее 14 сентября 64-го была обозначена «Стратегия и тактика Красной Армии в Гражданской войне». Походя лягнув Сталина (как и полагалось при Хрущеве), Левицкий выдал: «Между прочим, у товарища Сталина была тенденция приписывать себе значительно большую роль в Гражданской войне, чем Ленину. Это абсолютно неверно!». Тут-то студент-«диссидент» не выдержал: без должного «протокола» («студент такой-то, разрешите обратиться!»; армия же!), с места в карьер бросил: «А это свойственно всем вождям, товарищ полковник. Вот и Никита Сергеич приписывает себе Сталинградскую битву». Левицкий взвился: «Студент Татевосян, встаньте!» Встал. «Представьтесь!». Представился по всей форме. «Вы сказали большую глупость, Татевосян. Товарищ Хрущев был членом Военного Совета фронта, участвовал в обсуждении и решении всех задач». «Все газеты пишут об этом, – отпарировал. – А имя командующего тем фронтом нигде ни упоминалось. Может, Вы знаете?». Полковник заметно сник, явно не помнил нужную фамилию. «Садитесь!», – раздраженно выдал вместо ответа…
Пятница, 18 сентября. В тюринском корпусе, на 1-м этаже, буфет. Забегали в перерывах – за чашкой кофе, омлетом… Похоже, и ныне он там, достался в наследство журфаку после переезда экономистов на Воробьевы Горы. На Моховой «гуманитариям» помещений тогда не хватало, гоняли «табуны» из здания в здание ежедневно, в иной из них и дважды. В дверях того буфета Левицкий и поймал «врага» на перемене между занятиями. «Татевосян, за что тебя из комсомола исключили?». «А с чего Вы взяли? Не исключали, сам бросил билет в лицо секретарю вузкома. Он мне „бегунок“ не подписывал, пока персональное дело не рассмотрит, а без того из общежития не выписывали. Мне – уезжать, билет в кармане… Вот с секретарем мы „не глядя“ и махнулись: я ему – свой комсомольский билет, он мне – подпись в „бегунке“. Вы-то с чего этим заинтересовались?». «Ну, как же! Ты такую глупость спорол на прошлой лекции… Я же обязан реагировать». «В каком это смысле?». «Увидишь скоро». Заронил, гад, тревогу в душу!
Вторник, 22 сентября. Прямо с занятий вызывают Татевосяна в деканат, в соседний казаковский корпус. Прибежал. Секретарша декана: «Натворил чего?» «Вроде нет. А что?» «Мария Ивановна срочно просит тебя». «Бегу!». Мария Ивановна – душа-человек, женщина в возрасте (по нашим студенческим понятиям), секретарь проректора по гуманитарным факультетам Н. И. Мохова. Добрые с ней отношения – с первого курса, со времени организации стройотряда. Нередко приходилось бегать к Мохову подписывать разные письма: в стройтрест – помогите инструментом, в автобазу – выделите грузовик… Все вопросы – через Марию Ивановну. Видимо, и она заприметила командира отряда журфака, бывала неизменно доброжелательна, во всем оказывала посильную помощь.
«Ты чего натворил?» Опять тот же тревожный вопрос. «А что случилось – то, Маривановна?». «А то, что полковники военной кафедры, начальник потока Левицкий и секретарь партбюро Парпаров, прислали в ректорат донос на тебя, будто ты Хрущева поносил, еще какие-то похабные переделки хороших советских песен читал однокурсникам на перемене». «Чушь какая! И чего они хотят?». «Дураку понятно – выгнать тебя». «А что Николай Иванович – поддался?». «Отписал Донченко, своему заму – разберитесь. Ты его знаешь?». «Пока не очень. Он в нашей группе семинары по истмату ведет». «Донос я ему утром отдала, запишись на прием, исповедуйся. Он не зверь, вменяемый».
Исповедуйся… Сказать легко. Донченко не проявлял у нас личного отношения к кому-либо из студентов. Больше чиновник, чем «тютор». А вдруг и он, как вояки, не «возлюбил»? Но тут пронесло: чуть позже Мария Ивановна сообщила (то и дело к ней прибегал – что и как там?): и Донченко не стал мараться, отписал донос в Студсовет факультета: сами, мол, определитесь.
Фу, полегчало! На факультете из-за такой ерунды вряд ли дадут в обиду. «Тройка»: Валера Лукошин, Володя Скуратник и виновник «торжества» – обсудила «оказию». Вывод: надо сыграть на опережение. Вроде никто ничего не знает, а Татевосян сам пришел посоветоваться-покаяться к заместителю декана по учебной части Элеоноре Лазаревич. Женщина добрая, ко всем благоволит, к нему – уж точно. Она же и возглавляет Студсовет. К Засурскому, декану, решили, не резон: только-только назначен, еще не оперился, ответственности на себя не возьмет. Элеонора – дело другое, не первый год – зам по учебе, все ходы-выходы знает.
На приеме у нее (пятница, 25-го, кажется) спектакль прошел по намеченному сценарию. Лазаревич не дала даже толком объяснить цель прихода. «Да знаю я все», сказала. «Вы-то откуда знаете?» (притворное удивление). «А из письма военной кафедры в ректорат, его и прислали мне разобраться». «И что в нем?» (с нарастающим изумлением). «Твой „подвиг“. В среду Студсовет рассмотрит».
Дальше пошли советы: скажешь, что хотел оживить скучную лекцию, что на самом деле ты, конечно, вполне понимаешь большую роль Никиты Сергеевича в Сталинградской битве и все такое… Пожурим за недостойное поведение на лекции, и дело с концом.
Да, придется, выхода нет. Эти послушные «идеологи» выкинут ведь на улицу в верноподданническом раже. Противно… Слов нет!
Сложились к тому времени (3-й курс, все уже раскрылись) весьма теплые отношения с Борисом Есиным, доцентом кафедры русской литературы и журналистики, секретарем партбюро факультета. Ему ситуация была известна. Есин неожиданно принял сердечное участие (не сталинское время, попадались уже разумные люди, смелые не только в своих кухнях). Ему, видимо, было совестно потерять толкового студента из-за опрометчиво брошенной здравой мысли (а ведь партийный секретарь, горой должен стоять за своего Генсека, вон Парпаров – в глаза человека не видел, а пасквиль на него подписал, секретарь же!). Были люди и в наше время! Доложил Есину план Элеоноры. Он его одобрил.
(Кульминация)
Искомая среда, 30-е сентября. Студсовет – в конце рабочего дня, 15:00. При томительном ожидании время легче коротать в приятной беседе. Вот и вполне подходящий собеседник – Стыкалин. Сергей Ильич – доцент кафедры «тр-пр» (так в тогдашнем студенческом жаргоне называлась кафедра теории и практики советской печати), но человек умный и очень приятный. С ним в коридоре течет мирная беседа о том о сем. Из глубины коридора – еще один доцент, этот уже с кафедры зарубежной литературы, Ю. Ф. Шведов. Весь сияет в улыбке, не поймешь – дружеской или иезуитской. «Ну, что, Татевосян, пора на Студсовет – на экзекуцию?» Стыкалин: «Что еще за экзекуция?» Шведов: «Ты что – не в курсе? Весь факультет же на ушах стоит! Татевосяна будем сечь». Стыкалин, удивленно: «И за что же?». Шведов: «Пойдем с нами, гарантирую – скучно не будет». Поплелся мужик, явно делать ему сегодня нечего на факультете. Шведов-то, понятно, профсоюзный босс, предместкома, по должности – член Студсовета. Да ничего и не поделаешь, заседания совета не закрытые, лимитирует приход ротозеев только размер помещения. Вот и сейчас – один лишь дополнительный стул рядом с дверью в аудиторию, его и занял Стыкалин, в той трагикомедии нежданно-негаданно сыгравший весьма значимую роль.
Поначалу все шло по плану. Элеонора доложила, народ слушал. Потом народу выпало слушать путаные объяснения обвиняемого об «оживлении». Шведов и подал голос: «Татевосян, брось-ка лапшу на уши вешать. Здесь тебя знают как облупленного. И я не забыл, как после первого курса приходил выпрашивать оценки тому или иному сокурснику под сурдинку поездки его на целину… Ты же обычно лезешь напролом, чего теперь юлишь?» «Да что Вы, Юрий Филиппович! Элеонора Анатольевна не даст соврать: деканат мне как командиру стройотряда предоставил право просить о досрочном приеме экзаменов у „целинников“, чтобы ребята перед выездом успели на неделю-вторую домой съездить. Тем правом я и пользовался». Лазаревич согласно закивала, что еще больше раззадорило Шведова. Он отпарировал: «Это были не просьбы, а выуживание положительных оценок. И сейчас ты не то говоришь. Ты ведь уверен, что член Военного Совета – не та должность, чтобы воспевать его подвиги».
Доконал, стервец! Спровоцировал! «Юрий Филиппович, вы вот тут сидите человек десять, все сплошь с учеными степенями, преимущественно историки. Из вас кто-нибудь читал, помнит, кто командовал тем фронтом, на котором Никита Сергеевич был членом Военного Совета?». Шок! Гробовое молчание! Это победа – за явным преимуществом! Они утерлись и заткнулись. Тут и проявился Стыкалин: «Я знаю. Еременко». «И где Вы о том прочитали?». «Нигде. Мне-то чего читать, я воевал на том фронте». Так! Это уже победа не по очкам, это «туше»! Полное подтверждение: в газетах фамилия не фигурировала, ее знают только те, кому довелось 20 лет назад на себе испытать сталинградский ад.
Пиррова, однако, победа. Скорее полное фиаско. Не только полковники военной кафедры, никто в СССР не вправе был допустить такой наглой нападки на своего вождя от своих же. Запад пусть пишет, чего хочет. Они там, мы знаем, смеются и над ним, и над нами всеми (не столь давно ведущий американский телерепортер Никите в лицо сказал: «Вы лаете на Луну». Ой, какая обида! Пришлось американцу извиниться, чтобы Хрущев не сорвал интервью). Да это фиг с ними. Их ТВ или прессы у нас нет, разве что в КГБ. Нам-то зачем над вождем изголяться?
Пока упивался, самодовольный, «чистой победой», Лазаревич вылила ушат холодной воды на голову: «Ах вот Вы как, Татевосян! Пишите объяснение, будем разбираться всерьез. Я со следующей недели в отпуске, но в понедельник буду. Вам хватит времени до понедельника».
Ага, нашла дурака. Так я и подписал себе смертный приговор…Бегом к Есину, ждет Борис Иванович исхода. После отчета: «Во СМЕРШевский мерзавец!». «О ком Вы, Борис Иванович?» «О Шведове». «Он что – в войну своих расстреливал?». «И то приходилось, конечно». «А Вы почем знаете?». «Вместе и служили, он был капитаном, я майором». Дела, однако… «Ты тяни, не пиши ничего. Пусть пока Элеонора уезжает в отпуск. Там посмотрим». Спасибо, Борис Иванович, за дельный совет, до седых волос помню.
(Развязка)
В понедельник Лазаревич скорее всего не было на факультете, не довелось встретиться. Столкнулись лишь в среду – 7-го октября. «Вы чего тянете? Я же сказала – до понедельника». «Да вот формулирую, Элеонора Анатольевна, дело ведь серьезное, надо как следует продумать». «Чтобы до пятницы объяснение было у меня на столе!». Держи карман шире! Она, вероятно, должна куда-то уехать в отпуск после пятницы, скорее всего прав Борис Иванович. Будем тянуть дальше.
Минула пятница. В понедельник Лазаревич опять появилась. Никуда не уехала, стало быть. Мельком в коридоре попался ей на глаза. Она сделала вид, что не заметила. Добрый знак! К концу дня прибегает Гена Мусаелян из «Известий». Обычно он ошивался в «Неделе», и летнюю практику там прошел, при Веселовском. По Гениным «басням» – Никиту снимают, Аджубея уже нет в редакции, ушли его. Конечно, никто не поверил, сплошная редакционная болтовня. А вот через день уже не один Мус о том болтал, воздух пропитан интригой. Вечером, я уже ложился, прибежали Скуратник с Водолажским (вся наша группа, почитай, задействована). Принесли рабочий оттиск 1-ой полосы «Известий» с портретами Брежнева и Косыгина – новых «вождей». Утром, стало быть, эта информационная «бомба» взорвется. Божатся: номер уже подписан и ушел в печать. Невозможно не верить. А сомнения все еще одолевают. В жизни ни разу не везло так нечаянно. Обычно все давалось тяжким трудом, за всю жизнь в лотерею ни рубля не выиграл. А тут – на тебе, Кремль меня спасает.
Поздравления наутро, качание, объятия… К Борису Ивановичу: надеюсь, писать уже ничего не надо будет? «Ну, что ты, ты же прав оказался. А формулировка „по состоянию здоровья“ – обычная демагогия. Они, видимо, имеют в виду его психическое здоровье», зло съязвил бывший СМЕРШевец. Пока в коридоре с ним оживленно разговариваем – Шведов с сияющей улыбкой и растопыренными руками, вроде обнять-поздравить хочет. Спрятал руки за спину, очень сухо: «Здравствуйте, Юрий Филиппович. Благодарю. Вашими же молитвами».
И митинг был, как же без него! Собрали народ в большую аудиторию, сколько она вмещала. Речи разные потолкали. В. А. Архипов запомнился (зав кафедрой русской литературы, где Есин доцентом): «Мы вам годами бубнили о славном десятилетии, прожитом страной. Это была ложь, друзья мои. Ничего славного в нем не было. Вы уж простите нас, грешных, обязывали, мы и поддавались…».
В тот год Лазаревич отдохнуть толком так и не удалось: если и уезжала – совсем ненадолго. Когда пришла мне в голову идея – сдать 3-й курс досрочно и проскочить на год вперед (а это было где-то в первой декаде ноября), она была на месте и вполне доступна. Одобрила. Было заметно – даже с удовольствием. Тут же распорядилась учебной части выписывать направления по моим просьбам, как только договорюсь с экзаменаторами. И пошло-поехало. Первую сессию 3-го курса удалось сдать к середине декабря. Вторую – к середине января. Четверокурсники еще не закончили свою сессию, как к ним присоединился этот выскочка с третьего. А к началу следующего семестра (7-го февраля) все было сдано. И со Шведовым столкнулись. Оказалось, только он и принимает экзамен по европейской литературе эпохи просвещения, нет иных специалистов по этому периоду на кафедре Засурского. Сопротивляйся-не сопротивляйся, а делать нечего, пришлось пойти на «контакт». И то сказать: Шведов вообще-то классный специалист. Влюбил нас повально, например, в Шекспира. Почти все сонеты его знал наизусть. «Гамлета» разобрал – пальчики оближешь. Экзамен тот прошел в большом напряжении. Но он не придирался, поставил оценку адекватную. Молодец, верно?
И с Сергеем Стыкалиным «разобрались». В «курилке», рядом с большой (6-ой, 16-ой?) аудиторией. Он тоже был курящим. Зашел там разговор, и он выдал: «А ты как хотел? Чтобы Левицкий промолчал? Ты ж его загнал в угол, в тупик. Не напишет сам – напишут на него, полкурса стукачей у вас, неужто промолчат? Получится по еврейскому анекдоту: сел из-за лени, не первым постучал. И Студсовет ты загнал в тупик. Не спасай я положения, тебя бы растерзали. Ты умник, да? А остальные дураки, так? А кому будет охота признать себя дураком или подонком – не подумал?».
Убийственная логика. А рабская же! Вот вам два мужика из СМЕРШа. Оба – талантливые и умнющие. Один – циник и ханжа одновременно, без оглядки играющий по общим неписанным правилам. Другой из того же теста, а с явными признаками порядочности. Не говорите, что во всех наших бедах виновата система. Есть ее роль, бесспорно. Но это наша система, сами ее создали. Может, именно поэтому мало кто противостоит ей? Все с удивительной покорностью подчиняются! Шведова кто-то тянул за язык? Мог промолчать? Ладно, Левицкий шкуру спасал. А Стыкалин, Сережа Стыкалин? Хороший же мужик! Его-то кто просил выступать? Это он считает, что меня спас. А ставши в тупик Студсовет с этим Шведовым вместе как объяснил бы повальное знание имени члена Военного Совета при полном неведении о командующем? Дерзость? Не могла тогда пройти безнаказанно? Наказание-то возможно одно-единственное – исключить из числа студентов. Вот и интересно, у кого бы поднялась рука. Мы сами себя определили в послушание и рабство. Дай-то Бог хоть когда-нибудь избавиться от этого.
Перевод на 4-й курс, тем временем, уперся в военную кафедру. Досрочная сдача экзамена исключалась, на военной кафедре она не имела «хождения». Никакого перевода на следующий курс при наличии «хвоста», Лазаревич однозначно подтвердила, быть не может (это на уровне догадок, разумеется, экстерната в истории факультета никогда не было на дневном отделении). Надо найти язык с вояками, иного варианта нет.
Кафедрой командовал полковник Маслов. Пошел к нему на прием. Мужик с «понятием», как теперь говорят. Не извиняется за своих, конечно, но видно, что ему очень неловко. Ищем с ним выход из сложившегося тупика. По ходу поиска всплывает: по военному билету данный студент «ограниченно годен», к строевой службе-таки не приспособишь его. «Что же Вы молчали до сих пор?», – возмущается. «Давно бы сказали, я бы Вас освободил от военного дела, и позора бы не случилось». Велел завтра же прийти с военным билетом и с заявлением. И на следующий же день издал приказ: отчислить по негодности к будущей военной профессии. Лазаревич, как и я, возликовала. И сказала: «Съезди проведай родителей, отдохни до начала марта. Приедешь и пойдешь уже на 4-й, приказ я сделаю». Так и получилось.