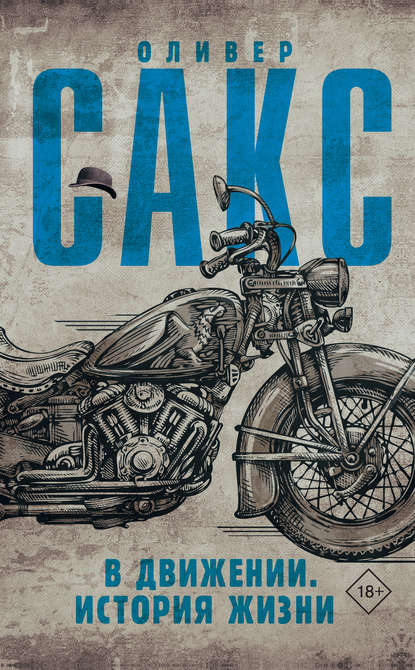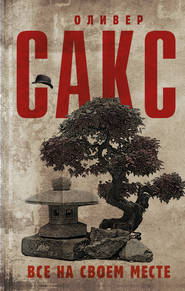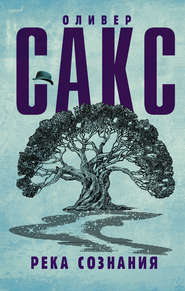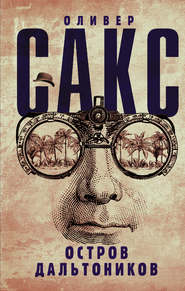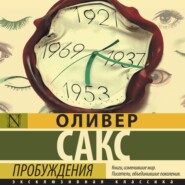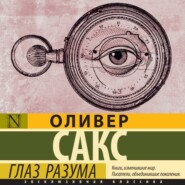По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В движении. История жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Представили меня хозяину самым странным образом, сказав «он здесь» и проведя меня в ванную комнату. Там я увидел фигуру, напоминающую Христа с отчаянно поднятой вверх бородой, которая держала зад под горячим душем. Вне всякого сомнения, мое появление – в черной сверкающей коже – для него было столь же шокирующим. У него был болезненный перианальный абсцесс, который я вскрыл грубой иглой, стерилизованной на огне спички. Был мощный выброс гноя, громкий рев и тишина – он вырубился. Когда он пришел в себя, ему было значительно лучше, а я испытал новую для себя радость: я был суровым практиком, умелым хирургом, пришедшим на помощь страдальцу-художнику. Позже, этим же днем, состоялась безумная вечеринка в стиле битников, на которой молодые женщины в очках читали стихи о своих телах.
В Англии, стоит тебе открыть рот, ты сразу становишься объектом классификации (ты принадлежишь рабочему классу, среднему классу, высшему классу и т. д.); пересекать границы, разделяющие классы, если не невозможно, то совсем непросто – здесь царит система, которая, не будучи установленной открыто, является столь же жесткой и столь же инертной, как и кастовая система в Индии. В Америке же, как я себе представлял, сформировалось бесклассовое общество. Здесь любой, вне зависимости от места рождения, цвета кожи, религии, уровня образования или профессии, мог запросто встречаться с другими людьми – просто как с людьми, братьями и сестрами по биологическому роду. Профессор здесь мог общаться с водителем грузовика, и никакие категории не мешали этому общению.
Сходное ощущение подобной демократии, равенства и братства у меня бывало, когда в 1950-е годы я ездил по Англии на своем мотоцикле. Мотоциклы, как мне представлялось, даже в консервативной Англии способны были преодолевать любые барьеры, позволяя открытое и свободное общение всех со всеми. «Классный у тебя байк!» – говорил один, и с этого момента начинался разговор. Мотоциклиста отличает дружелюбие; мы приветственно махали друг другу, встречаясь на шоссе, легко вступали в разговор в кафе. Мы были чем-то вроде романтического бесклассового общества внутри общества классового.
Поняв, что мне нет никакого смысла выписывать свой мотоцикл из Англии, я решил купить новый здесь – «нортон-атлас», универсальную машину, которую я мог использовать не только на шоссе, но и на пересеченной местности, в том числе и на горных дорогах. Держать мотоцикл я собирался во дворе больницы.
Я сошелся с компанией таких же, как и я, мотоциклистов, и каждое воскресенье мы встречались в городе. Потом, переехав пролив Золотые Ворота по мосту, мы попадали на узкую, пахнущую эвкалиптами дорогу, которая, петляя, вела к горе Тамалпаис, и, промчавшись вдоль высокого горного кряжа, слева от которого простирались воды Тихого океана, спускались по широким кольцам шоссе на пляж Стинсон, чтобы позавтракать, а заодно и пообедать (иногда мы уезжали к заливу Бодега, который вскоре стал всемирно известен благодаря фильму Хичкока «Птицы»). Во время этих утренних прогулок мы всеми клеточками тела ощущали биение жизни; свежий воздух овевал наши лица, а ветер будоражил тела – ощущения, известные только мотоциклистам. Невыразимая сладость бытия – вот что я вынес из этих прогулок, и ностальгические воспоминания о них время от времени пробуждает во мне запах эвкалиптовых листьев.
В будние дни я обычно ездил по Сан-Франциско в одиночестве. Но однажды во время такой прогулки я подъехал к группе – весьма отличной от нашей, спокойной и респектабельной компании с пляжа Стинсон. Это была шумная, раскрепощенная толпа мотоциклистов, сидевших на своих машинах с банками пива в руках. Подъехав, я заметил на их куртках логотипы «Ангелов ада», но поворачивать было поздно, поэтому я приблизился и сказал: «Привет». Моя смелость и английский акцент заинтриговали «Ангелов», как и то (как они узнали потом), что я был врачом. Меня сразу же приняли в сообщество, даже без обычных в данном случае ритуалов. Я был приятен и прост в обращении, я был врачом, и время от времени, когда кому-то из них бывала нужна помощь, эти парни звали меня. Я не принимал участия ни в их шумных поездках, ни в прочих увлечениях, и наши не очень тесные и достаточно неожиданные (как для меня, так и для них) отношения сами собой сошли на нет, когда на следующий год я уехал из Сан-Франциско.
Если первые двенадцать месяцев, отделявших момент моего отъезда из Англии до начала моей официальной интернатуры в Маунт-Ционе, были полны духом приключений и волнующими неожиданностями, то сама интернатура показалась мне делом нудным, утомительным и выматывающим: я делал то, что уже делал когда-то в Англии – по нескольку недель работал то в терапии, то в хирургии, то в педиатрическом отделении. Дальнейшее пребывание в интернатуре казалось мне бюрократизированной тратой времени. Правда, выхода у меня не было: все иностранные выпускники медицинских учебных заведений обязаны были проходить двухгодичную интернатуру, вне зависимости от уровня своей предварительной подготовки.
Но были и плюсы. Я еще год мог оставаться в столь полюбившемся мне Сан-Франциско, причем бесплатно, поскольку стол и кров мне предоставляла больница. Среди однокашников-интернов, приехавших из разных штатов, встречались и весьма одаренные – у больницы Маунт-Цион была прекрасная репутация, что, в сочетании с возможностью провести целый год в Сан-Франциско, очень привлекало молодых врачей – документы в интернатуру при Маунт-Ционе подавали сотни специалистов, и больница могла позволить себе быть разборчивой.
Особенно близок я был с Кэрол Бернетт, талантливой афроамериканкой из Нью-Йорка, которая знала множество языков. Однажды нас обоих подрядили ассистировать во время сложной полостной операции, хотя все, что мы делали, – это держали ретракторы и подавали инструменты хирургам. Со стороны врачей не было никаких попыток ни показать нам что-нибудь, ни чему-нибудь научить, и, за исключением того, что время от времени нам отрывисто приказывали либо быстро подать зажим, либо потверже держать ретрактор, нас не замечали. Между собой хирурги говорили достаточно много и в один из моментов операции вдруг перешли на идиш, и один из них высказался достаточно гнусно по поводу того, как это ужасно – иметь в операционной черного интерна. У Кэрол ушки сразу оказались на макушке, и она сказала что-то на беглом идиш. Хирурги покраснели, и операция внезапно прервалась.
– Вы что, не слышали, как ниггеры говорят на идиш? – добавила Кэрол колко.
Я думал, хирурги выронят инструменты. Крайне смущенные, они извинились и до конца нашей хирургической практики старались быть по отношению к ней максимально предупредительными и вежливыми (нам было интересно, оказал ли этот эпизод на них долговременное влияние – после того, как они узнали Кэрол получше и она внушила им безусловное уважение).
По выходным, если я не дежурил, то большую часть времени, оседлав мотоцикл, посвящал изучению Северной Калифорнии. Меня восхищала история первых золотоискателей; особое чувство у меня вызывало шоссе номер сорок девять и маленький город-призрак по имени Копперполь, который я проезжал по пути к «Материнской жиле».
Иногда я ехал по прибрежному шоссе номер один, мимо самых северных секвойных лесов к Эврике, а затем к Кратерному озеру в Орегоне (для меня тогда не представляло трудностей промахнуть за раз до семисот миль). Именно в тот год, омраченный монотонной работой в интернатуре, я открыл для себя чудеса Йосемитской долины и Долины Смерти, а также впервые посетил Лас-Вегас, который в те десятилетия еще чистого и незагрязненного воздуха был, словно сияющий в пустыне мираж, виден за пятьдесят миль.
Я находил в Сан-Франциско новых друзей, наслаждался городом, много путешествовал по выходным. Вместе с тем моя подготовка в сфере неврологии едва не застопорилась – если бы не Левин и Фейнстайн, которые приглашали меня на конференции и позволяли осматривать их пациентов.
Еще в 1958 году мой приятель Джонатан Миллер дал мне книгу стихов Тома Ганна «Чувство движения», тогда только вышедшую из печати, и сказал:
– Тебе нужно с ним встретиться, это твой человек.
Я проглотил книгу и решил, что, если я действительно попаду в Калифорнию, первым делом отыщу там Тома Ганна.
Приехав в Сан-Франциско, я навел справки и узнал, что Том находится в Англии, стажируется в Кембридже. Но несколько месяцев спустя он вернулся, и мы встретились на какой-то вечеринке. Мне было двадцать семь, ему около тридцати – не бог весть какая разница, но я был убежден в его особой зрелости и полной уверенности в себе; он отлично понимал, кто он таков, каким даром наделен и что делает. К тому времени он уже опубликовал две книги, я же пока ничего. Я воспринимал Тома как учителя и наставника (хотя и не как пример для подражания: у нас была разная манера письма). В сравнении с ним я был неоформившимся эмбрионом. Будучи не в силах совладать со своей нервозностью, я сообщил Тому, что, хотя мне очень нравятся его стихи, одна из поэм, «Битлз», удручает меня своей садо-мазохистской направленностью. Смутившись, Том мягко указал мне:
– Не следует смешивать поэму и поэта[13 - Интересно, что, когда в 1994 году вышло «Собрание стихотворений и поэм» Тома Ганна, оказалось, что именно эту поэму автор решил исключить.].
Каким-то образом (не могу даже сказать каким) началась наша дружба, и несколько недель спустя я поехал его навестить. В те годы Том жил в доме номер 975 на улице Филберт, которая, как знают все жители Сан-Франциско (а я этого не знал), обрывается неожиданным спуском в тридцать градусов. Я мчался по улице на своем «нортоне», разогнав его на приличную скорость, и неожиданно почувствовал, что лечу, как лыжник с трамплина. К счастью, мотоцикл приземлился достаточно мягко, но я был по-настоящему напуган – все могло кончиться плачевно. Когда я позвонил у двери Тома, сердце мое бешено стучало.
Том провел меня в комнату, предложил пива и спросил, почему мне так хотелось с ним встретиться. Я просто сказал, что некоторые из его стихотворений затронули что-то в глубине моей души. Том не проявил, казалось, особого интереса. «Какие стихотворения?» – спросил он. Какие? Первым стихотворением Тома, которое я прочитал, было «Вечное движение», и, так как я сам был мотоциклистом, сказал я, оно вступило в резонанс с моей душой, как это случилось за много лет до этого с коротеньким стихотворением Т. Э. Лоуренса «Дорога». И еще мне понравилась его поэма под названием «Мотоциклист: неясное предчувствие смерти», потому что я был уверен, что, как и Лоуренс, погибну во время поездки на мотоцикле.
Не уверен, что я точно знаю, что Том увидел во мне в этот момент, но он проявил ко мне необычное радушие и теплоту, которая в нем гармонично уживалась с мощным интеллектом. Том уже тогда был краток и остроумен, я – многоречив и экспансивен. Он был неспособен к околичностям и обману, но его прямота, как я думаю, всегда шла рука об руку с нежностью.
Иногда Том давал мне почитать рукописи своих стихов. Мне нравилась их сдержанная энергия – самая строгая из всех строгих поэтических форм у него связывала, удерживала и дисциплинировала разгул буйных сил и страстей. Среди новых стихотворений моим любимым было «Аллегория молодого волка» («Не я играю временем, увы: / Оно со мной ведет игру двойную, / За чаем и средь зелени травы»). Это стихотворение соответствовало некой раздвоенности, заключенной в моей душе, стремившейся, как я полагал, иметь две ипостаси – дневную и ночную. Днем я был бы радушным доктором Оливером Саксом в белом халате, но с наступлении ночи менял свое дневное одеяние на черную кожу байкерского наряда и, никем не узнанный, подобный волку, выскользнув из спящей больницы, стремительно мчался по улицам города, поднимался по извилистым дорожкам горы Тамалпаис и летел на полной скорости к пляжу Стинсон или заливу Бодега. Этой двойственности способствовало то, что вторым моим именем было имя Вулф[14 - Wolf по-английски «волк». – Примеч. пер.]; Волком меня называли Том и мои друзья-мотоциклисты, хотя для коллег-докторов я был Оливером.
В октябре 1961 года Том дал мне экземпляр своей новой книги «Мой печальный капитан» и написал на титульном листе: «Молодому Волку (не нужно никаких аллегорий) с наилучшими пожеланиями и чувством восхищения, от Тома».
В феврале 1961 года я написал родителям, что у меня теперь есть вид на жительство и теперь я являюсь bona fide иммигрантом – «иностранным резидентом». Я также подал заявление о желании принять гражданство, что можно было сделать, не отказываясь от гражданства Великобритании[15 - Желание было искренним, но прошло уже более пятидесяти лет, а я все еще не гражданин США. То же произошло и с моим братом в Австралии. Он приехал туда в 1950 году, а гражданство получил только пятьдесят лет спустя.].
Я также упомянул, что в скором времени буду сдавать государственный экзамен – всестороннее испытание для выпускников иностранных медицинских учебных заведений, целью которого является выяснить, на достаточно ли высоком уровне находятся их общенаучные и медицинские знания.
Еще в январе я написал родителям, что раздумываю «о масштабной поездке через все Штаты, включая Аляску, с обратным маршрутом через Канаду в промежутке между экзаменами и началом интернатуры: всего около 9000 миль. Это была уникальная возможность посмотреть страну и посетить другие университеты».
Теперь же, когда государственные экзамены были сданы и у меня был более подходящий мотоцикл (я продал свой «нортон-атлас» и купил «БМВ» Эр-69), можно было выезжать. Правда, времени у меня оказалось не так много, и я уже не мог включить Аляску в свой всеамериканский маршрут. Родителям я писал:
На своей карте я прочертил красную линию: Лас-Вегас, Долина Смерти, Гранд-Каньон, Альбукерке, Карлсбадские пещеры, Новый Орлеан, Бирмингем, Атланта, Блю-Ридж-парквей, потом Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон. Через Новую Англию в Монреаль, по пути в Квебек. Торонто, Ниагарский водопад, Буффало, Чикаго, Милуоки. Города-близнецы, после чего – Ледник и Уотертонский национальный парк, Йеллоустонский национальный парк, Медвежье озеро, Солт-Лейк-Сити. Наконец, назад в Сан-Франциско. 8000 миль. 50 дней. 400 долларов. Если мне удастся избежать солнечного удара, обморожения, тюремного заключения, землетрясения, пищевого отравления и отказа техники, это будет лучшее время всей моей жизни. Следующее письмо – с дороги.
Когда о своих планах я рассказал Тому, он посоветовал мне вести дневник – хронику моего путешествия под названием «Встреча с Америкой». Он хотел, чтобы потом я прислал этот дневник ему. В пути я был два месяца и за это время заполнил несколько записных книжек, отправляя их Тому одну за одной. Похоже, ему нравились мои описания людей и местности, а также зарисовки различных сценок, и он решил, что у меня есть талант наблюдателя, хотя и корил меня временами за «сарказм и любовь к гротеску». Одна из тетрадок дневника, которую я послал Тому, называлась «Счастье дороги».
«Счастье дороги» (1961)
В нескольких милях к северу от Нового Орлеана мотоцикл начал сдавать. Я съехал с шоссе на бегущую сбоку от шоссе богом забытую тропинку и принялся возиться с мотором. Вскоре, лежа на спине, неким шестым сейсмическим чувством я ощутил отдаленные содрогания земли, похожие на отголоски землетрясения. Шум нарастал, постепенно превращаясь в дребезжание, потом грохот и, наконец, рев, завершившийся скрежетом тормозов и ужасающе громким, но веселым воем клаксона. Я глянул вверх и остолбенел: это был самый большой грузовик из тех, что я когда-либо видел, настоящий Левиафан американских дорог. И тут же нахальная физиономия новоиспеченного Ионы высунулась из бокового окна, а голос с высоты проорал:
– Помощь нужна?
– Слишком старый, – ответил я. – Похоже, тяга полетела.
– Черт! – не без удовольствия прокричал он. – Возьми. И уж если эта полетит, я тебе ногу отрежу! Увидимся!
Он скорчил рожу, весьма двусмысленную, и вывел грузовик обратно на шоссе.
Я ехал все вперед и вперед и вскоре, покинув болотистые долина Дельты, оказался в штате Миссисипи. Дорога прихотливо рыскала из стороны в сторону, прорезая густые леса и открытые пастбища, огибая луга и сады, перебегая по мостам через речки и речушки, которых я уже насчитал с полдюжины; позади оставались деревни и фермы, неподвижно дремавшие под утренним солнцем.
Но когда я въехал в штат Алабама, мотоциклу стало совсем плохо. Прислушиваясь к вариациям издаваемого им шума, я пытался уловить смысл звуков – угрожающих, но малопонятных. Мотоцикл быстро разрушался – это я понимал, но, мало соображая в его устройстве, да будучи вдобавок и убежденным фаталистом, я не мог даже попытаться как-то изменить его судьбу.
В пяти милях от Тускалузы двигатель закашлял. Поршни заклинило; я отжал сцепление, но один из цилиндров уже дымился. Спрыгнув на шоссе, я отвел мотоцикл на обочину и положил его на землю, потом вышел на дорогу с чистым белым носовым платком в левой руке.
Солнце садилось, и поднимался ледяной ветер; все меньше и меньше машин проносилось по дороге.
Я уже почти оставил надежду и махал платком чисто механически, когда, не веря самому себе, понял, что рядом со мной остановился грузовик. Выглядел он знакомым. Прищурившись, я определил место регистрации: 26539, Майами, Флорида. Да, это был именно он – гигантский грузовик, остановившийся около меня утром.
Когда я подошел, водитель спустился на землю, кивнул в сторону мотоцикла и усмехнулся:
– Все-таки скурвился?
Вслед за ним из кабины выбрался еще один, совсем молодой парень, и все вместе мы обследовали мотоцикл.
– До Бирмингема не отбуксируешь? – спросил я.
– Нельзя. Закон не велит, – ответил водитель.
Потом поскреб кончик подбородка и подмигнул мне:
– Затащим-ка его в грузовик!
Напрягая мышцы и тяжело дыша, мы втолкнули тяжелую машину в брюхо дорожного Левиафана. Наконец, нам удалось закрепить его среди мебели, обвязанной веревками, и замаскировать от любопытных глаз грудой мешковины.
Водитель залез в кабину, за ним его спутник, и последним – я. В таком же порядке мы и оказались на широком сиденье. Водитель кивнул мне и уладил формальности:
В Англии, стоит тебе открыть рот, ты сразу становишься объектом классификации (ты принадлежишь рабочему классу, среднему классу, высшему классу и т. д.); пересекать границы, разделяющие классы, если не невозможно, то совсем непросто – здесь царит система, которая, не будучи установленной открыто, является столь же жесткой и столь же инертной, как и кастовая система в Индии. В Америке же, как я себе представлял, сформировалось бесклассовое общество. Здесь любой, вне зависимости от места рождения, цвета кожи, религии, уровня образования или профессии, мог запросто встречаться с другими людьми – просто как с людьми, братьями и сестрами по биологическому роду. Профессор здесь мог общаться с водителем грузовика, и никакие категории не мешали этому общению.
Сходное ощущение подобной демократии, равенства и братства у меня бывало, когда в 1950-е годы я ездил по Англии на своем мотоцикле. Мотоциклы, как мне представлялось, даже в консервативной Англии способны были преодолевать любые барьеры, позволяя открытое и свободное общение всех со всеми. «Классный у тебя байк!» – говорил один, и с этого момента начинался разговор. Мотоциклиста отличает дружелюбие; мы приветственно махали друг другу, встречаясь на шоссе, легко вступали в разговор в кафе. Мы были чем-то вроде романтического бесклассового общества внутри общества классового.
Поняв, что мне нет никакого смысла выписывать свой мотоцикл из Англии, я решил купить новый здесь – «нортон-атлас», универсальную машину, которую я мог использовать не только на шоссе, но и на пересеченной местности, в том числе и на горных дорогах. Держать мотоцикл я собирался во дворе больницы.
Я сошелся с компанией таких же, как и я, мотоциклистов, и каждое воскресенье мы встречались в городе. Потом, переехав пролив Золотые Ворота по мосту, мы попадали на узкую, пахнущую эвкалиптами дорогу, которая, петляя, вела к горе Тамалпаис, и, промчавшись вдоль высокого горного кряжа, слева от которого простирались воды Тихого океана, спускались по широким кольцам шоссе на пляж Стинсон, чтобы позавтракать, а заодно и пообедать (иногда мы уезжали к заливу Бодега, который вскоре стал всемирно известен благодаря фильму Хичкока «Птицы»). Во время этих утренних прогулок мы всеми клеточками тела ощущали биение жизни; свежий воздух овевал наши лица, а ветер будоражил тела – ощущения, известные только мотоциклистам. Невыразимая сладость бытия – вот что я вынес из этих прогулок, и ностальгические воспоминания о них время от времени пробуждает во мне запах эвкалиптовых листьев.
В будние дни я обычно ездил по Сан-Франциско в одиночестве. Но однажды во время такой прогулки я подъехал к группе – весьма отличной от нашей, спокойной и респектабельной компании с пляжа Стинсон. Это была шумная, раскрепощенная толпа мотоциклистов, сидевших на своих машинах с банками пива в руках. Подъехав, я заметил на их куртках логотипы «Ангелов ада», но поворачивать было поздно, поэтому я приблизился и сказал: «Привет». Моя смелость и английский акцент заинтриговали «Ангелов», как и то (как они узнали потом), что я был врачом. Меня сразу же приняли в сообщество, даже без обычных в данном случае ритуалов. Я был приятен и прост в обращении, я был врачом, и время от времени, когда кому-то из них бывала нужна помощь, эти парни звали меня. Я не принимал участия ни в их шумных поездках, ни в прочих увлечениях, и наши не очень тесные и достаточно неожиданные (как для меня, так и для них) отношения сами собой сошли на нет, когда на следующий год я уехал из Сан-Франциско.
Если первые двенадцать месяцев, отделявших момент моего отъезда из Англии до начала моей официальной интернатуры в Маунт-Ционе, были полны духом приключений и волнующими неожиданностями, то сама интернатура показалась мне делом нудным, утомительным и выматывающим: я делал то, что уже делал когда-то в Англии – по нескольку недель работал то в терапии, то в хирургии, то в педиатрическом отделении. Дальнейшее пребывание в интернатуре казалось мне бюрократизированной тратой времени. Правда, выхода у меня не было: все иностранные выпускники медицинских учебных заведений обязаны были проходить двухгодичную интернатуру, вне зависимости от уровня своей предварительной подготовки.
Но были и плюсы. Я еще год мог оставаться в столь полюбившемся мне Сан-Франциско, причем бесплатно, поскольку стол и кров мне предоставляла больница. Среди однокашников-интернов, приехавших из разных штатов, встречались и весьма одаренные – у больницы Маунт-Цион была прекрасная репутация, что, в сочетании с возможностью провести целый год в Сан-Франциско, очень привлекало молодых врачей – документы в интернатуру при Маунт-Ционе подавали сотни специалистов, и больница могла позволить себе быть разборчивой.
Особенно близок я был с Кэрол Бернетт, талантливой афроамериканкой из Нью-Йорка, которая знала множество языков. Однажды нас обоих подрядили ассистировать во время сложной полостной операции, хотя все, что мы делали, – это держали ретракторы и подавали инструменты хирургам. Со стороны врачей не было никаких попыток ни показать нам что-нибудь, ни чему-нибудь научить, и, за исключением того, что время от времени нам отрывисто приказывали либо быстро подать зажим, либо потверже держать ретрактор, нас не замечали. Между собой хирурги говорили достаточно много и в один из моментов операции вдруг перешли на идиш, и один из них высказался достаточно гнусно по поводу того, как это ужасно – иметь в операционной черного интерна. У Кэрол ушки сразу оказались на макушке, и она сказала что-то на беглом идиш. Хирурги покраснели, и операция внезапно прервалась.
– Вы что, не слышали, как ниггеры говорят на идиш? – добавила Кэрол колко.
Я думал, хирурги выронят инструменты. Крайне смущенные, они извинились и до конца нашей хирургической практики старались быть по отношению к ней максимально предупредительными и вежливыми (нам было интересно, оказал ли этот эпизод на них долговременное влияние – после того, как они узнали Кэрол получше и она внушила им безусловное уважение).
По выходным, если я не дежурил, то большую часть времени, оседлав мотоцикл, посвящал изучению Северной Калифорнии. Меня восхищала история первых золотоискателей; особое чувство у меня вызывало шоссе номер сорок девять и маленький город-призрак по имени Копперполь, который я проезжал по пути к «Материнской жиле».
Иногда я ехал по прибрежному шоссе номер один, мимо самых северных секвойных лесов к Эврике, а затем к Кратерному озеру в Орегоне (для меня тогда не представляло трудностей промахнуть за раз до семисот миль). Именно в тот год, омраченный монотонной работой в интернатуре, я открыл для себя чудеса Йосемитской долины и Долины Смерти, а также впервые посетил Лас-Вегас, который в те десятилетия еще чистого и незагрязненного воздуха был, словно сияющий в пустыне мираж, виден за пятьдесят миль.
Я находил в Сан-Франциско новых друзей, наслаждался городом, много путешествовал по выходным. Вместе с тем моя подготовка в сфере неврологии едва не застопорилась – если бы не Левин и Фейнстайн, которые приглашали меня на конференции и позволяли осматривать их пациентов.
Еще в 1958 году мой приятель Джонатан Миллер дал мне книгу стихов Тома Ганна «Чувство движения», тогда только вышедшую из печати, и сказал:
– Тебе нужно с ним встретиться, это твой человек.
Я проглотил книгу и решил, что, если я действительно попаду в Калифорнию, первым делом отыщу там Тома Ганна.
Приехав в Сан-Франциско, я навел справки и узнал, что Том находится в Англии, стажируется в Кембридже. Но несколько месяцев спустя он вернулся, и мы встретились на какой-то вечеринке. Мне было двадцать семь, ему около тридцати – не бог весть какая разница, но я был убежден в его особой зрелости и полной уверенности в себе; он отлично понимал, кто он таков, каким даром наделен и что делает. К тому времени он уже опубликовал две книги, я же пока ничего. Я воспринимал Тома как учителя и наставника (хотя и не как пример для подражания: у нас была разная манера письма). В сравнении с ним я был неоформившимся эмбрионом. Будучи не в силах совладать со своей нервозностью, я сообщил Тому, что, хотя мне очень нравятся его стихи, одна из поэм, «Битлз», удручает меня своей садо-мазохистской направленностью. Смутившись, Том мягко указал мне:
– Не следует смешивать поэму и поэта[13 - Интересно, что, когда в 1994 году вышло «Собрание стихотворений и поэм» Тома Ганна, оказалось, что именно эту поэму автор решил исключить.].
Каким-то образом (не могу даже сказать каким) началась наша дружба, и несколько недель спустя я поехал его навестить. В те годы Том жил в доме номер 975 на улице Филберт, которая, как знают все жители Сан-Франциско (а я этого не знал), обрывается неожиданным спуском в тридцать градусов. Я мчался по улице на своем «нортоне», разогнав его на приличную скорость, и неожиданно почувствовал, что лечу, как лыжник с трамплина. К счастью, мотоцикл приземлился достаточно мягко, но я был по-настоящему напуган – все могло кончиться плачевно. Когда я позвонил у двери Тома, сердце мое бешено стучало.
Том провел меня в комнату, предложил пива и спросил, почему мне так хотелось с ним встретиться. Я просто сказал, что некоторые из его стихотворений затронули что-то в глубине моей души. Том не проявил, казалось, особого интереса. «Какие стихотворения?» – спросил он. Какие? Первым стихотворением Тома, которое я прочитал, было «Вечное движение», и, так как я сам был мотоциклистом, сказал я, оно вступило в резонанс с моей душой, как это случилось за много лет до этого с коротеньким стихотворением Т. Э. Лоуренса «Дорога». И еще мне понравилась его поэма под названием «Мотоциклист: неясное предчувствие смерти», потому что я был уверен, что, как и Лоуренс, погибну во время поездки на мотоцикле.
Не уверен, что я точно знаю, что Том увидел во мне в этот момент, но он проявил ко мне необычное радушие и теплоту, которая в нем гармонично уживалась с мощным интеллектом. Том уже тогда был краток и остроумен, я – многоречив и экспансивен. Он был неспособен к околичностям и обману, но его прямота, как я думаю, всегда шла рука об руку с нежностью.
Иногда Том давал мне почитать рукописи своих стихов. Мне нравилась их сдержанная энергия – самая строгая из всех строгих поэтических форм у него связывала, удерживала и дисциплинировала разгул буйных сил и страстей. Среди новых стихотворений моим любимым было «Аллегория молодого волка» («Не я играю временем, увы: / Оно со мной ведет игру двойную, / За чаем и средь зелени травы»). Это стихотворение соответствовало некой раздвоенности, заключенной в моей душе, стремившейся, как я полагал, иметь две ипостаси – дневную и ночную. Днем я был бы радушным доктором Оливером Саксом в белом халате, но с наступлении ночи менял свое дневное одеяние на черную кожу байкерского наряда и, никем не узнанный, подобный волку, выскользнув из спящей больницы, стремительно мчался по улицам города, поднимался по извилистым дорожкам горы Тамалпаис и летел на полной скорости к пляжу Стинсон или заливу Бодега. Этой двойственности способствовало то, что вторым моим именем было имя Вулф[14 - Wolf по-английски «волк». – Примеч. пер.]; Волком меня называли Том и мои друзья-мотоциклисты, хотя для коллег-докторов я был Оливером.
В октябре 1961 года Том дал мне экземпляр своей новой книги «Мой печальный капитан» и написал на титульном листе: «Молодому Волку (не нужно никаких аллегорий) с наилучшими пожеланиями и чувством восхищения, от Тома».
В феврале 1961 года я написал родителям, что у меня теперь есть вид на жительство и теперь я являюсь bona fide иммигрантом – «иностранным резидентом». Я также подал заявление о желании принять гражданство, что можно было сделать, не отказываясь от гражданства Великобритании[15 - Желание было искренним, но прошло уже более пятидесяти лет, а я все еще не гражданин США. То же произошло и с моим братом в Австралии. Он приехал туда в 1950 году, а гражданство получил только пятьдесят лет спустя.].
Я также упомянул, что в скором времени буду сдавать государственный экзамен – всестороннее испытание для выпускников иностранных медицинских учебных заведений, целью которого является выяснить, на достаточно ли высоком уровне находятся их общенаучные и медицинские знания.
Еще в январе я написал родителям, что раздумываю «о масштабной поездке через все Штаты, включая Аляску, с обратным маршрутом через Канаду в промежутке между экзаменами и началом интернатуры: всего около 9000 миль. Это была уникальная возможность посмотреть страну и посетить другие университеты».
Теперь же, когда государственные экзамены были сданы и у меня был более подходящий мотоцикл (я продал свой «нортон-атлас» и купил «БМВ» Эр-69), можно было выезжать. Правда, времени у меня оказалось не так много, и я уже не мог включить Аляску в свой всеамериканский маршрут. Родителям я писал:
На своей карте я прочертил красную линию: Лас-Вегас, Долина Смерти, Гранд-Каньон, Альбукерке, Карлсбадские пещеры, Новый Орлеан, Бирмингем, Атланта, Блю-Ридж-парквей, потом Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон. Через Новую Англию в Монреаль, по пути в Квебек. Торонто, Ниагарский водопад, Буффало, Чикаго, Милуоки. Города-близнецы, после чего – Ледник и Уотертонский национальный парк, Йеллоустонский национальный парк, Медвежье озеро, Солт-Лейк-Сити. Наконец, назад в Сан-Франциско. 8000 миль. 50 дней. 400 долларов. Если мне удастся избежать солнечного удара, обморожения, тюремного заключения, землетрясения, пищевого отравления и отказа техники, это будет лучшее время всей моей жизни. Следующее письмо – с дороги.
Когда о своих планах я рассказал Тому, он посоветовал мне вести дневник – хронику моего путешествия под названием «Встреча с Америкой». Он хотел, чтобы потом я прислал этот дневник ему. В пути я был два месяца и за это время заполнил несколько записных книжек, отправляя их Тому одну за одной. Похоже, ему нравились мои описания людей и местности, а также зарисовки различных сценок, и он решил, что у меня есть талант наблюдателя, хотя и корил меня временами за «сарказм и любовь к гротеску». Одна из тетрадок дневника, которую я послал Тому, называлась «Счастье дороги».
«Счастье дороги» (1961)
В нескольких милях к северу от Нового Орлеана мотоцикл начал сдавать. Я съехал с шоссе на бегущую сбоку от шоссе богом забытую тропинку и принялся возиться с мотором. Вскоре, лежа на спине, неким шестым сейсмическим чувством я ощутил отдаленные содрогания земли, похожие на отголоски землетрясения. Шум нарастал, постепенно превращаясь в дребезжание, потом грохот и, наконец, рев, завершившийся скрежетом тормозов и ужасающе громким, но веселым воем клаксона. Я глянул вверх и остолбенел: это был самый большой грузовик из тех, что я когда-либо видел, настоящий Левиафан американских дорог. И тут же нахальная физиономия новоиспеченного Ионы высунулась из бокового окна, а голос с высоты проорал:
– Помощь нужна?
– Слишком старый, – ответил я. – Похоже, тяга полетела.
– Черт! – не без удовольствия прокричал он. – Возьми. И уж если эта полетит, я тебе ногу отрежу! Увидимся!
Он скорчил рожу, весьма двусмысленную, и вывел грузовик обратно на шоссе.
Я ехал все вперед и вперед и вскоре, покинув болотистые долина Дельты, оказался в штате Миссисипи. Дорога прихотливо рыскала из стороны в сторону, прорезая густые леса и открытые пастбища, огибая луга и сады, перебегая по мостам через речки и речушки, которых я уже насчитал с полдюжины; позади оставались деревни и фермы, неподвижно дремавшие под утренним солнцем.
Но когда я въехал в штат Алабама, мотоциклу стало совсем плохо. Прислушиваясь к вариациям издаваемого им шума, я пытался уловить смысл звуков – угрожающих, но малопонятных. Мотоцикл быстро разрушался – это я понимал, но, мало соображая в его устройстве, да будучи вдобавок и убежденным фаталистом, я не мог даже попытаться как-то изменить его судьбу.
В пяти милях от Тускалузы двигатель закашлял. Поршни заклинило; я отжал сцепление, но один из цилиндров уже дымился. Спрыгнув на шоссе, я отвел мотоцикл на обочину и положил его на землю, потом вышел на дорогу с чистым белым носовым платком в левой руке.
Солнце садилось, и поднимался ледяной ветер; все меньше и меньше машин проносилось по дороге.
Я уже почти оставил надежду и махал платком чисто механически, когда, не веря самому себе, понял, что рядом со мной остановился грузовик. Выглядел он знакомым. Прищурившись, я определил место регистрации: 26539, Майами, Флорида. Да, это был именно он – гигантский грузовик, остановившийся около меня утром.
Когда я подошел, водитель спустился на землю, кивнул в сторону мотоцикла и усмехнулся:
– Все-таки скурвился?
Вслед за ним из кабины выбрался еще один, совсем молодой парень, и все вместе мы обследовали мотоцикл.
– До Бирмингема не отбуксируешь? – спросил я.
– Нельзя. Закон не велит, – ответил водитель.
Потом поскреб кончик подбородка и подмигнул мне:
– Затащим-ка его в грузовик!
Напрягая мышцы и тяжело дыша, мы втолкнули тяжелую машину в брюхо дорожного Левиафана. Наконец, нам удалось закрепить его среди мебели, обвязанной веревками, и замаскировать от любопытных глаз грудой мешковины.
Водитель залез в кабину, за ним его спутник, и последним – я. В таком же порядке мы и оказались на широком сиденье. Водитель кивнул мне и уладил формальности:
Другие электронные книги автора Оливер Сакс
Зримые голоса




 4.67
4.67
Глаз разума




 4.67
4.67