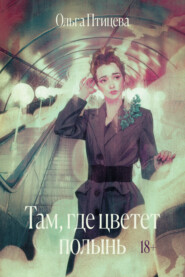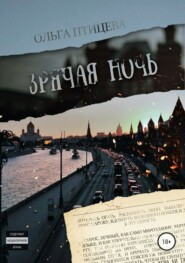По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тожесть. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кабы я была царица, –
Говорит одна девица,
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.
Темнота укрывала их надежней чужого тулупа, пахло черешней и ранним августом. Лерка дышала под боком, живая и теплая, стрекотали цикады. А когда пир закончился, и царь Салтан отпустил всех домой, то Бабариха вздохнула последний раз и тоже себя отпустила.
Тожесть
Звонок вворачивается в сознание, пробивает застывшую корку, вгрызается в живое. Я открываю глаза. В комнате тускло, но светло. Так бывает, когда свет проходит сквозь серую пленку туч, по ходу движения теряя яркость. Значит, еще день. Не позже четырех. Поворачиваю голову, в шее скрипит, тупая боль поднимается от холки к своду черепа. Щупаю под собой. Где-то должен быть телефон. В нем время. Вот так задремлешь днем, проспишь час, а по ощущению – года три, не меньше. Да где же, мать его, телефон?
Поднимаюсь рывком. Комната медленно уходит по дуге вправо, а диван, и я вместе с ним, влево. В глазах двоится. Я трясу головой. Не помогает. Раздается еще один звонок. Короткий. Тревожный. И еще. И еще. Кого там принесло, Господи? В такое-то время. Кстати, в какое? Под непрерывную трель звонка ощупываю диван – складки, крошки, катышки. Телефона нет. На зарядке, успокаиваю себя, и все-таки поднимаюсь.
Ноги сходу попадают в тапочки. Широкие, истоптанные, мерзко влажные внутри. Пока я иду, неловко шаркая, звонок захлебывается негодованием. Воцаряется короткая тишина, и в дверь начинают барабанить.
– Откройте! Откройте! Вы там? Откройте!
Пытаюсь идти быстрее, но шаги даются тяжело. Мышцы ноют, будто я весь прошлый вечер простояла в планке. Или отплясывала в баре до утра, что куда вероятнее. Точно! Бар. Вот почему все так тускло, муторно и тяжело. Бар. Перебрала лишнего и ничегошеньки теперь не помню.
– Откройте! Откройте!
– Сейчас! Иду! – кричу я и сама пугаюсь голоса.
В глубине прихожей темно, свет из комнаты глохнет еще в коридоре, и я долго копаюсь с замком, пальцы не хотят вспоминать, как он работает, куда нажать, где повернуть. Дверь открывается с надсадным скрипом.
– Уже подумала, случилось чего… – говорит кто-то смутно знакомый. – Я зайду?
Отхожу в сторону, чтобы пропустить. Чужой запах щекочет ноздри – мокрая улица и тяжелый парфюм, что-то церковное, связанное, но забытое. Гостья проходит в коридор, долго и без смущения смотрит на меня. Сама она расплывается, я смаргиваю, но четче не становится. С облегчением понимаю, что проснулась без линз, и щурюсь, пытаюсь разглядеть так. Молодая женщина, высокая, волосы подстрижены, кончики вровень с мочками без серег, брови подведены ярко, а глаза совсем чуть-чуть.
– Откуда я тебя знаю? – хочется спросить, но не спрашиваю.
Будет странно. Если ей можно приходить, стучать, смотреть, значит мы знакомы крепко. И давно.
– Привет, – говорю я, а голос подводит, кряхтит, как поломанный транзистор.
– Здравствуйте, – уголки ее губ нервно подрагивают. – Как вы? Ничего?
– Ничего.
– Как самочувствие?
Замираю. Странный вопрос, заданный странно. Напряжено заданный. Нехорошо. Вот же черт. В животе скручивается узел. И я понимаю, что мне страшно стоять тут в дурацких тапочках на босу ногу и отвечать на ее вопросы. Страшно. И холодно.
– Ты зачем ко мне?..
– Ну как же? Проведать. Четверг.
Она стягивает куртку, скидывает ботинки, идет к ванной. Там вспыхивает свет, шумит вода. А я продолжаю стоять в двери. Мир продолжает покачиваться и расползаться. Тело продолжает мякнуть и болеть. Тапки продолжают быть сырыми и разношенными. Словом, ничего не меняется, кроме деятельного мельтешения чужих шагов по моей квартире.
– Эй, ты! Пошла вон! – крутится на языке, но я молчу.
– Я печенье принесла, – кричит она из кухни. – Будете?
Горло хватает тошнотой, желудок виснет в вакууме.
– Будете? – переспрашивает она с нажимом.
Я хватаюсь рукой за стену и тащусь на кухню. От скрытой угрозы в ее вопросе топорщатся волоски на руках. Я иду очень медленно. В моем теле уменьшилось количество костей, суставы перестали сгибаться, атрофировались связки, одряхлели мышцы. Мне хочется пощупать себя, проверить, все ли месте. Но руки заняты – я держусь за стены узкого коридора. Пальцы скользят по засаленной полоске с обеих сторон. Словно кто-то ходил здесь, ища опоры, много лет. Я точно знаю, что обои новые. Сколько им? Год? Два?
Пока плетусь и вспоминаю, вспоминаю и плетусь, успевает вскипеть чайник. Я вижу только очертания стола, остальное размазано тонким слоем. Опускаюсь на ближайшую табуретку, предварительно нащупав ее перед собой, как слепая. Что я такого выпила вчера? Что приняла, чтобы так крыло?
– Вам с сахаром?
Качаю головой, не надо сахар, не надо, печенье же. Чувствую сдобный дух, тянусь наощупь – жестяная коробочка распахнута, в ней кругляшки, обсыпанные сахаром с каплей джема в центре.
– Курабье, – хватаю одно, подношу к губам, узел в животе набухает, и я не могу откусить долбанное печенье, пока не услышу:
– Угощайтесь, – разрешает она и садится напротив, слишком близко.
Печенье дерет горло, я запиваю его чаем, обжигаю язык, морщусь.
– Не спешите.
И я уже почти готова выплеснуть кипяток ей в лицо. Чашка дрожит в пальцах, пытаюсь разглядеть ее, но ни черта не вижу. Не вижу. Не-ви-жу.
– Вкусно?
Киваю.
– Угадала, значит, – ее голос теплеет. – Все думала, какие вы с мамой любили.
С мамой? С чьей мамой? Моей? Она не любит сладкое. С ее? А кто ее мама? Узел стискивается все крепче.
– Как там погода? – спрашиваю я, кроша кусочек печенья на кусочки поменьше.
– Дожди начались. Ночью заморозки уже.
Меня колотит озноб, ледяные ноги мокнут в тапках, и я послушно киваю, мол, да, заморозки, да, начались.
– А вы сами-то давно уже не выходили?
– Куда?
– Наружу, – слово впечатывается в меня, пригвождает к месту.
– Вчера была, – вру я, размазывая джем по столу.