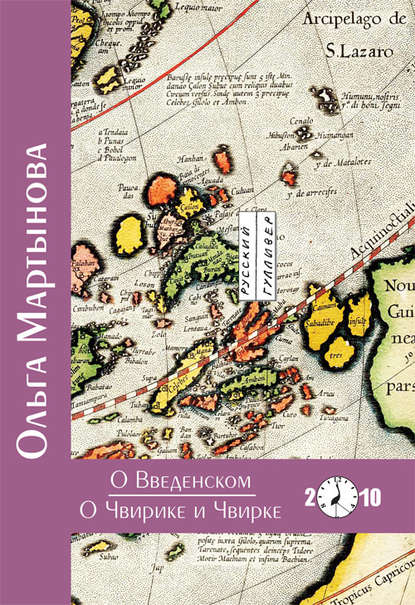По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О Введенском. О Чвирике и Чвирке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
I
Как ловко книги, по-русалочьи манят —
Неслышно под рукой их плавники трещат:
Щекотно пальцам и смешно бумажной Лорелее)
вот, сидишь, например, в кресле,
коровьи языки солнца сквозь занавеску лижут страницу,
читаешь «Крейцерову сонату»,
думаешь, хорошо бы порадовать старика,
написать ему на облака:
«Перечитывала „Крейцерову сонату“»,
было грустно от общего нашего несовершенства», –
Он бы в сторону Гете, с(о)пящего на соседнем облаке,
вспахал бороздки бороды
и скромно отхлебнул из дождевой воды.
Книги слоятся как рыбье мясо.
За белые жабры держу два тома,
Как из рыбных рядов покупку несу.
Я помню еще, как они открывали серые рты,
Но тукнул продавец по темени –
И в чешуе нет больше хода времени.
Их казнь понятна и ясна,
ведь божий замысел – блесна,
рыба – бог, но в то же время,
вкаких-то сухопутных снах,
мне больно, будто бы – я стремя
o шпорой-звездочкой в зубах,
и к нёбу ржавый шип приник.
Два белых тома тоже не всегда
Уходят из сетей ума,
И если нет, тогда
металл бессмыслицы сдается,
резвится, как щенок,
клубится, как вода,
которая слизывает себя сама:
((А воздух море подметал,
как будто море есть металл) –
Это очень обычное,
очень простое,
очень правдоподобное описание моря
под пасмурным небом в ветреную погоду
Но оно и стоит в скобках)
Все, что наспех сознанье связало и спутало,
Еще в колыбели, над розовым сморщенным «я»,
Как это распутать? –
Послушай, из логики слов меня вывези,
Так разуму я в колыбели сказала,
В бессмыслицу связи и завязи –
Но непослушен разум
Младенческим приказам.
II
Введенский о Хармсе: Он, видите ли, любит гладкошерстных собак. Ни смерть, ни время его по-настоящему не интересуют.
Это сказано в сердцах.
Я думаю, когда он это говорил,
Он сидел на еже и его правая нога перебирала клавиши
компьютера
(так ему мстило время, анахронизмы ввинчивая в темя),
которые были, как зубы: На какую (клавишу) ни нажмешь,
больно
Раньше черти варили и черви глодали
беззубые черепа,
А теперь мы с прекрасными (в)сходим в свет(мрак) зубами,
Драгоценней фосфорных черепах,
Кто прежде нас ушел, тем, кажется, обидно,
Они ворчат: нофить фарфоровые фубы – фтыдно.
Да и всякое вообще описание неверно. «Человек сидит, у него корабль над головой» все же наверное правильнее, чем «человек сидит и читает книгу»:
Я сплюнула слово – вишневой косточкой – в руку,
Потом незаметно бросила в реку,
Выросла вишня-черешня на скользкой воде,
Глянула в небо, а неба-то нету нигде,
Выплакало небо всю зелень-синеву свою в высокую осоку.
Когда бы слово было меньше семени,
В нем не было б любви к бессмыслице и темени.
III
Кругом, возможно, бог – и это стоит (то есть, этот возможный бог стоит) кругом возможности непонимания и заслоняет ее:
Ладно, когда-нибудь всё равно все всё говорят,
Особенно, когда в молочной туче,
Повисшей, как надутая перчатка,
Как вымя страшное, набух огонь трескучий,
И Твоего куста созрело пламя,
Чтоб сжечь уют косноязычий.
Дар речи обретя от страха,
Я говорю: О, Ты, который, возможно, кругом,