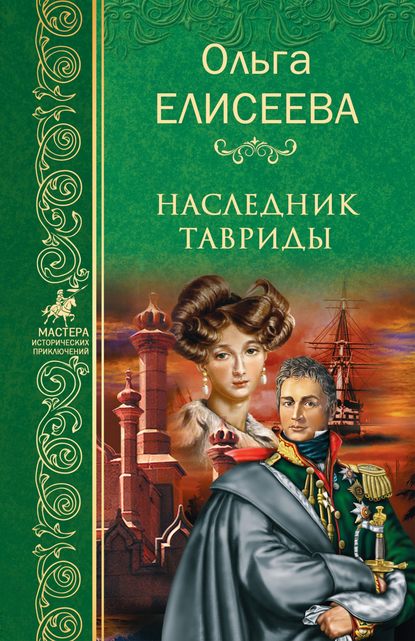По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наследник Тавриды
Автор
Год написания книги
2007
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, несомненно! – рассеялась она. – Его можно сделать еще лучше. Поедемте к вам.
Каролина была абсолютно уверена в своей неотразимости. Граф понял, что не может отвести глаз от полных, будто молоком облитых плеч собеседницы. Собственная слабость разозлила его.
– Ну же, никто ничего не узнает, – поддразнила Собаньская.
– Уже знает весь зал. – С этими словами Михаил Семенович взял графиню под руку, распахнул балконные двери и с самой изысканной предупредительностью проводил на место.
– Прощайте, рыцарь печального образа. – Каролина покусывала веер. – Вы будете сожалеть.
– Этот человек добывает деньги из воздуха! – Граф Ланжерон не терял приподнятого настроения, даже когда сердился.
Бывший новороссийский генерал-губернатор, некогда выпросивший для Одессы статус «порто-франко», считал себя благодетелем города. На его даче в виду Карантинной гавани собралась тесная компания из трех персон. Градоначальник Гурьев. Феликс де Рибас, держатель откупа на соляные промыслы. Граф де Витт. Все сплошь люди деловые. Шелкопрядство, разведение овец, рыбные ловли, а главное – морская негоция с Францией, Италией и Турцией – давали им ежегодно миллионные прибыли. А даровой труд военных поселенцев утраивал капитал. Очень не хотелось, чтобы в налаженном хозяйстве кто-то шуровал палкой!
– Вообразите, – негодовал Гурьев, молодой, отменно некрасивый тип с круглыми глазами камбалы. – Он решил застроить весь Приморский бульвар! Раздал участки желающим, безданно-беспошлинно. Одно условие – через пять лет дом в три этажа. Выписал Кваренги! Из каких, спрашивается, средств? Только пыль в глаза пускать! Но город в восторге.
– Скоро рукоплескания утихнут. Новый налог на дорожное строительство многих отрезвил, – покачал головой Витт.
– Он выкрутился. – Гурьев был задет за живое, ибо граф влез в его прерогативы. – Предложил частным подрядчикам на свои деньги строить казенные здания, с тем чтобы администрация потом арендовала их у владельцев. Очень выгодный, я скажу, прожект. Купчишки сразу приумолкли.
– Приумолкли они, как же! Только и слышно, граф то, граф се. Его сиятельство намерен мостить улицы, долбить скважины с водой. Заказал пароход в Англии… На это нужны деньги. Где он намерен их брать? Из кармана обывателей? Вся Новороссия по миру пойдет.
Ланжерон затянулся сигарой и обвел гостей насмешливым взглядом. Веселость нрава помогала ему относиться к неприятностям с чисто французской легкостью.
– Вы напрасно так встревожились, господа. Недостаток средств – та ловушка, в которую наместник сам себя загонит. Он амбициозен и горд. Не спросясь совета, решил долбить местный камень. А известняк что? Труха. Если им мостить улицы, через год под ногами останется одна пыль. Казенные же деньги будут потрачены. Вот вам и повод для донесения в Петербург. – Ланжерон поклонился в сторону Витта. – Мы бы ему сказали об опасности. Но он не спрашивает! То же и скважины. На достаточную глубину их пока увести нельзя. Какое-то время будет вода, а потом пойдет грязь. И опять казенные миллионы на ветер.
– Что же вы предлагаете? – буркнул Гурьев. – Ждать? Пока в Петербурге почешутся его снимать, он натурально доберется до наших дел. А контрабанда…
– В том-то и прелесть! – всплеснул руками Ланжерон, поражаясь непонятливости гостей. – Контрабанда дает верный доход. Ему не покрыть растрат казенных денег, не вступив в нашу невинную негоцию. Да и сама эта отрасль должна его заинтересовать. Сейчас он богат, а будет еще богаче. Ему надобно намекнуть. Ведь пресечение подзаконного товарооборота с Турцией лишит работы тысячи местных бедолаг. Он же не захочет, чтобы люди голодали.
– Говорю вам, он создает рабочие места, как фокусник! – рассердился Гурьев. – Одно мощение улиц. А дороги? А скважины? Скоро на всем побережье не останется свободных рук.
– Вы не знаете самого главного. – Феликс де Рибас снисходительно улыбнулся, глядя на собеседников. – Он приходил ко мне говорить о создании пароходства. Прямое сообщение с Константинополем. Конечно, на паях состоятельные граждане такое бы потянули. Миллионы поплывут по воде без всякой контрабанды. Я сказал, что все это еще незрело. Что надобно обмозговать. Но, господа, если его сиятельство снизойдет до беседы с греческими и еврейскими купцами, они вцепятся в идею. И мы окажемся в хвосте очереди акционеров. Не знаю, как вы, а я крепко подумаю над приглашением. Боюсь опоздать.
Его слова произвели неприятное впечатление. Открытое пароходство, пусть и с выплатой казне приличного куша, грозило свести коммерческий интерес контрабанды на нет.
– Я напишу отцу, – проронил сквозь зубы Гурьев. – И постараюсь сделать так, чтобы разрешение на эту авантюру не было дано.
– Черт! Но откуда у него такая хватка? – не сдержался де Рибас. – Ведь ничего же не понимает, а чует, где деньги ж.
Кишинев.
– Я убежден, что перстни найдутся, надо только хорошенько поспрашивать у евреев. – Поэт ни в чем не видел препятствий.
– Они, может, свои и не отдадут, – усомнился Алексеев. – Есть скупщики старья и краденых вещей. Вот хотя бы ведьма Полихрони, мать Калипсо.
– Едем к ней! – Пушкин был всякую минуту готов пуститься в предприятие. – Нам нужны печатки, и чтобы гравировка была талмудическими буквами.
Накануне на заседании ложи встал вопрос о приличных всякому секретному сообществу символах. Запонках, брелоках, перстнях и прочей фанаберии. Стоило заказать, но куда таинственнее было выманить у местных раввинов «настоящие» каббалистические печатки с еврейскими надписями. Каждая из них могла таить в себе заклинание, или даже определение судьбы. Решили ехать к пифии – старухе Полихрони, которая, живя на окраине, промышляла сердечной ворожбой и скупкой краденого.
У нее имелась красавица-дочь – причина, по которой ссыльный стихотворец так охотно согласился сопутствовать другу. Пятнадцатилетняя Калипсо делила ласки между ревнивым поэтом и любым другим, смотря по интересу.
– «Когда легковерен и молод я был, младую гречанку я страстно любил», – с усмешкой продекламировал Алексеев. – Сейчас войдем, а там армянин. Кинжал с собой?
Пушкин вспыхнул.
О Калипсо говорили, будто первую страсть она познала в объятьях лорда Байрона, еще живя в Греции, до бегства от турок. Сия вздорная сплетня так воспламенила воображение поэта, что он пожелал наследовать знаменитому певцу «Корсара».
– Я уверен, что Лейлу Байрон писал с нее, – доказывал Александр Сергеевич. – Да и как можно, имея мать-ворожею, не привлечь лорда-разбойника?
У Калипсо был всего один недостаток – огромный клювообразный нос, который природа, точно в насмешку, посадила на премиленьком личике.
– Как ты не боишься, что, целуя, нимфа проклюет тебе в башке дырку?
– Ах ты, бездельник! – Пушкин схватил с земли камень и бросился за Алексеевым.
– Опомнись, несчастный! Я не армянин! – хохотал тот, увертываясь.
Так, смеясь и притворно сердясь друг на друга, они дошли до маленького домика в предместье на болотистом берегу Быка. Стоя у плетеной изгороди, Калипсо снимала с нее сухие горшки. Увидав посетителей, она приветливо замахала рукой и осталась на месте, не спуская с Александра Сергеевича лукавый взгляд черных, густо подведенных глаз.
– Черт, – простонал поэт. – За две недели я оставил здесь более трехсот рублей.
– Скоро тебе нечем будет платить за вдохновение. – Алексеев напустил на себя почтительный вид и чмокнул ручку молодой Полихрони. – Матушка дома?
– Отдыхает, – отозвалась девушка. – У нее с вечера были посетители. Заговаривала неудачи. Совсем умаялась.
– Ты сходи, скажи: по делу, – попросил полковник. – Если сговоримся, заплатим сразу.
Девушка немедленно ушла. Через пару минут из-за низкого, почти соприкасавшегося с землей окна послышался скрипучий старушечий голос. Мать ворчала и не хотела вставать. Но дочь что-то энергично выговаривала ей по-турецки. Видно, посул возымел действие. В дверях мелькнула головка нимфы, гостей пригласили войти.
Глинобитная мазанка не являла внутри ничего примечательного. Простота пополам с нищетой. Деревянный выскобленный ножом стол, изъеденный молью ковер. За перегородкой, где почивала старуха, зашевелился ворох тряпья, и госпожа Полихрони вылезла на свет божий. Она воззрилась на гостей с недовольством и алчным интересом. Узнала Пушкина, кивнула по-свойски и указала на лавку.
– Что надо?
Бедный запас русских слов позволил ей сразу перейти к делу.
– Нам нужны еврейские перстни с печатями, – сказал Алексеев. – За каждый заплатим по три рубля. К тебе приносят старые вещи. Поищи, будь любезна.
Старуха поколебалась, потом, решив, что господа действительно нуждаются в ее услугах, а не хотят с потрохами выдать полиции, Полихрони потащилась за свою загородку. Там она долго рылась, ворочала какие-то ящики, открывала и со стуком закрывала крышки. Что-то пересыпала из ладони в ладонь. Наконец скупщица вернулась, неся в подоле десятка два перстней, из которых Алексеев придирчиво выбрал штук двенадцать. Остальные либо не были печатками, либо на них красовались арабские и турецкие буквы. Полковник отверг их, чем вызвал негодование старухи.
– Ты и так получишь с нас вдвое против того, что эти погремушки стоят, – отрезал он, доставая деньги.
При виде ассигнаций ворожея повеселела, загребла бумажки горстью и, радушно кивнув гостям, мол, всегда рада услужить, отправилась к себе.
– Калипсо, дай веревку, – Пушкин нанизал перстни на корабельный жгут, которым разжился у возлюбленной, и повесил себе на шею.
– Ты пойдешь через город с этим боталом? – подтрунил над ним товарищ.
– Я пока никуда не пойду, – ухмыльнулся поэт, бросая на гречанку игривые взгляды. – Нам и в саду хорошо.