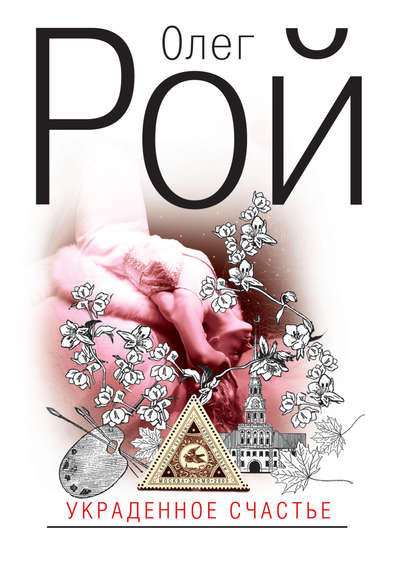По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Украденное счастье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Украденное счастье
Олег Юрьевич Рой
С детства Анжелу окружали только забота и внимание отца. Любой ее каприз и мимолетное желание исполнялись как в сказке. Но однажды девочка выросла, и обожание папы стало не радовать, а пугать. Странные подарки и откровенная ревность к ее возлюбленному удивляли не только Анжелу. Как вернуть прежние отношения и не потерять новые, как сохранить семейную идиллию?
Олег Рой
Украденное счастье
Сидни Шелдон говорил о технике сочинительства:
«Я пытаюсь писать так, чтобы читатель не мог закрыть мои книги…» Подобное можно сказать о писательском кредо Олега Роя. Увлекательнейшие истории, неожиданные сюжетные повороты, яркие образы сильных, незаурядных личностей стали причиной обращения кинематографа к творчеству писателя.
По его романам снимаются фильмы в России, Америке. Характеры персонажей автора раскрыты с удивительной глубиной и психологической точностью. Олег Рой пишет о вечном – о КАПРИЗАХ СУДЬБЫ, которая сегодня может лишить человека всего, что дорого в жизни, а завтра невзначай вернуть радость бытия. Но его герои, оказавшись на распутье, находят шанс, который дает им провидение, и становятся счастливыми. Перелистывая последнюю страницу захватывающего повествования, испытываешь жалость, что книга закончилась.
А. Маринина
Часть I
Анрэ
Этюд в ностальгических тонах
1943 год – 16 октября 1996 года
Я спустился с крыльца, прошел не торопясь в гараж, завел машину, долго прогревал мотор. Когда выехал за ворота и двинулся вверх по улице, утреннее солнце светило прямо в лобовое стекло. Люблю солнце осенью.
Ехал медленно, мимо знакомых домов и редких прохожих, с которыми машинально здоровался. Здесь меня знала каждая собака, и я тоже знал всех. Правда, последнее время в Лугано появилось много пришлых. Так много, что иногда казалось, будто ты не у себя дома, а в каком-то чужом, неизвестном городе…
Раньше все было иначе. После войны наш маленький городок едва ли насчитывал полтора десятка тысяч жителей, и практически все были знакомы. Прогуливаешься ли по улице, обедаешь ли в любимом гротто, отправишься ли за покупками, заглянешь ли на виллу Фаворита, в церковь Святого Антония или в Музей изящных искусств – всюду одни и те же лица. Каждый вновь прибывший был на виду. Например, мне запомнились встречи с Максом Фришем, который одно время приезжал в Лугано к другу и нередко посещал городской музей изящных искусств. Тогда он еще не стал мировой знаменитостью, но уже был известен своими романами – «Юрг Райнхард», «Трудные люди», «Штиллер» и особенно четвертым, нашумевшим, – «Homo Фабер». Я в те годы уже не сомневался, что Макс станет великим писателем. Так со временем и произошло. А познакомились мы случайно: ему нужно было увидеть картину Питера Брейгеля Старшего, и я провел его по музею, который знал как свои пять пальцев, и рассказал о картинах. Он был тронут. Потом мы сидели в маленьком кафе на площади и говорили о книгах, о политике, о женщинах; мне показалось, что, несмотря на разницу в возрасте, я нашел в нем родственную душу.
Позже, когда вышел его новый роман – «Назову себя Гантенбайн», Макс специально встретился со мной, чтобы вручить книгу с дарственной надписью, и сказал, что многое для этой вещи взял из нашего разговора. Хотя лично я ничего такого там не заметил. С тех пор мы с ним изредка переписывались: последнюю открытку от него я получил на Рождество, а сам 15 мая поздравил его с восьмидесятилетним юбилеем. Подаренная книга всегда стоит в моем шкафу на самом видном месте. На первой странице красуется сделанная размашистым почерком надпись: «Гантенбайну-1 от Гантенбайна-2. Декабрь 1965 г. Поздравляю со свадьбой. Макс». Последнее время я часто брал книгу с полки, не для того даже, чтобы перечитать роман, который знал чуть ли не наизусть, а с целью вновь увидеть эту надпись и хоть на миг мысленно вернуться в те благословенные годы. Славное было время! Создание моего банка, юная Софи, рождение дочки… Тогда я и помыслить не мог, какой неожиданный и страшный удар нанесет судьба в последнем акте странной пьесы, именуемой моей жизнью…
Я выехал за город. Вел машину, а сам смотрел по сторонам. Да, что говорить, со времен шестидесятых Лугано значительно изменился. Стал похож на многие другие города – не в центре, конечно, где еще сохранилось его настоящее лицо, но на окраинах и в пригородах, которые так разрослись за последние десятилетия. Здесь, глядя вокруг, даже не сразу можешь определить, где находишься: в Лугано или где-нибудь в Беллинцоне, Церматте или Локарно? Все стало какое-то стереотипное, безликое – и архитектура, и жизнь, и люди. Только пейзаж остается прежним, изменяясь лишь от времени года.
Осень. Моя родная, любимая пора. Осенью Лугано всегда напоминал мне стареющую матрону, демонстративно одетую и накрашенную, силящуюся подчеркнуть остатки стремительно уходящей красоты… Мой город особенно хорош в октябре, когда жара уже спала и наступило время не загорать, а любоваться его великолепием. Падают каштаны, листья желтеют, сворачиваются, как гаванские сигары… Краски буйствуют, беснуются: красный, желтый, бордовый, золотой – цвета царят в природе, они и под ногами, и над головой, и в мыслях, и в сердце.
Я припарковался на обочине, вышел из машины. Передо мной расстилались Швейцарские Альпы, манили снежные вершины. Город лежал внизу в легкой дымке и весь был виден отсюда – грузовые пароходики, прогулочные яхты, Виа Нисса, Пьяцца Федерале, наш дом, мой «Лугано Прайвитбанк», великолепный старинный парк – и все это в сочных красках осенней листвы, последних в этом году цветов и живучей зелени газонов. Казалось, можно было бы вечно любоваться этим, наслаждаться и блаженствовать…
Однако в тот солнечный октябрьский день я был как никогда далек от блаженства. На душе было тяжело. Меня угнетало то, что происходило с Анжелой. Вот уже несколько лет я с каждым днем, с каждой минутой терял мое обожаемое дитя, мою малышку, мою ненаглядную дочку. Чужой человек, русский, сын женщины, когда-то заставившей меня так страдать и чуть не погубившей всю мою жизнь, – этот человек буквально околдовал мою девочку, как когда-то околдовала меня его мать, заставил ее забыть обо всем на свете, включая ее отца, который всегда души в ней не чаял! Я боготворил свою Анжелу с самого ее рождения и даже еще до этого – с того момента, когда Софи призналась, что ждет ребенка. А может быть, даже еще раньше, быть может, и Софи-то появилась в моей жизни только затем, чтобы родить мне дочь… И я полюбил Анжелу еще тогда, когда встретил Софи, когда впервые поцеловал… Когда жена забеременела, я окружил ее вниманием и заботой, достойной особы королевской крови: поил свежими соками, пичкал фруктами и ягодами, исполнял все ее желания, приглашал в лучшие рестораны, водил на прогулки, концерты, выставки.
Когда родилась Анжела, я даже на время забросил свой бизнес, нанял управляющего и передал ему все текущие дела, а сам полностью посвятил себя девочке. Настольной книгой для меня в то время был роман выдающегося итальянского педагога Иоганна Песталоцци «Лингард и Гертруда». Я с упоением занимался воспитанием дочки, и с первых дней ее жизни мы были неразлучны. Первым словом нашего ангелочка было «папа», что, помнится, неприятно задело Софи. Впрочем, обиделась она не слишком сильно. Быстро поняв, что материнство – не ее призвание, жена с облегчением переложила на мои плечи большинство забот о ребенке. Именно я постоянно находился рядом с Анжелой, учил ее ходить и говорить, играл с ней, читал ей сказки, сидел у ее кроватки, когда она болела. Именно со мной она ходила на прогулку в парк, именно со мной делилась самым сокровенным, меня и только меня впускала в самые потаенные уголочки своей души. Она была моей и только моей девочкой… До тех пор, пока не появился этот русский. Он ворвался в нашу жизнь как ураган, безжалостно сломав и разметав все, что нам было привычно и дорого. Если бы я только мог предвидеть, чем обернется то письмо… Дернул же черт меня, сентиментального старого дурака, его вскрыть!.. Знал бы, чем это грозит, выбросил бы, не читая. Но тогда позволил себе удариться в воспоминания, поддаться ностальгии по молодости и любви… И вот результат. Семья наша распалась. Про Софи я даже не думал, она давно отдалилась от нас и больше бывала в Милане, чем дома. Но мне это только на руку, она хотя бы оставила меня в покое. Теперь в ее жизни появилось то, к чему она, собственно, всегда стремилась, – показы мод, вечеринки, глянцевые журналы, шопинг, салоны красоты… Наверное, завела себе и любовника, скорее всего, молодого, охочего до денег. Но Софи меня нисколько не волновала, а вот Анжела… Мою дочь словно уносил отлив все дальше и дальше от меня. Я с ужасом ожидал, что в один прекрасный день она вообще могла бы забыть о моем существовании. И, что самое ужасное, я сам был во всем этом виноват! Именно я, поддавшись уговорам, пригрел этого русского, взял на работу в свой банк. И проглядел, слепец, проморгал, как он в ответ на мои благодеяния украл у меня из-под самого носа самое ценное сокровище. Видела бы Анжела своего избранника в первый момент, когда он только пришел наниматься на работу в банк, как он был жалок, робок, плохо одет! Теперь этот типчик, конечно, уже совсем не таков, отъелся, приобрел лоск, набрался спеси. Дошел до того, что имел наглость вмешиваться в дела банка и указывать мне, его владельцу, что и как я должен делать! Лез во все, даже в то, в чем совершенно не смыслил. Однажды мы с ним, например, поспорили о картинах. Что он может понимать в живописи? А туда же, раскритиковал мою «Сирень» – это, мол, банально и примитивно. Да помолчал бы уж! Сирень на картине как живая, в каплях росы, зовущая, прекрасная, едва ли не говорящая… Как он вообще смел, сопливый мальчишка, самодовольный щенок!
Конечно, я не мог этого терпеть. Я боролся всеми средствами: говорил по душам с дочкой, пытался как-то вывести из игры этого русского, попробовал их развести… Но все безрезультатно. Анжела точно ослепла, она не желала слушать ни мои доводы, ни мои мольбы. Другие методы тоже не подействовали. Вернее, пока не подействовали. Ведь я не привык проигрывать! Я легко не сдамся, рано еще списывать меня в утиль!..
…сейчас двадцать минут одиннадцатого, значит, осталось ждать всего несколько часов. Несколько часов – и все закончится. Да, конечно, какое-то время еще будет нелегко… Но я справлюсь. Мы с Анжелой справимся, потому что снова будем вместе.
Уверен, что все будет хорошо. Надо только очень сильно захотеть. И помолиться. Как тогда, когда маленькая Анжела заболела двусторонним воспалением легких. Все боялись, что наш ангелочек умрет, даже врачи говорили, что шансов немного… А я боролся. День и ночь не отходил от ее кроватки, держал в своих руках горячие ладошки и молился, молился, молился, чтобы Бог не забирал у меня мою девочку… И он смилостивился. Так будет и теперь, я знаю, просто надо верить. Верить и молиться. Помоги, Господи! Не оставь раба твоего в трудную минуту…
…Человека, вознесшего небесам эту выстраданную мольбу, звали Анрэ Орелли. Около месяца назад ему исполнился шестьдесят один год, но этих лет ему никто не давал – настолько моложавым, подтянутым и энергичным он выглядел. Высокий, спортивная фигура, густые каштановые волосы и красивый низкий голос придавали ему сходство с киногероем, о чем неоднократно говорили заинтересованные собеседницы самых разных возрастов. А несколько глубоких морщин, покрывавших его лицо, по мнению дам, совсем не портили Анрэ, а, наоборот, придавали ему более мужественный вид.
Орелли слушал комплименты со снисходительной улыбкой, но никогда не относился к ним серьезно. Кому, как не ему, было знать, что пересекавшие его лоб морщины – совсем не украшение, а печать множества страданий, которые ему довелось пережить на своем веку…
* * *
Кто-то сказал, что все дороги ведут в Рим, но при этом забыл добавить: да, в Рим, но через Лугано. Последней мировой войны в Швейцарии не было, страна оставалась нейтральной. Однако «великая битва народов» и здесь присутствовала и в быту, и в прессе. И даже в природе. Когда война наконец закончилась, все изменилось, даже небо сделалось другим, стало выше, голубее. Или маленькому Анрэ так только казалось?
Лугано находится на самой границе с Италией, в которой почти у каждого жителя города есть родственники или знакомые. И когда в дома по ту сторону границы приходили похоронки, плач и проклятия в адрес Гитлера и «ирода Муссолини» слышались и на этой стороне. В некоторых домах Лугано приютили раненых или дезертиров – и власти смотрели на это сквозь пальцы, словно не замечали. У ближайших соседей Орелли, семьи Факетти, довольно долго жил молодой черноволосый зубоскал Альберто, сбежавший с итальянского фронта. Он открыто прогуливался по Виа-Нисса, стрелял у знакомых сигареты, заглядывался на местных красоток, шутил со всеми встречными и ничего не боялся. Но чем явственнее ощущался финал войны, тем осторожнее становились власти. В начале 1945 года Альберто и еще двоих таких же «фашистов» арестовали и выдали итальянцам.
Отец Анрэ, Энцо Орелли, как-то сказал: «Гитлер – идиот, сексуальный маньяк, выживший из ума неврастеник, а Муссолини его любовник (они оба, по его мнению, были «голубыми»). Ты почитай «Превращение» Франца Кафки, там все написано – и про них, и про нас!»
Десятилетний Анрэ ничего толком не понял из его слов. И тем более из Кафки, через которого честно попытался продраться после того разговора. Тогда ему было очень стыдно за это перед отцом, к которому он испытывал странные противоречивые чувства, включавшие и уважение, и неприязнь, и благоговение, и страх. Он почти боготворил Энцо – и в то же время никак не мог простить ему, что мать, пока не покинула этот мир, всегда была ближе к мужу, чем к сыну.
Мать Анрэ, Марианна, была коренной жительницей Лугано. Их было четыре сестры Верфель: Фелица, Ганна, Анна и Марианна. Три старших, погодки, походили друг на дружку как близнецы – все как одна, высокие, ширококостные, жилистые, с крупными и некрасивыми чертами лица. Марианна, родившаяся на одиннадцать лет позже Анны, самой младшей из сестер, представляла собой их полную противоположность. Небольшого роста, нежная, хрупкая, с удивительно белой кожей и вечно смеющимися карими глазами, она была на редкость хороша собой. «Бывало, только посмотришь в ее сторону, – любил вспоминать Энцо, – и у тебя словно язык отнимается. Она улыбнется, поздоровается, – а ты, как дурак, молчишь или мямлишь что-то невнятное…» Казалось бы, при таком контрасте старшие сестры должны были бы ненавидеть Марианну и завидовать ей, но у Верфелей все вышло наоборот. Меньшая дочь всю свою короткую жизнь была любимицей в семье. После смерти родителей Фелица, Анна и Ганна разделили между собой все заботы и из кожи вон лезли, чтобы «их малышка» не знала горя, ни в чем не нуждалась и могла бы заниматься тем, что ей нравится, – Марианна неплохо рисовала и очень любила музыку. Собственной семьи ни одна из старших сестер не создала. Фелица и Анна не вышли замуж, Ганна приняла предложение пожилого соседа-бакалейщика, но, не прожив в браке и полутора лет, овдовела и вернулась в родной дом. Красавица Марианна стала единственной продолжательницей рода – едва ей минуло восемнадцать, когда она пошла под венец, не устояв перед обаянием красноречивого и статного итальянца, неизвестно откуда прибывшего в ее тихий город.
Энцо Орелли жил контрабандой продовольствия – перевозил через границу тюки с запрещенными товарами. Анрэ хорошо помнил, как в иные дни у их дома чуть ли не выстраивалась очередь из полицейских и таможенников, желающих получить взятку. Ближе к вечеру обогатившиеся визитеры накупали на радостях вина, пива, сосисок и устраивали пирушку. Они горланили итальянские народные песни, послушать которые собиралось пол-Лугано, травили анекдоты, рассказывали байки из жизни контрабандистов… Словом, бывало весело, так весело, что все с нетерпением ждали следующей раздачи денег. Каждый раз, когда Анрэ с отцом, гуляя по городу, встречали кого-нибудь из представителей закона, тот обязательно похлопывал Энцо по плечу, называл «дружище» и словно невзначай спрашивал: «Что-то ты давно нас не собирал, а?» Отец угощал его сигаретой и отшучивался, но старался не оставлять намеков без внимания и вскоре обязательно устраивал очередную шумную пирушку, после которой самых нестойких ему приходилось развозить по домам на своем велосипеде.
Конечно, все вместе эти взятки составляли внушительную сумму, но, даже несмотря на это, семья жила неплохо. После свадьбы Орелли поселились в большом доме Верфелей, где хватало места всем. Фелица, Ганна и Анна с радостью приняли молодоженов под свое крыло и окружили заботой сначала их, а вскоре и появившегося на свет Анрэ. Сами лишенные радости материнства, тетки обрушили на мальчика всю свою нереализованную любовь и нянчили его втроем, поскольку после тяжелой беременности и трудных родов у хрупкой Марианны резко пошатнулось здоровье. Маленький Анрэ до безумия любил мать, такую милую, ласковую и веселую, готов был ни на минуту не расставаться с ней и очень страдал оттого, что к маме часто было «нельзя», потому что ей «нездоровилось». Самым обидным казалось то, что на отца эти запреты не распространялись, он в любое время мог войти к ней в спальню и сколько угодно там находиться. И в такие минуты Анрэ готов был ненавидеть отца. Но, на его счастье, Энцо был неглупым человеком и хорошим родителем. Каким-то непостижимым образом ему удалось преодолеть детскую ревность и из преграды на пути к обожаемой матери превратиться для сына в мудрого и авторитетного советчика. Уже став взрослым, Анрэ много раз благодарил небеса за то, что ему так повезло с отцом, который сумел воспитать его настоящим мужчиной. Будь старший Орелли чуть менее строгим и рассудительным, и младший, избалованный вниманием и заботой теток, наверняка вырос бы маменькиным сынком, размазней и бесплодным мечтателем, тем более что все задатки для этого у него в полной мере присутствовали. В детстве ему нравились не шумные игры с лучшим другом Максом Цолингером по прозвищу Лиса и другими приятелями, как обычно это бывает у мальчишек, а книги, музыка и живопись. Он проводил чуть не все свободное время за чтением и часами напролет готов был слушать, как Марианна играет на рояле. Матери пришлось по нраву, что он с самых ранних лет пробовал рисовать, и не было для мальчика большего счастья, чем прозвучавшая из ее уст похвала какого-нибудь его рисунка, наброска или этюда.
Чем ближе и явственнее ощущался финал войны, тем слабее становилось здоровье Марианны. Напрасно наивная детская душа лелеяла мечту: «Когда война кончится, мама поправится» – в декабре сорок пятого, под Рождество, Марианна умерла. С тех пор Анрэ на всю жизнь невзлюбил этот праздник, самый, наверное, популярный и веселый в их краях.
После смерти матери он как-то особенно сблизился с отцом, старался как можно больше времени бывать в его обществе, прислушивался к каждому слову. А за углом уже притаилась новая беда. Не прошло и четырех лет, как, вернувшись из школы, мальчик увидел, что в доме переполох, а у теток заплаканны глаза. Анрэ пришлось долго приставать к ним с расспросами, пока наконец Фелица, старшая, не выдавила из себя три страшных слова: «Твой отец умер». Что стало истинной причиной гибели Энцо Орелли, его сыну так и не суждено было узнать. Возможно, тот действительно скончался от сердечного приступа, как считалось официально, но не исключено, что ему помогли уйти на тот свет конкуренты и недоброжелатели, которых у контрабандиста хватало. Смерть отца еще несколько лет занимала Анрэ, не давая ему спокойно спать. Он пытался разобраться во всем, даже провел собственное расследование, но из этого ничего не вышло.
Потеря кормильца, разумеется, стала значительным ударом для семьи, не только психологическим, но и финансовым. Но и тут за дело снова взялись сестры Верфель. Они работали не покладая рук: шили, вышивали, делали искусственные цветы и продавали их сначала местным, а потом – иностранцам, туристам. Кроме того, часть большого дома начали сдавать внаем, для желающих – с полным пансионом. Все это позволило Анрэ не только без проблем окончить школу, но и – несказанное везение! – поступить на математический факультет Бернского университета. У него всегда были способности к математике, конечно, не столь гениальные, как это представлялось любящим теткам, но весьма неплохие. Таким образом, незадолго до своего девятнадцатилетия юный Орелли простился с Максом Цолингером и другими друзьями и впервые в жизни покинул родные края, отправившись в столицу изучать неэвклидову геометрию.
Берн стал для Анрэ открытием. Лугано, конечно, место красивое и с древними традициями, но большой город – это большой город! Юного Орелли удивляло и приводило в восторг все – толпы нарядных прохожих, столичная суета, огромные магазины, множество автомобилей, трамваи, светящиеся вывески, театры, ночные клубы…
Он поселился в съемной комнате на улице Карла XII вдвоем с Франсуа Жерве, молодым французом, тоже учившимся в университете. Комната, уже изначально не очень дорогая, вскоре и вовсе стала обходиться им почти даром, когда Анрэ начал заниматься с хозяйским сыном математикой. А уж после того, как мальчик получил несколько отличных отметок, хотя до этого был одним из последних в классе, хозяин только что не расцеловал жильца и заявил, что отныне они с французом могут вообще не думать об оплате жилья. «Живите так, не нужно ни франка, только почаще занимайся с моим оболтусом, хорошо?» Анрэ с радостью согласился, тем более что «оболтус» был хоть и ленивым, но весьма толковым малым. Двух полуторачасовых занятий в неделю ему было более чем достаточно, чтобы сохранить позицию если не отличника, то, по крайней мере, хорошего ученика.
Учеба же самого Анрэ держалась на высшем уровне. И по математике, и по физике он получал только отличные оценки, и преподаватели были о нем очень высокого мнения. Профессор Франц Глаузер не раз приглашал студента Орелли домой, чтобы за чашкой чая поговорить о тонкостях и загадках математики. Знаменитый глаузеровский чай с альпийскими травами, мятой и листьями вишни заваривала и подавала дочь профессора, толстушка Франсуаза. При появлении Анрэ она всякий раз краснела до корней белокурых волос, а потом усаживалась поодаль, подпирала пухлой рукой румяную щечку и глядела на гостя полными восхищения голубыми глазами. Сам профессор тоже смотрел на Анрэ ласково, почти как на сына, приглашал отобедать или отужинать с ними, обещал замолвить за него словечко, чтобы Орелли оставили на кафедре, и первое время юному студенту это все очень нравилось. Однако года через полтора, когда Франсуаза каждый раз, проходя мимо, стала задевать его то круглым локотком, то пышным бедром, то упругой грудью, а профессор все чаще начинал заговаривать о том, как мечтает о внуках, Анрэ сделалось в их доме неуютно. Что поделать, сердцу не прикажешь – Франсуаза никогда ему не нравилась. Будущего математика привлекали совсем другие девушки – тоненькие, стройные, изящные и непременно с темными смеющимися глазами, какие были у его матери. И он все реже стал бывать в гостях у Глаузеров, ссылаясь на те или иные неотложные дела. Профессор, будучи умным человеком, быстро разобрался, в чем дело, и с тем же энтузиазмом переключился на Франсуа Жерве. Здесь его усилия оказались вознаграждены. Сразу после окончания курса Франсуа стал мужем профессорской дочки. Свадьба получилась веселой и шумной, студенты и их подруги напились, наелись, натанцевались, нашутились и насмеялись от души. Анрэ был шафером и в глубине души очень радовался, что избавился от этой обузы. Он почему-то был уверен, что Франсуа с Франсуазой не уживутся, но ошибся. Жерве окончил университет, его оставили на кафедре, и он сделал головокружительную карьеру: стал профессором, опубликовал много книг, вырастил даровитых и известных учеников и получил несколько престижных научных премий. А Франсуаза родила пятерых детей и совсем располнела. Они были счастливы, так, по крайней мере, считали все их знакомые и близкие, да и сама мадам Жерве. Но это все было уже потом…
На втором курсе Анрэ Орелли вдруг снова увлекся живописью. Без особого труда вспомнив уроки, данные ему в детстве матерью и нанятыми ею учителями, он сначала просто зарисовывал виды окрестностей, используя мягкие карандаши, которые все равно не годились для учебных работ по техническому черчению. Потом попробовал себя в акварели, нарисовал несколько пейзажей, натюрмортов и даже портрет Франсуа – и все получилось неплохо. Конечно, он понимал, что до совершенства настоящих мастеров, с чьим творчеством был хорошо знаком по музеям, альбомам и открыткам, ему очень далеко, но самого Анрэ собственные рисунки вполне удовлетворяли. Ему каким-то непостижимым образом удавалось передать то красоту заснеженной горной вершины, то необыкновенно легкую тень, бросаемую на черепичные крыши Берна ломаным контуром готического собора, то удивительный свет под сенью изящной колоннады, одной из тех, которыми так славится этот город. Занятие живописью словно подарило ему другой взгляд на мир – он смотрел на то, что его окружало, и наслаждался увиденным, дивясь этой своей неизвестно откуда взявшейся тонкости восприятия. Теперь Анрэ уже и не мыслил себе выходных без вылазки на этюды или посещения музеев. Обычно он бывал в городской ратуше, в готическом соборе Санкт-Винценц, на колокольне Цитглоггетурм или других старинных зданиях, осматривал средневековые укрепления, забирался на башни и подолгу смотрел вдаль. Но чаще всего он бродил по набережным реки Ааре, делая там свои зарисовки, и Жерве постоянно дразнил его тем, что «Анрэ женился на Ааре». Эта глупая шутка, видимо, забавляла его созвучием имени приятеля и названия реки – подобно тому, как его собственное имя было созвучно с именем его невесты. Раздосадованный Анрэ отвечал, что Ааре не в пример лучше Франсуазы Глаузер. Жерве лез в драку, но не проходило и нескольких минут, как приятели мирились, брали бутылочку вина и принимались за рюмкой обсуждать прелести и недостатки знакомых и незнакомых швейцарских красавиц.
Когда Анрэ учился на третьем курсе, произошло событие, которое перевернуло всю жизнь. Однажды, поднявшись на открытую с четырех сторон верхнюю площадку Тюремной башни, молодой человек увидел у самого проема тоненькую фигурку. Девушка, одетая в шелковое цветастое платье и просторный сиреневый свитер крупной вязки, стояла спиной к нему и глядела вниз, ветер трепал расклешенную юбку и играл темно-русыми волосами. Незнакомка выглядела настолько легкой, почти невесомой, что казалось – еще миг, и она раскинет тонкие руки, расправит, точно крылья, рукава свитера и поднимется высоко-высоко в небо, навстречу перистым облакам. В то время Анрэ был еще очень робок с девушками, редко заговаривал с ними первым – но в тот раз слова вырвались сами собой:
– Вы не боитесь, что вас унесет ветром?
Незнакомка слегка вздрогнула – вопрос явно вывел ее из мечтательного забытья – и обернулась:
– Что вы сказали?
У нее было милое узкое лицо с чуть заостренным подбородком и удивительной красоты глаза насыщенного медового оттенка, в которых прятались смешинки. Он еще больше смутился, но повторил:
– Вы стоите так близко к проему… Я вдруг испугался, что порыв ветра подхватит вас, и вы улетите.
Она засмеялась и снова посмотрела вниз:
– А что? Было бы неплохо!
И добавила странную фразу:
Олег Юрьевич Рой
С детства Анжелу окружали только забота и внимание отца. Любой ее каприз и мимолетное желание исполнялись как в сказке. Но однажды девочка выросла, и обожание папы стало не радовать, а пугать. Странные подарки и откровенная ревность к ее возлюбленному удивляли не только Анжелу. Как вернуть прежние отношения и не потерять новые, как сохранить семейную идиллию?
Олег Рой
Украденное счастье
Сидни Шелдон говорил о технике сочинительства:
«Я пытаюсь писать так, чтобы читатель не мог закрыть мои книги…» Подобное можно сказать о писательском кредо Олега Роя. Увлекательнейшие истории, неожиданные сюжетные повороты, яркие образы сильных, незаурядных личностей стали причиной обращения кинематографа к творчеству писателя.
По его романам снимаются фильмы в России, Америке. Характеры персонажей автора раскрыты с удивительной глубиной и психологической точностью. Олег Рой пишет о вечном – о КАПРИЗАХ СУДЬБЫ, которая сегодня может лишить человека всего, что дорого в жизни, а завтра невзначай вернуть радость бытия. Но его герои, оказавшись на распутье, находят шанс, который дает им провидение, и становятся счастливыми. Перелистывая последнюю страницу захватывающего повествования, испытываешь жалость, что книга закончилась.
А. Маринина
Часть I
Анрэ
Этюд в ностальгических тонах
1943 год – 16 октября 1996 года
Я спустился с крыльца, прошел не торопясь в гараж, завел машину, долго прогревал мотор. Когда выехал за ворота и двинулся вверх по улице, утреннее солнце светило прямо в лобовое стекло. Люблю солнце осенью.
Ехал медленно, мимо знакомых домов и редких прохожих, с которыми машинально здоровался. Здесь меня знала каждая собака, и я тоже знал всех. Правда, последнее время в Лугано появилось много пришлых. Так много, что иногда казалось, будто ты не у себя дома, а в каком-то чужом, неизвестном городе…
Раньше все было иначе. После войны наш маленький городок едва ли насчитывал полтора десятка тысяч жителей, и практически все были знакомы. Прогуливаешься ли по улице, обедаешь ли в любимом гротто, отправишься ли за покупками, заглянешь ли на виллу Фаворита, в церковь Святого Антония или в Музей изящных искусств – всюду одни и те же лица. Каждый вновь прибывший был на виду. Например, мне запомнились встречи с Максом Фришем, который одно время приезжал в Лугано к другу и нередко посещал городской музей изящных искусств. Тогда он еще не стал мировой знаменитостью, но уже был известен своими романами – «Юрг Райнхард», «Трудные люди», «Штиллер» и особенно четвертым, нашумевшим, – «Homo Фабер». Я в те годы уже не сомневался, что Макс станет великим писателем. Так со временем и произошло. А познакомились мы случайно: ему нужно было увидеть картину Питера Брейгеля Старшего, и я провел его по музею, который знал как свои пять пальцев, и рассказал о картинах. Он был тронут. Потом мы сидели в маленьком кафе на площади и говорили о книгах, о политике, о женщинах; мне показалось, что, несмотря на разницу в возрасте, я нашел в нем родственную душу.
Позже, когда вышел его новый роман – «Назову себя Гантенбайн», Макс специально встретился со мной, чтобы вручить книгу с дарственной надписью, и сказал, что многое для этой вещи взял из нашего разговора. Хотя лично я ничего такого там не заметил. С тех пор мы с ним изредка переписывались: последнюю открытку от него я получил на Рождество, а сам 15 мая поздравил его с восьмидесятилетним юбилеем. Подаренная книга всегда стоит в моем шкафу на самом видном месте. На первой странице красуется сделанная размашистым почерком надпись: «Гантенбайну-1 от Гантенбайна-2. Декабрь 1965 г. Поздравляю со свадьбой. Макс». Последнее время я часто брал книгу с полки, не для того даже, чтобы перечитать роман, который знал чуть ли не наизусть, а с целью вновь увидеть эту надпись и хоть на миг мысленно вернуться в те благословенные годы. Славное было время! Создание моего банка, юная Софи, рождение дочки… Тогда я и помыслить не мог, какой неожиданный и страшный удар нанесет судьба в последнем акте странной пьесы, именуемой моей жизнью…
Я выехал за город. Вел машину, а сам смотрел по сторонам. Да, что говорить, со времен шестидесятых Лугано значительно изменился. Стал похож на многие другие города – не в центре, конечно, где еще сохранилось его настоящее лицо, но на окраинах и в пригородах, которые так разрослись за последние десятилетия. Здесь, глядя вокруг, даже не сразу можешь определить, где находишься: в Лугано или где-нибудь в Беллинцоне, Церматте или Локарно? Все стало какое-то стереотипное, безликое – и архитектура, и жизнь, и люди. Только пейзаж остается прежним, изменяясь лишь от времени года.
Осень. Моя родная, любимая пора. Осенью Лугано всегда напоминал мне стареющую матрону, демонстративно одетую и накрашенную, силящуюся подчеркнуть остатки стремительно уходящей красоты… Мой город особенно хорош в октябре, когда жара уже спала и наступило время не загорать, а любоваться его великолепием. Падают каштаны, листья желтеют, сворачиваются, как гаванские сигары… Краски буйствуют, беснуются: красный, желтый, бордовый, золотой – цвета царят в природе, они и под ногами, и над головой, и в мыслях, и в сердце.
Я припарковался на обочине, вышел из машины. Передо мной расстилались Швейцарские Альпы, манили снежные вершины. Город лежал внизу в легкой дымке и весь был виден отсюда – грузовые пароходики, прогулочные яхты, Виа Нисса, Пьяцца Федерале, наш дом, мой «Лугано Прайвитбанк», великолепный старинный парк – и все это в сочных красках осенней листвы, последних в этом году цветов и живучей зелени газонов. Казалось, можно было бы вечно любоваться этим, наслаждаться и блаженствовать…
Однако в тот солнечный октябрьский день я был как никогда далек от блаженства. На душе было тяжело. Меня угнетало то, что происходило с Анжелой. Вот уже несколько лет я с каждым днем, с каждой минутой терял мое обожаемое дитя, мою малышку, мою ненаглядную дочку. Чужой человек, русский, сын женщины, когда-то заставившей меня так страдать и чуть не погубившей всю мою жизнь, – этот человек буквально околдовал мою девочку, как когда-то околдовала меня его мать, заставил ее забыть обо всем на свете, включая ее отца, который всегда души в ней не чаял! Я боготворил свою Анжелу с самого ее рождения и даже еще до этого – с того момента, когда Софи призналась, что ждет ребенка. А может быть, даже еще раньше, быть может, и Софи-то появилась в моей жизни только затем, чтобы родить мне дочь… И я полюбил Анжелу еще тогда, когда встретил Софи, когда впервые поцеловал… Когда жена забеременела, я окружил ее вниманием и заботой, достойной особы королевской крови: поил свежими соками, пичкал фруктами и ягодами, исполнял все ее желания, приглашал в лучшие рестораны, водил на прогулки, концерты, выставки.
Когда родилась Анжела, я даже на время забросил свой бизнес, нанял управляющего и передал ему все текущие дела, а сам полностью посвятил себя девочке. Настольной книгой для меня в то время был роман выдающегося итальянского педагога Иоганна Песталоцци «Лингард и Гертруда». Я с упоением занимался воспитанием дочки, и с первых дней ее жизни мы были неразлучны. Первым словом нашего ангелочка было «папа», что, помнится, неприятно задело Софи. Впрочем, обиделась она не слишком сильно. Быстро поняв, что материнство – не ее призвание, жена с облегчением переложила на мои плечи большинство забот о ребенке. Именно я постоянно находился рядом с Анжелой, учил ее ходить и говорить, играл с ней, читал ей сказки, сидел у ее кроватки, когда она болела. Именно со мной она ходила на прогулку в парк, именно со мной делилась самым сокровенным, меня и только меня впускала в самые потаенные уголочки своей души. Она была моей и только моей девочкой… До тех пор, пока не появился этот русский. Он ворвался в нашу жизнь как ураган, безжалостно сломав и разметав все, что нам было привычно и дорого. Если бы я только мог предвидеть, чем обернется то письмо… Дернул же черт меня, сентиментального старого дурака, его вскрыть!.. Знал бы, чем это грозит, выбросил бы, не читая. Но тогда позволил себе удариться в воспоминания, поддаться ностальгии по молодости и любви… И вот результат. Семья наша распалась. Про Софи я даже не думал, она давно отдалилась от нас и больше бывала в Милане, чем дома. Но мне это только на руку, она хотя бы оставила меня в покое. Теперь в ее жизни появилось то, к чему она, собственно, всегда стремилась, – показы мод, вечеринки, глянцевые журналы, шопинг, салоны красоты… Наверное, завела себе и любовника, скорее всего, молодого, охочего до денег. Но Софи меня нисколько не волновала, а вот Анжела… Мою дочь словно уносил отлив все дальше и дальше от меня. Я с ужасом ожидал, что в один прекрасный день она вообще могла бы забыть о моем существовании. И, что самое ужасное, я сам был во всем этом виноват! Именно я, поддавшись уговорам, пригрел этого русского, взял на работу в свой банк. И проглядел, слепец, проморгал, как он в ответ на мои благодеяния украл у меня из-под самого носа самое ценное сокровище. Видела бы Анжела своего избранника в первый момент, когда он только пришел наниматься на работу в банк, как он был жалок, робок, плохо одет! Теперь этот типчик, конечно, уже совсем не таков, отъелся, приобрел лоск, набрался спеси. Дошел до того, что имел наглость вмешиваться в дела банка и указывать мне, его владельцу, что и как я должен делать! Лез во все, даже в то, в чем совершенно не смыслил. Однажды мы с ним, например, поспорили о картинах. Что он может понимать в живописи? А туда же, раскритиковал мою «Сирень» – это, мол, банально и примитивно. Да помолчал бы уж! Сирень на картине как живая, в каплях росы, зовущая, прекрасная, едва ли не говорящая… Как он вообще смел, сопливый мальчишка, самодовольный щенок!
Конечно, я не мог этого терпеть. Я боролся всеми средствами: говорил по душам с дочкой, пытался как-то вывести из игры этого русского, попробовал их развести… Но все безрезультатно. Анжела точно ослепла, она не желала слушать ни мои доводы, ни мои мольбы. Другие методы тоже не подействовали. Вернее, пока не подействовали. Ведь я не привык проигрывать! Я легко не сдамся, рано еще списывать меня в утиль!..
…сейчас двадцать минут одиннадцатого, значит, осталось ждать всего несколько часов. Несколько часов – и все закончится. Да, конечно, какое-то время еще будет нелегко… Но я справлюсь. Мы с Анжелой справимся, потому что снова будем вместе.
Уверен, что все будет хорошо. Надо только очень сильно захотеть. И помолиться. Как тогда, когда маленькая Анжела заболела двусторонним воспалением легких. Все боялись, что наш ангелочек умрет, даже врачи говорили, что шансов немного… А я боролся. День и ночь не отходил от ее кроватки, держал в своих руках горячие ладошки и молился, молился, молился, чтобы Бог не забирал у меня мою девочку… И он смилостивился. Так будет и теперь, я знаю, просто надо верить. Верить и молиться. Помоги, Господи! Не оставь раба твоего в трудную минуту…
…Человека, вознесшего небесам эту выстраданную мольбу, звали Анрэ Орелли. Около месяца назад ему исполнился шестьдесят один год, но этих лет ему никто не давал – настолько моложавым, подтянутым и энергичным он выглядел. Высокий, спортивная фигура, густые каштановые волосы и красивый низкий голос придавали ему сходство с киногероем, о чем неоднократно говорили заинтересованные собеседницы самых разных возрастов. А несколько глубоких морщин, покрывавших его лицо, по мнению дам, совсем не портили Анрэ, а, наоборот, придавали ему более мужественный вид.
Орелли слушал комплименты со снисходительной улыбкой, но никогда не относился к ним серьезно. Кому, как не ему, было знать, что пересекавшие его лоб морщины – совсем не украшение, а печать множества страданий, которые ему довелось пережить на своем веку…
* * *
Кто-то сказал, что все дороги ведут в Рим, но при этом забыл добавить: да, в Рим, но через Лугано. Последней мировой войны в Швейцарии не было, страна оставалась нейтральной. Однако «великая битва народов» и здесь присутствовала и в быту, и в прессе. И даже в природе. Когда война наконец закончилась, все изменилось, даже небо сделалось другим, стало выше, голубее. Или маленькому Анрэ так только казалось?
Лугано находится на самой границе с Италией, в которой почти у каждого жителя города есть родственники или знакомые. И когда в дома по ту сторону границы приходили похоронки, плач и проклятия в адрес Гитлера и «ирода Муссолини» слышались и на этой стороне. В некоторых домах Лугано приютили раненых или дезертиров – и власти смотрели на это сквозь пальцы, словно не замечали. У ближайших соседей Орелли, семьи Факетти, довольно долго жил молодой черноволосый зубоскал Альберто, сбежавший с итальянского фронта. Он открыто прогуливался по Виа-Нисса, стрелял у знакомых сигареты, заглядывался на местных красоток, шутил со всеми встречными и ничего не боялся. Но чем явственнее ощущался финал войны, тем осторожнее становились власти. В начале 1945 года Альберто и еще двоих таких же «фашистов» арестовали и выдали итальянцам.
Отец Анрэ, Энцо Орелли, как-то сказал: «Гитлер – идиот, сексуальный маньяк, выживший из ума неврастеник, а Муссолини его любовник (они оба, по его мнению, были «голубыми»). Ты почитай «Превращение» Франца Кафки, там все написано – и про них, и про нас!»
Десятилетний Анрэ ничего толком не понял из его слов. И тем более из Кафки, через которого честно попытался продраться после того разговора. Тогда ему было очень стыдно за это перед отцом, к которому он испытывал странные противоречивые чувства, включавшие и уважение, и неприязнь, и благоговение, и страх. Он почти боготворил Энцо – и в то же время никак не мог простить ему, что мать, пока не покинула этот мир, всегда была ближе к мужу, чем к сыну.
Мать Анрэ, Марианна, была коренной жительницей Лугано. Их было четыре сестры Верфель: Фелица, Ганна, Анна и Марианна. Три старших, погодки, походили друг на дружку как близнецы – все как одна, высокие, ширококостные, жилистые, с крупными и некрасивыми чертами лица. Марианна, родившаяся на одиннадцать лет позже Анны, самой младшей из сестер, представляла собой их полную противоположность. Небольшого роста, нежная, хрупкая, с удивительно белой кожей и вечно смеющимися карими глазами, она была на редкость хороша собой. «Бывало, только посмотришь в ее сторону, – любил вспоминать Энцо, – и у тебя словно язык отнимается. Она улыбнется, поздоровается, – а ты, как дурак, молчишь или мямлишь что-то невнятное…» Казалось бы, при таком контрасте старшие сестры должны были бы ненавидеть Марианну и завидовать ей, но у Верфелей все вышло наоборот. Меньшая дочь всю свою короткую жизнь была любимицей в семье. После смерти родителей Фелица, Анна и Ганна разделили между собой все заботы и из кожи вон лезли, чтобы «их малышка» не знала горя, ни в чем не нуждалась и могла бы заниматься тем, что ей нравится, – Марианна неплохо рисовала и очень любила музыку. Собственной семьи ни одна из старших сестер не создала. Фелица и Анна не вышли замуж, Ганна приняла предложение пожилого соседа-бакалейщика, но, не прожив в браке и полутора лет, овдовела и вернулась в родной дом. Красавица Марианна стала единственной продолжательницей рода – едва ей минуло восемнадцать, когда она пошла под венец, не устояв перед обаянием красноречивого и статного итальянца, неизвестно откуда прибывшего в ее тихий город.
Энцо Орелли жил контрабандой продовольствия – перевозил через границу тюки с запрещенными товарами. Анрэ хорошо помнил, как в иные дни у их дома чуть ли не выстраивалась очередь из полицейских и таможенников, желающих получить взятку. Ближе к вечеру обогатившиеся визитеры накупали на радостях вина, пива, сосисок и устраивали пирушку. Они горланили итальянские народные песни, послушать которые собиралось пол-Лугано, травили анекдоты, рассказывали байки из жизни контрабандистов… Словом, бывало весело, так весело, что все с нетерпением ждали следующей раздачи денег. Каждый раз, когда Анрэ с отцом, гуляя по городу, встречали кого-нибудь из представителей закона, тот обязательно похлопывал Энцо по плечу, называл «дружище» и словно невзначай спрашивал: «Что-то ты давно нас не собирал, а?» Отец угощал его сигаретой и отшучивался, но старался не оставлять намеков без внимания и вскоре обязательно устраивал очередную шумную пирушку, после которой самых нестойких ему приходилось развозить по домам на своем велосипеде.
Конечно, все вместе эти взятки составляли внушительную сумму, но, даже несмотря на это, семья жила неплохо. После свадьбы Орелли поселились в большом доме Верфелей, где хватало места всем. Фелица, Ганна и Анна с радостью приняли молодоженов под свое крыло и окружили заботой сначала их, а вскоре и появившегося на свет Анрэ. Сами лишенные радости материнства, тетки обрушили на мальчика всю свою нереализованную любовь и нянчили его втроем, поскольку после тяжелой беременности и трудных родов у хрупкой Марианны резко пошатнулось здоровье. Маленький Анрэ до безумия любил мать, такую милую, ласковую и веселую, готов был ни на минуту не расставаться с ней и очень страдал оттого, что к маме часто было «нельзя», потому что ей «нездоровилось». Самым обидным казалось то, что на отца эти запреты не распространялись, он в любое время мог войти к ней в спальню и сколько угодно там находиться. И в такие минуты Анрэ готов был ненавидеть отца. Но, на его счастье, Энцо был неглупым человеком и хорошим родителем. Каким-то непостижимым образом ему удалось преодолеть детскую ревность и из преграды на пути к обожаемой матери превратиться для сына в мудрого и авторитетного советчика. Уже став взрослым, Анрэ много раз благодарил небеса за то, что ему так повезло с отцом, который сумел воспитать его настоящим мужчиной. Будь старший Орелли чуть менее строгим и рассудительным, и младший, избалованный вниманием и заботой теток, наверняка вырос бы маменькиным сынком, размазней и бесплодным мечтателем, тем более что все задатки для этого у него в полной мере присутствовали. В детстве ему нравились не шумные игры с лучшим другом Максом Цолингером по прозвищу Лиса и другими приятелями, как обычно это бывает у мальчишек, а книги, музыка и живопись. Он проводил чуть не все свободное время за чтением и часами напролет готов был слушать, как Марианна играет на рояле. Матери пришлось по нраву, что он с самых ранних лет пробовал рисовать, и не было для мальчика большего счастья, чем прозвучавшая из ее уст похвала какого-нибудь его рисунка, наброска или этюда.
Чем ближе и явственнее ощущался финал войны, тем слабее становилось здоровье Марианны. Напрасно наивная детская душа лелеяла мечту: «Когда война кончится, мама поправится» – в декабре сорок пятого, под Рождество, Марианна умерла. С тех пор Анрэ на всю жизнь невзлюбил этот праздник, самый, наверное, популярный и веселый в их краях.
После смерти матери он как-то особенно сблизился с отцом, старался как можно больше времени бывать в его обществе, прислушивался к каждому слову. А за углом уже притаилась новая беда. Не прошло и четырех лет, как, вернувшись из школы, мальчик увидел, что в доме переполох, а у теток заплаканны глаза. Анрэ пришлось долго приставать к ним с расспросами, пока наконец Фелица, старшая, не выдавила из себя три страшных слова: «Твой отец умер». Что стало истинной причиной гибели Энцо Орелли, его сыну так и не суждено было узнать. Возможно, тот действительно скончался от сердечного приступа, как считалось официально, но не исключено, что ему помогли уйти на тот свет конкуренты и недоброжелатели, которых у контрабандиста хватало. Смерть отца еще несколько лет занимала Анрэ, не давая ему спокойно спать. Он пытался разобраться во всем, даже провел собственное расследование, но из этого ничего не вышло.
Потеря кормильца, разумеется, стала значительным ударом для семьи, не только психологическим, но и финансовым. Но и тут за дело снова взялись сестры Верфель. Они работали не покладая рук: шили, вышивали, делали искусственные цветы и продавали их сначала местным, а потом – иностранцам, туристам. Кроме того, часть большого дома начали сдавать внаем, для желающих – с полным пансионом. Все это позволило Анрэ не только без проблем окончить школу, но и – несказанное везение! – поступить на математический факультет Бернского университета. У него всегда были способности к математике, конечно, не столь гениальные, как это представлялось любящим теткам, но весьма неплохие. Таким образом, незадолго до своего девятнадцатилетия юный Орелли простился с Максом Цолингером и другими друзьями и впервые в жизни покинул родные края, отправившись в столицу изучать неэвклидову геометрию.
Берн стал для Анрэ открытием. Лугано, конечно, место красивое и с древними традициями, но большой город – это большой город! Юного Орелли удивляло и приводило в восторг все – толпы нарядных прохожих, столичная суета, огромные магазины, множество автомобилей, трамваи, светящиеся вывески, театры, ночные клубы…
Он поселился в съемной комнате на улице Карла XII вдвоем с Франсуа Жерве, молодым французом, тоже учившимся в университете. Комната, уже изначально не очень дорогая, вскоре и вовсе стала обходиться им почти даром, когда Анрэ начал заниматься с хозяйским сыном математикой. А уж после того, как мальчик получил несколько отличных отметок, хотя до этого был одним из последних в классе, хозяин только что не расцеловал жильца и заявил, что отныне они с французом могут вообще не думать об оплате жилья. «Живите так, не нужно ни франка, только почаще занимайся с моим оболтусом, хорошо?» Анрэ с радостью согласился, тем более что «оболтус» был хоть и ленивым, но весьма толковым малым. Двух полуторачасовых занятий в неделю ему было более чем достаточно, чтобы сохранить позицию если не отличника, то, по крайней мере, хорошего ученика.
Учеба же самого Анрэ держалась на высшем уровне. И по математике, и по физике он получал только отличные оценки, и преподаватели были о нем очень высокого мнения. Профессор Франц Глаузер не раз приглашал студента Орелли домой, чтобы за чашкой чая поговорить о тонкостях и загадках математики. Знаменитый глаузеровский чай с альпийскими травами, мятой и листьями вишни заваривала и подавала дочь профессора, толстушка Франсуаза. При появлении Анрэ она всякий раз краснела до корней белокурых волос, а потом усаживалась поодаль, подпирала пухлой рукой румяную щечку и глядела на гостя полными восхищения голубыми глазами. Сам профессор тоже смотрел на Анрэ ласково, почти как на сына, приглашал отобедать или отужинать с ними, обещал замолвить за него словечко, чтобы Орелли оставили на кафедре, и первое время юному студенту это все очень нравилось. Однако года через полтора, когда Франсуаза каждый раз, проходя мимо, стала задевать его то круглым локотком, то пышным бедром, то упругой грудью, а профессор все чаще начинал заговаривать о том, как мечтает о внуках, Анрэ сделалось в их доме неуютно. Что поделать, сердцу не прикажешь – Франсуаза никогда ему не нравилась. Будущего математика привлекали совсем другие девушки – тоненькие, стройные, изящные и непременно с темными смеющимися глазами, какие были у его матери. И он все реже стал бывать в гостях у Глаузеров, ссылаясь на те или иные неотложные дела. Профессор, будучи умным человеком, быстро разобрался, в чем дело, и с тем же энтузиазмом переключился на Франсуа Жерве. Здесь его усилия оказались вознаграждены. Сразу после окончания курса Франсуа стал мужем профессорской дочки. Свадьба получилась веселой и шумной, студенты и их подруги напились, наелись, натанцевались, нашутились и насмеялись от души. Анрэ был шафером и в глубине души очень радовался, что избавился от этой обузы. Он почему-то был уверен, что Франсуа с Франсуазой не уживутся, но ошибся. Жерве окончил университет, его оставили на кафедре, и он сделал головокружительную карьеру: стал профессором, опубликовал много книг, вырастил даровитых и известных учеников и получил несколько престижных научных премий. А Франсуаза родила пятерых детей и совсем располнела. Они были счастливы, так, по крайней мере, считали все их знакомые и близкие, да и сама мадам Жерве. Но это все было уже потом…
На втором курсе Анрэ Орелли вдруг снова увлекся живописью. Без особого труда вспомнив уроки, данные ему в детстве матерью и нанятыми ею учителями, он сначала просто зарисовывал виды окрестностей, используя мягкие карандаши, которые все равно не годились для учебных работ по техническому черчению. Потом попробовал себя в акварели, нарисовал несколько пейзажей, натюрмортов и даже портрет Франсуа – и все получилось неплохо. Конечно, он понимал, что до совершенства настоящих мастеров, с чьим творчеством был хорошо знаком по музеям, альбомам и открыткам, ему очень далеко, но самого Анрэ собственные рисунки вполне удовлетворяли. Ему каким-то непостижимым образом удавалось передать то красоту заснеженной горной вершины, то необыкновенно легкую тень, бросаемую на черепичные крыши Берна ломаным контуром готического собора, то удивительный свет под сенью изящной колоннады, одной из тех, которыми так славится этот город. Занятие живописью словно подарило ему другой взгляд на мир – он смотрел на то, что его окружало, и наслаждался увиденным, дивясь этой своей неизвестно откуда взявшейся тонкости восприятия. Теперь Анрэ уже и не мыслил себе выходных без вылазки на этюды или посещения музеев. Обычно он бывал в городской ратуше, в готическом соборе Санкт-Винценц, на колокольне Цитглоггетурм или других старинных зданиях, осматривал средневековые укрепления, забирался на башни и подолгу смотрел вдаль. Но чаще всего он бродил по набережным реки Ааре, делая там свои зарисовки, и Жерве постоянно дразнил его тем, что «Анрэ женился на Ааре». Эта глупая шутка, видимо, забавляла его созвучием имени приятеля и названия реки – подобно тому, как его собственное имя было созвучно с именем его невесты. Раздосадованный Анрэ отвечал, что Ааре не в пример лучше Франсуазы Глаузер. Жерве лез в драку, но не проходило и нескольких минут, как приятели мирились, брали бутылочку вина и принимались за рюмкой обсуждать прелести и недостатки знакомых и незнакомых швейцарских красавиц.
Когда Анрэ учился на третьем курсе, произошло событие, которое перевернуло всю жизнь. Однажды, поднявшись на открытую с четырех сторон верхнюю площадку Тюремной башни, молодой человек увидел у самого проема тоненькую фигурку. Девушка, одетая в шелковое цветастое платье и просторный сиреневый свитер крупной вязки, стояла спиной к нему и глядела вниз, ветер трепал расклешенную юбку и играл темно-русыми волосами. Незнакомка выглядела настолько легкой, почти невесомой, что казалось – еще миг, и она раскинет тонкие руки, расправит, точно крылья, рукава свитера и поднимется высоко-высоко в небо, навстречу перистым облакам. В то время Анрэ был еще очень робок с девушками, редко заговаривал с ними первым – но в тот раз слова вырвались сами собой:
– Вы не боитесь, что вас унесет ветром?
Незнакомка слегка вздрогнула – вопрос явно вывел ее из мечтательного забытья – и обернулась:
– Что вы сказали?
У нее было милое узкое лицо с чуть заостренным подбородком и удивительной красоты глаза насыщенного медового оттенка, в которых прятались смешинки. Он еще больше смутился, но повторил:
– Вы стоите так близко к проему… Я вдруг испугался, что порыв ветра подхватит вас, и вы улетите.
Она засмеялась и снова посмотрела вниз:
– А что? Было бы неплохо!
И добавила странную фразу: