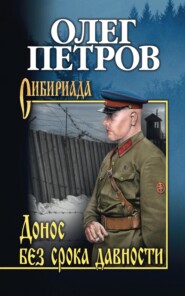По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Снегири на снегу (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, психопат Лемке, если подвернется удобный случай, обязательно донесет приезжающему начальству: во всем виноват он, Мюнше. Лемке давно копает ему яму, мечтая об офицерском чине.
Отто отводит взгляд от плаца за окном, трет виски короткопалыми, заросшими рыжеватыми волосами руками. Развернувшись всем корпусом назад, под жалобный скрежет описавшего полукруг кресла, переводит взгляд на висящий над креслом портрет фюрера, грозно глядящего вдаль с недавно выбеленной стены.
Машинально, в очередной раз прикинув, сколько висит таких портретных репродукций в разных штабах и прочих кабинетах рейха, Отто разглядывает фюрера – самого главного арийца на всем белом свете. И в очередной раз с раздражением закапывает упрямо всплывающую из глубины мозгов подлую мыслишку: гениальнейший вождь имперских народов как-то совсем не соответствует, несмотря на старание безвестного художника, образу пропагандируемой ведомством доктора Геббельса «белокурой бестии».
Хотя и он, Мюнше, внешне от идеала арийца далек. Но и он, Отто, вновь видит себя то на мрачноватой, гранитно-мраморной трибуне нюрнбергского имперского стадиона, над колыхающимися колоннами с упоением марширующих наци, то на обитом натуральной кожей заднем сиденье роскошного «хорьха», с номерными знаками и штандартом рейхсканцелярии на лакированном переднем крыле… А чаще – в шикарно убранной спальне старинного замка, где над пышущим жаром камином тускло блестят скрещенные старинные мечи… И везде Отто представляется себе высоким блондином, а не рыжим коротышкой. Не сыном лавочника из берлинского предместья – лощеным аристократом с баронской приставкой «фон» к фамилии. Только в баронских грезах Отто почему-то не вальяжно цедит из пузатой рюмки драгоценный французский коньяк, а с глыканьем льет его себе в горло, как вот этот мутный местный шнапс, хотя и из большого хрустального фужера, который держит в правой руке, левой лениво лаская… нет, не пышные груди ослепительной вдовы-генеральши, еще не разменявшей полностью третий десяток лет, – покрытые гусиными пупырышками и отвислые, как уши спаниеля, бледные до синюшности, перси костлявой дочки соседского лавочника, вечного папашкиного конкурента Фурмеля…
Мюнше вздыхает, отгоняя наваждение. Сошла бы нынче и Лотта Фурмель. Но пока Отто сидит в злых и холодных русских лесах, Лотта, он уверен в этом, зря времени не теряет. В неимоверно далеком фатерлянде охотников и до костлявой дочки старого Фурмеля полно.
Унтерштурмфюрер вновь, елозя креслом, отворачивается к окну и с ненавистью сверлит глазами серый прямоугольник аппель-плаца. Пепел с еле тлеющей сигареты сыплется на китель, но Мюнше не замечает этого. Он ждет высокое начальство.
ГЛАВА 2. ЗАУКЕЛЬ
Медленно вернулось сознание, а с ним и разламывающая до тошноты всю черепную коробку боль. Человек шевельнулся на захрустевшем снегу. Или ему только показалось это? Рот наполнился солоноватой слизью. Человек через силу разжал стиснутые зубы, непослушным языком попытался вытолкнуть кровяные сгустки. Дышать стало легче. Открыть глаза получилось не сразу. В первое мгновение резанула ослепительная вспышка, помутившая и без того сумеречное сознание. Постепенно, через узенькие щелочки меж опухшими веками, в глазах прояснилось, их уже меньше резало от слепяще-яркого солнечного света. Стоял день. Солнечный. Необычный. Пугающе необычный. Тут же навалилась гулкая тревога, от которой заухало в груди. Но потом уханье сердца постепенно стало отступать и исчезло вовсе. Только голову разламывала боль, но вот и она притупилась до привычности. И лишь теперь человек смог осознать причину охватившей его гулкой тревоги. Вокруг стояла тишина. Большая и плотная тишина. В ней не было приближающегося лая широкогрудых стремительных овчарок с темно-коричневыми подпалинами на поджарых боках, в стандартных ошейниках. Овчарок, которые, казалось, уже настигали, и пена летела с черных бахромистых складок над ослепительно-белыми клыками…
Ослепительно-белым было всё окружающее пространство. Где-то очень далеко, у горизонта, его пересекала черная полоска, отделяющая белое от такого же ослепительного, бесконечного океана сини. Человек не сразу понял, что это поле, за которым далекий лес, что бездонная синева – небо. Но почему, вопреки всем земным законам, поле, далекий черный лес, небо расположились необычно – вертикально?
Новый приступ тошноты, наполнивший рот горечью, помог сообразить: непреодолимая, отдающая гулкими жаркими толчками боли в голову, сила прижала его тело, впечатала в белоснежную поверхность. Мир, конечно, по-прежнему горизонтален, а это он, беспомощный, неподвижный, – распластан, придавлен стопудовым грузом, вбит чудовищной тяжестью в бескрайний снежный простор. Но ничего страшного в этом нет. В услышанной, заполнившей весь мир тишине царит покой, убаюкивающий, обволакивающий неспешной дремой.
Взгляд с трудом сфокусировался на чем-то выбивающемся из этой общей картины бескрайнего покоя, более ближнем. Теперь пространство сузилось до размытой по краям багровым щели. Человек окончательно понял, что лежит на снежном насте, а на багровой полоске ставшего близким горизонта сидит какая-то пичуга… Снегирь! Блестит выпуклым глазом, яркая грудка еще ярче от ослепительной сахарности снежной поверхности.
Человек снова шевельнулся. И теперь уже окончательно убедился, что его движения происходят только мысленно: снегирь никак не среагировал. Черная гора, взрывшая снег у ольхи, снегирю была неопасна. Птица, конечно, поняла, что эта черная гора – тоже живое существо. Пока еще живое. Но опасности уже не представляющее. Черная гора сама нуждается в защите и помощи.
Снегирь деловито переступил с ноги на ногу и демонстративно клюнул уже порядком разлохмаченную им на снежной корке ольховую шишечку. Черная гора – человек его больше не интересовал.
А человек пытался удержать глаза на птице. Этого не получалось. Сознание куда-то ускользало, совершенно не слушая мысленного приказа не уходить, держаться, не опускаться на зыбкое, черное дно беспамятства. И опять стало непонятно, как это так спокойно яркая пичуга разгуливает по вертикальной поверхности, бодро клюет что-то, а это что-то от ударов клюва не скатывается вниз, туда, куда стремительно, одновременно раскручиваясь, словно на карусели, падает мгновенно ставшее невесомым тело, куда проваливается все, – в черноту…
***
На пороге, как обычно, без стука вырос Лемке, с порога пролаял «хайль», вскинув руку в традиционном приветствии. Так и замер, сволочь, выжидая.
Мюнше нехотя отвернулся от окна, вылез из нагретого долгим сидением кресла и, потягиваясь, вяло ответил на приветствие, едва согнув правую руку в локте. Лениво, с привычной ненавистью подумал: «Лишнюю строку, рыло косое, в донос добавишь!». Уперся в красные, как у кролика, круглые глазенки шарфюрера. Тот, сразу же переведя взгляд поверх головы начальника на портрет имперского вождя, отчеканил:
– Герр унтерштурмфюрер, дежурному только что прошел звонок из отделения гестапо в Остбурге: к нам выехали гости.
Мюнше зевнул и, отогнув обшлаг кителя, глянул на наручные часы: 9.41. Значит, компания будет через час – час десять на месте. Что ж, время еще есть.
– А не выпить ли нам, дружище, кофе? – Мюнше изобразил на лице подобие улыбки, на которую Лемке откликнулся довольной ухмылкой заклятого приятеля.
– Только что хотел предложить это вам, герр комендант!
– Шутник! – Мюнше, криво усмехаясь, погрозил подчиненному пальцем. «Тварь гестаповская! Ждет не дождется, когда эти чертовы «гости» начнут размазывать меня по стенам цорновского кабинета! Дерьмо! Всё дерьмо!..»
– А что, дружище, об упущенной четвертой русской свинье никаких новых известий?
Осклабившийся было шарфюрер – как подавился. Круглая физиономия побагровела, от чего кроличьи красные глазки совершенно на ней потерялись. «А что, неплохо! – подумалось Мюнше. – За побег ответит командир роты охраны, а за некачественные поиски в лесу – вот этот вонючий лис!» Унтерштурмфюреру стало смешно, он еле удержал лицо от соответствующей гримасы – чего эту тварину еще больше злить…
– Никак нет, герр унтер…
– Ладно, ладно, дружище. Будем готовиться к приему начальственных пинков и подзатыльников, – с покровительственной бодростью произнес Мюнше. – А пока выпьем кофе… Как обычно, в канцелярии?
– Так точно! Фройляйн Анна…
«Фройляйн!.. Аристократ лагерный! Сейчас будет хлебать из кружки эрзац-бурду и раздевать глазами эту самую «фройляйн» Анну – вульгарную, вечно размалеванную без всякой меры девицу, невесть какими ветрами занесенную в лагерную администрацию… Впрочем, ветра известные – подарочек гауптштурмфюрера Ренике, шефа местного гестапо. Откопала же, гнида гестаповская, для себя фольксдойче в Остбурге! Фольксдойче… Унтерменше! А как надоела подстилка – сбагрил сюда, в лагерь. Стучат с Лемке наперегонки, твари!»
Мюнше снова стало смешно от своего «праведного» гнева. Когда эта самая Анна появилась, потупив взор, в его кабинете, с направлением из бургомистрата и рекомендациями местного отделения гестапо, а проверочные материалы на нее из инспекции лагерей и от уполномоченного службы безопасности – СД, пришли еще раньше, – Отто и сам, без больших усилий, вскоре затащил ее в постель. Новая работница канцелярии оказалась весьма покладистой и безотказной. Ее любвеобильности хватало и Мюнше, и Лемке, а вот комендант, толстячок Цорн, как-то ее игнорировал. «Странно, – вдруг подумалось, Отто, – а почему действительно наш толстячок самоустранился?..»
Наморщив лоб, Мюнше бросил взгляд в спину исчезающему за дверями Лемке, снова потянулся и двинул затекшее тело к громоздкому шкафу, набитому до отказа кипами бумажных папок с тряпичными тесемками. Выудил из-под лежащей сверху на шкафу каски платяную щетку, несколько раз пошоркал ею по обсыпанному пеплом черному мундиру.
…Кофе конечно же оказался набившей оскомину бурдой, крепко отдающей желудями. Отто с тоской вспомнил ароматный довоенный напиток, иногда появлявшийся в отцовской лавчонке. Хо, как это было давно! Потом застучали барабаны, потом фюрер бросил устами своего колченогого министра пропаганды клич-лозунг: «Пушки вместо масла!», а с маслом пропали и кофе, и многие другие вкусные вещички. Последний раз любимым душистым напитком Отто по-настоящему наслаждался в Париже… С тоской вспомнился настоящий бразильский «мокко», которого в поверженной столице у чернявых галльских обезьян оказалось столько, словно на Елисейских полях и в подстриженном с чисто французской легкомысленностью Булонском лесу шелестели листвой не каштаны и раскидистые платаны, а кофейные деревья. Париж… В какой жизни это было? И было ли вообще? На остбургской толкучке Мюнше месяца полтора назад реквизировал пакет с кофейными зернами у перепуганной старушенции, но от сокровища ощутимо наносило прелью…
За окном канцелярии серел тот же самый плац, отделенный широкой нейтральной полосой и высоким проволочным забором с фаянсовыми шишечками электроизоляторов. А вот тарахтение дизель-генератора, обеспечивающего освещение и высокое напряжение в проволочном заборе, здесь слышалось куда более отчетливо. Жрет, прорва железная, дефицитное дизтопливо! И ведь, по сути, напрасно. Стоило на четверть часа генератору задохнуться… Как же об этом пронюхали доходяги в бараке? Спросить не у кого. Пришлось в заключении проведенного расследования свести все к досадному совпадению. Дебильно и неуклюже, но иначе вывод напрашивается крайне неутешительный, если не сказать более определенно. Благо всех прежде причастных к обслуживанию дизель-генератора русских свиней уже жрут черви! Хотя… Никто их не жрет! Валяются заледенелыми колодами в траншее за хоздвором лагеря… Вот, кстати! Вернется из госпиталя Цорн, надо срочно решать вопрос с оборудованием реторты крематория. Чтобы с наступлением тепла не расползалась зараза. Тепло… А оно, черт побери, будет в этой дикой, варварской стране? Наступит ли когда…
Мюнше снова пробрало ознобом, который отступил было после чашки эрзац-кофе. Унтерштурмфюрер вновь с тоской глянул за окно. Дьявол бы побрал эти русские морозы, эти почерневшие от долгих осенних дождей приземистые, словно ежедневно погружающиеся в земную твердь щелястые бараки, эти раскоряченно упершиеся в периметр лагеря караульные вышки из соснового теса, нависшие над рядами местами уже прихваченной ржавчиной колючей проволоки! Но главное – эта страшная, серая, безликая, колыхающаяся жуткими волнами свинцовой ненависти масса недочеловеков, славянского сброда. Жуткая, пугающая его, Мюнше, масса. Его, сильного, здорового, вооруженного, никогда не выходящего в зону без сопровождения полувзвода охранников, готовых в любой момент пустить в дело безотказные автоматы и беспощадных стремительных овчарок. И ничего не может Отто Мюнше поделать с этим страхом. Ни днем ни ночью. Ни под парами шнапса, ни в объятиях податливой «фройляйн» Анны.
И сейчас, стоя на невысоком крыльце штаба, под защитой четырех тупорылых МГ, торчащих с близлежащих вышек в сторону зловещих бараков, унтерштурмфюрер Отто Мюнше не чувствовал себя в безопасности. Он непроизвольно то и дело напрягал живот, ощущая приятную тяжесть висящей на ремне черной кобуры. Но нет, ни шнапс, ни удовлетворение похоти с ненасытной фольксдойче Анной, ни эта приятная тяжесть слева на животе – всё это не то… Настоящее наслаждение Отто получал лишь тогда, когда нажимал на спусковой крючок, стараясь попасть жертве в лицо, в раскрытый рот. Как тогда, под Смоленском. Когда ему удалось опередить страшного русского, набегающего на его танк с жутким «коктейлем Молотова» в стеклянной бутылке…
Яркое солнце делало еще более ослепительным снежный покров. Две волны высоких, девственно-белых сугробов ограждали кюветы по обеим обочинам дороги, которая упиралась в ворота, крепко собранные из железнодорожных шпал толстыми коваными скобами.
Вдалеке, за черным ельником, послышались ровное гудение автомобильного мотора и треск мотоциклетных. Через пару минут из-за хвойной молоди вынырнул мотоцикл с нахохлившимися от мороза солдатами, потом показался широкий, закамуфлированный грязно-белыми разводами «майбах», за которым катил еще один мотоцикл сопровождения с тремя фигурами в куржаке.
Охрана у ворот подтянулась. Мюнше чуть сдвинул кобуру влево и, тяжело вздохнув, шагнул с крыльца навстречу распахивающимся воротам. Злобно за спиной залаяла собака, ей откликнулась другая, на них зацыкали вожатые. Мощный, тяжелый «майбах» вполз в ворота и остановился. Выскочивший водитель-ефрейтор в кургузом мышастом мундирчике, трещавшем на его крепко сбитой, борцовской фигуре, подобострастно распахнул широкую заднюю дверцу машины справа.
Первым из «майбаха» показался худощавый оберст в длиннополой дорогого темного сукна шинели с большим меховым воротником. Худое и морщинистое, до синевы выбритое лицо недобро блеснуло на Мюнше моноклем. Тут же распахнулась правая передняя дверца, и на свет показался, поводя плечами, поджарый, похожий на гончую и лицом и фигурой, гауптштурмфюрер Ренике. Начальник остбургского гестапо, как всегда, был туго затянут ремнем с портупеей в стоящее колом, блестящее кожаное пальто глубокого антрацитового цвета.
Водянистые и неподвижные, словно рыбьи, глаза Ренике разом охватили пустынную площадку перед административным бараком, скользнули по застывшим у крыльца штаба солдатам, по настороженным псам, предусмотрительно взятым охранниками на короткий поводок. И тут же взгляд Ренике уперся свинцом в изобразившего строевой шаг Мюнше.
Отто припечатал последний шаг в трех метрах от оберста:
– Хайль Гитлер! Господин полковник! Унтерштурмфюрер Мюнше. Исполняю обязанности коменданта лагеря Цэ-восемьсот пятнадцать…
– Отвратительно исполняете! – оборвал рапорт гауптштурмфюрер Ренике. – В лагере чепэ, а вы, Мюнше, корчите из себя строевика! Заплыли жиром от безделья! Восточный фронт по вам давно плачет…
«Какая сука! – подумал Мюнше. – Во время рапорта старшему по званию! А… Не такая уж это и фигура из абверовского штаба… Ренике, конечно, хам и наглец, но не до такой степени. Хоть и законченная сука!..»
– О Восточном фронте мы еще поговорим. – Голос у полковника оказался тихим и скрипучим. – А сейчас… как вас там…
– Унтерштурмфюрер СС Мюнше, герр оберст!
– Мы несколько озябли, Мюнше, и не имеем желания выслушивать на морозе ваш бодрый рапорт.
За спиной полковника и сочащегося злобой Ренике переминались с ноги на ногу еще два пассажира «майбаха», оба в штатском, среднего роста, похожие друг на друга своей бесцветной и незапоминающейся внешностью. Только одеждой и различались. На одном – серое короткое пальто с каракулевым воротником, каракулевая шапка-пирожок и белые бурки. Другой – в синем драповом полупальто с намотанным на шею пушистым серым шарфом, в высоких офицерских сапогах с голенищами-бутылками и в собачьего меха русской шапке с опущенными клапанами.
«Русские, – тут же безошибочно определил Мюнше, – помощнички сраные. Сволота изменничья…» Как и большинство сослуживцев, Мюнше с презрением и брезгливостью относился ко всем этим пособникам из славян. Фольксдойче – это нормально, терпеть можно: голос крови и единый дух нации. А эти… За кусок пожирнее кого угодно продадут. При Советах, Мюнше убежден, тоже, скорее всего, за порядок ратовали, не в антибольшевистское же подполье играли. Им бы наиграли!.. А когда увидели наяву мощь великой Германии – сразу прибежали с этой самой… солью и хлебом. За салом и маслом!
Оберст шагнул от машины мимо Мюнше к штабу, кивнув застывшим в нацистском приветствии Лемке и командиру охранной роты унтерштурмфюреру Больцу. За ним двинулись Ренике и штатские. Мюнше поплелся следом, ощущая, как в животе переливается выпитая полчаса назад кофейная бурда. «Ну и сволочь же этот Лемке! Интересно, чего он там напел… Впрочем, это скоро выяснится… Ну, ничего, дружище, припомним еще…» Мюнше постарался отогнать размышления о способах отомстить доносчику и сосредоточился на ожидании дальнейших начальственных поползновений.
Лемке, щелкая каблуками, суетливо распахнул перед полковником дверь в кабинет коменданта лагеря. В жарко натопленном помещении оберст неторопливо разоблачился из своей богатой шинели, которая, как оказалось, имела добротную меховую подстежку.
Отто отводит взгляд от плаца за окном, трет виски короткопалыми, заросшими рыжеватыми волосами руками. Развернувшись всем корпусом назад, под жалобный скрежет описавшего полукруг кресла, переводит взгляд на висящий над креслом портрет фюрера, грозно глядящего вдаль с недавно выбеленной стены.
Машинально, в очередной раз прикинув, сколько висит таких портретных репродукций в разных штабах и прочих кабинетах рейха, Отто разглядывает фюрера – самого главного арийца на всем белом свете. И в очередной раз с раздражением закапывает упрямо всплывающую из глубины мозгов подлую мыслишку: гениальнейший вождь имперских народов как-то совсем не соответствует, несмотря на старание безвестного художника, образу пропагандируемой ведомством доктора Геббельса «белокурой бестии».
Хотя и он, Мюнше, внешне от идеала арийца далек. Но и он, Отто, вновь видит себя то на мрачноватой, гранитно-мраморной трибуне нюрнбергского имперского стадиона, над колыхающимися колоннами с упоением марширующих наци, то на обитом натуральной кожей заднем сиденье роскошного «хорьха», с номерными знаками и штандартом рейхсканцелярии на лакированном переднем крыле… А чаще – в шикарно убранной спальне старинного замка, где над пышущим жаром камином тускло блестят скрещенные старинные мечи… И везде Отто представляется себе высоким блондином, а не рыжим коротышкой. Не сыном лавочника из берлинского предместья – лощеным аристократом с баронской приставкой «фон» к фамилии. Только в баронских грезах Отто почему-то не вальяжно цедит из пузатой рюмки драгоценный французский коньяк, а с глыканьем льет его себе в горло, как вот этот мутный местный шнапс, хотя и из большого хрустального фужера, который держит в правой руке, левой лениво лаская… нет, не пышные груди ослепительной вдовы-генеральши, еще не разменявшей полностью третий десяток лет, – покрытые гусиными пупырышками и отвислые, как уши спаниеля, бледные до синюшности, перси костлявой дочки соседского лавочника, вечного папашкиного конкурента Фурмеля…
Мюнше вздыхает, отгоняя наваждение. Сошла бы нынче и Лотта Фурмель. Но пока Отто сидит в злых и холодных русских лесах, Лотта, он уверен в этом, зря времени не теряет. В неимоверно далеком фатерлянде охотников и до костлявой дочки старого Фурмеля полно.
Унтерштурмфюрер вновь, елозя креслом, отворачивается к окну и с ненавистью сверлит глазами серый прямоугольник аппель-плаца. Пепел с еле тлеющей сигареты сыплется на китель, но Мюнше не замечает этого. Он ждет высокое начальство.
ГЛАВА 2. ЗАУКЕЛЬ
Медленно вернулось сознание, а с ним и разламывающая до тошноты всю черепную коробку боль. Человек шевельнулся на захрустевшем снегу. Или ему только показалось это? Рот наполнился солоноватой слизью. Человек через силу разжал стиснутые зубы, непослушным языком попытался вытолкнуть кровяные сгустки. Дышать стало легче. Открыть глаза получилось не сразу. В первое мгновение резанула ослепительная вспышка, помутившая и без того сумеречное сознание. Постепенно, через узенькие щелочки меж опухшими веками, в глазах прояснилось, их уже меньше резало от слепяще-яркого солнечного света. Стоял день. Солнечный. Необычный. Пугающе необычный. Тут же навалилась гулкая тревога, от которой заухало в груди. Но потом уханье сердца постепенно стало отступать и исчезло вовсе. Только голову разламывала боль, но вот и она притупилась до привычности. И лишь теперь человек смог осознать причину охватившей его гулкой тревоги. Вокруг стояла тишина. Большая и плотная тишина. В ней не было приближающегося лая широкогрудых стремительных овчарок с темно-коричневыми подпалинами на поджарых боках, в стандартных ошейниках. Овчарок, которые, казалось, уже настигали, и пена летела с черных бахромистых складок над ослепительно-белыми клыками…
Ослепительно-белым было всё окружающее пространство. Где-то очень далеко, у горизонта, его пересекала черная полоска, отделяющая белое от такого же ослепительного, бесконечного океана сини. Человек не сразу понял, что это поле, за которым далекий лес, что бездонная синева – небо. Но почему, вопреки всем земным законам, поле, далекий черный лес, небо расположились необычно – вертикально?
Новый приступ тошноты, наполнивший рот горечью, помог сообразить: непреодолимая, отдающая гулкими жаркими толчками боли в голову, сила прижала его тело, впечатала в белоснежную поверхность. Мир, конечно, по-прежнему горизонтален, а это он, беспомощный, неподвижный, – распластан, придавлен стопудовым грузом, вбит чудовищной тяжестью в бескрайний снежный простор. Но ничего страшного в этом нет. В услышанной, заполнившей весь мир тишине царит покой, убаюкивающий, обволакивающий неспешной дремой.
Взгляд с трудом сфокусировался на чем-то выбивающемся из этой общей картины бескрайнего покоя, более ближнем. Теперь пространство сузилось до размытой по краям багровым щели. Человек окончательно понял, что лежит на снежном насте, а на багровой полоске ставшего близким горизонта сидит какая-то пичуга… Снегирь! Блестит выпуклым глазом, яркая грудка еще ярче от ослепительной сахарности снежной поверхности.
Человек снова шевельнулся. И теперь уже окончательно убедился, что его движения происходят только мысленно: снегирь никак не среагировал. Черная гора, взрывшая снег у ольхи, снегирю была неопасна. Птица, конечно, поняла, что эта черная гора – тоже живое существо. Пока еще живое. Но опасности уже не представляющее. Черная гора сама нуждается в защите и помощи.
Снегирь деловито переступил с ноги на ногу и демонстративно клюнул уже порядком разлохмаченную им на снежной корке ольховую шишечку. Черная гора – человек его больше не интересовал.
А человек пытался удержать глаза на птице. Этого не получалось. Сознание куда-то ускользало, совершенно не слушая мысленного приказа не уходить, держаться, не опускаться на зыбкое, черное дно беспамятства. И опять стало непонятно, как это так спокойно яркая пичуга разгуливает по вертикальной поверхности, бодро клюет что-то, а это что-то от ударов клюва не скатывается вниз, туда, куда стремительно, одновременно раскручиваясь, словно на карусели, падает мгновенно ставшее невесомым тело, куда проваливается все, – в черноту…
***
На пороге, как обычно, без стука вырос Лемке, с порога пролаял «хайль», вскинув руку в традиционном приветствии. Так и замер, сволочь, выжидая.
Мюнше нехотя отвернулся от окна, вылез из нагретого долгим сидением кресла и, потягиваясь, вяло ответил на приветствие, едва согнув правую руку в локте. Лениво, с привычной ненавистью подумал: «Лишнюю строку, рыло косое, в донос добавишь!». Уперся в красные, как у кролика, круглые глазенки шарфюрера. Тот, сразу же переведя взгляд поверх головы начальника на портрет имперского вождя, отчеканил:
– Герр унтерштурмфюрер, дежурному только что прошел звонок из отделения гестапо в Остбурге: к нам выехали гости.
Мюнше зевнул и, отогнув обшлаг кителя, глянул на наручные часы: 9.41. Значит, компания будет через час – час десять на месте. Что ж, время еще есть.
– А не выпить ли нам, дружище, кофе? – Мюнше изобразил на лице подобие улыбки, на которую Лемке откликнулся довольной ухмылкой заклятого приятеля.
– Только что хотел предложить это вам, герр комендант!
– Шутник! – Мюнше, криво усмехаясь, погрозил подчиненному пальцем. «Тварь гестаповская! Ждет не дождется, когда эти чертовы «гости» начнут размазывать меня по стенам цорновского кабинета! Дерьмо! Всё дерьмо!..»
– А что, дружище, об упущенной четвертой русской свинье никаких новых известий?
Осклабившийся было шарфюрер – как подавился. Круглая физиономия побагровела, от чего кроличьи красные глазки совершенно на ней потерялись. «А что, неплохо! – подумалось Мюнше. – За побег ответит командир роты охраны, а за некачественные поиски в лесу – вот этот вонючий лис!» Унтерштурмфюреру стало смешно, он еле удержал лицо от соответствующей гримасы – чего эту тварину еще больше злить…
– Никак нет, герр унтер…
– Ладно, ладно, дружище. Будем готовиться к приему начальственных пинков и подзатыльников, – с покровительственной бодростью произнес Мюнше. – А пока выпьем кофе… Как обычно, в канцелярии?
– Так точно! Фройляйн Анна…
«Фройляйн!.. Аристократ лагерный! Сейчас будет хлебать из кружки эрзац-бурду и раздевать глазами эту самую «фройляйн» Анну – вульгарную, вечно размалеванную без всякой меры девицу, невесть какими ветрами занесенную в лагерную администрацию… Впрочем, ветра известные – подарочек гауптштурмфюрера Ренике, шефа местного гестапо. Откопала же, гнида гестаповская, для себя фольксдойче в Остбурге! Фольксдойче… Унтерменше! А как надоела подстилка – сбагрил сюда, в лагерь. Стучат с Лемке наперегонки, твари!»
Мюнше снова стало смешно от своего «праведного» гнева. Когда эта самая Анна появилась, потупив взор, в его кабинете, с направлением из бургомистрата и рекомендациями местного отделения гестапо, а проверочные материалы на нее из инспекции лагерей и от уполномоченного службы безопасности – СД, пришли еще раньше, – Отто и сам, без больших усилий, вскоре затащил ее в постель. Новая работница канцелярии оказалась весьма покладистой и безотказной. Ее любвеобильности хватало и Мюнше, и Лемке, а вот комендант, толстячок Цорн, как-то ее игнорировал. «Странно, – вдруг подумалось, Отто, – а почему действительно наш толстячок самоустранился?..»
Наморщив лоб, Мюнше бросил взгляд в спину исчезающему за дверями Лемке, снова потянулся и двинул затекшее тело к громоздкому шкафу, набитому до отказа кипами бумажных папок с тряпичными тесемками. Выудил из-под лежащей сверху на шкафу каски платяную щетку, несколько раз пошоркал ею по обсыпанному пеплом черному мундиру.
…Кофе конечно же оказался набившей оскомину бурдой, крепко отдающей желудями. Отто с тоской вспомнил ароматный довоенный напиток, иногда появлявшийся в отцовской лавчонке. Хо, как это было давно! Потом застучали барабаны, потом фюрер бросил устами своего колченогого министра пропаганды клич-лозунг: «Пушки вместо масла!», а с маслом пропали и кофе, и многие другие вкусные вещички. Последний раз любимым душистым напитком Отто по-настоящему наслаждался в Париже… С тоской вспомнился настоящий бразильский «мокко», которого в поверженной столице у чернявых галльских обезьян оказалось столько, словно на Елисейских полях и в подстриженном с чисто французской легкомысленностью Булонском лесу шелестели листвой не каштаны и раскидистые платаны, а кофейные деревья. Париж… В какой жизни это было? И было ли вообще? На остбургской толкучке Мюнше месяца полтора назад реквизировал пакет с кофейными зернами у перепуганной старушенции, но от сокровища ощутимо наносило прелью…
За окном канцелярии серел тот же самый плац, отделенный широкой нейтральной полосой и высоким проволочным забором с фаянсовыми шишечками электроизоляторов. А вот тарахтение дизель-генератора, обеспечивающего освещение и высокое напряжение в проволочном заборе, здесь слышалось куда более отчетливо. Жрет, прорва железная, дефицитное дизтопливо! И ведь, по сути, напрасно. Стоило на четверть часа генератору задохнуться… Как же об этом пронюхали доходяги в бараке? Спросить не у кого. Пришлось в заключении проведенного расследования свести все к досадному совпадению. Дебильно и неуклюже, но иначе вывод напрашивается крайне неутешительный, если не сказать более определенно. Благо всех прежде причастных к обслуживанию дизель-генератора русских свиней уже жрут черви! Хотя… Никто их не жрет! Валяются заледенелыми колодами в траншее за хоздвором лагеря… Вот, кстати! Вернется из госпиталя Цорн, надо срочно решать вопрос с оборудованием реторты крематория. Чтобы с наступлением тепла не расползалась зараза. Тепло… А оно, черт побери, будет в этой дикой, варварской стране? Наступит ли когда…
Мюнше снова пробрало ознобом, который отступил было после чашки эрзац-кофе. Унтерштурмфюрер вновь с тоской глянул за окно. Дьявол бы побрал эти русские морозы, эти почерневшие от долгих осенних дождей приземистые, словно ежедневно погружающиеся в земную твердь щелястые бараки, эти раскоряченно упершиеся в периметр лагеря караульные вышки из соснового теса, нависшие над рядами местами уже прихваченной ржавчиной колючей проволоки! Но главное – эта страшная, серая, безликая, колыхающаяся жуткими волнами свинцовой ненависти масса недочеловеков, славянского сброда. Жуткая, пугающая его, Мюнше, масса. Его, сильного, здорового, вооруженного, никогда не выходящего в зону без сопровождения полувзвода охранников, готовых в любой момент пустить в дело безотказные автоматы и беспощадных стремительных овчарок. И ничего не может Отто Мюнше поделать с этим страхом. Ни днем ни ночью. Ни под парами шнапса, ни в объятиях податливой «фройляйн» Анны.
И сейчас, стоя на невысоком крыльце штаба, под защитой четырех тупорылых МГ, торчащих с близлежащих вышек в сторону зловещих бараков, унтерштурмфюрер Отто Мюнше не чувствовал себя в безопасности. Он непроизвольно то и дело напрягал живот, ощущая приятную тяжесть висящей на ремне черной кобуры. Но нет, ни шнапс, ни удовлетворение похоти с ненасытной фольксдойче Анной, ни эта приятная тяжесть слева на животе – всё это не то… Настоящее наслаждение Отто получал лишь тогда, когда нажимал на спусковой крючок, стараясь попасть жертве в лицо, в раскрытый рот. Как тогда, под Смоленском. Когда ему удалось опередить страшного русского, набегающего на его танк с жутким «коктейлем Молотова» в стеклянной бутылке…
Яркое солнце делало еще более ослепительным снежный покров. Две волны высоких, девственно-белых сугробов ограждали кюветы по обеим обочинам дороги, которая упиралась в ворота, крепко собранные из железнодорожных шпал толстыми коваными скобами.
Вдалеке, за черным ельником, послышались ровное гудение автомобильного мотора и треск мотоциклетных. Через пару минут из-за хвойной молоди вынырнул мотоцикл с нахохлившимися от мороза солдатами, потом показался широкий, закамуфлированный грязно-белыми разводами «майбах», за которым катил еще один мотоцикл сопровождения с тремя фигурами в куржаке.
Охрана у ворот подтянулась. Мюнше чуть сдвинул кобуру влево и, тяжело вздохнув, шагнул с крыльца навстречу распахивающимся воротам. Злобно за спиной залаяла собака, ей откликнулась другая, на них зацыкали вожатые. Мощный, тяжелый «майбах» вполз в ворота и остановился. Выскочивший водитель-ефрейтор в кургузом мышастом мундирчике, трещавшем на его крепко сбитой, борцовской фигуре, подобострастно распахнул широкую заднюю дверцу машины справа.
Первым из «майбаха» показался худощавый оберст в длиннополой дорогого темного сукна шинели с большим меховым воротником. Худое и морщинистое, до синевы выбритое лицо недобро блеснуло на Мюнше моноклем. Тут же распахнулась правая передняя дверца, и на свет показался, поводя плечами, поджарый, похожий на гончую и лицом и фигурой, гауптштурмфюрер Ренике. Начальник остбургского гестапо, как всегда, был туго затянут ремнем с портупеей в стоящее колом, блестящее кожаное пальто глубокого антрацитового цвета.
Водянистые и неподвижные, словно рыбьи, глаза Ренике разом охватили пустынную площадку перед административным бараком, скользнули по застывшим у крыльца штаба солдатам, по настороженным псам, предусмотрительно взятым охранниками на короткий поводок. И тут же взгляд Ренике уперся свинцом в изобразившего строевой шаг Мюнше.
Отто припечатал последний шаг в трех метрах от оберста:
– Хайль Гитлер! Господин полковник! Унтерштурмфюрер Мюнше. Исполняю обязанности коменданта лагеря Цэ-восемьсот пятнадцать…
– Отвратительно исполняете! – оборвал рапорт гауптштурмфюрер Ренике. – В лагере чепэ, а вы, Мюнше, корчите из себя строевика! Заплыли жиром от безделья! Восточный фронт по вам давно плачет…
«Какая сука! – подумал Мюнше. – Во время рапорта старшему по званию! А… Не такая уж это и фигура из абверовского штаба… Ренике, конечно, хам и наглец, но не до такой степени. Хоть и законченная сука!..»
– О Восточном фронте мы еще поговорим. – Голос у полковника оказался тихим и скрипучим. – А сейчас… как вас там…
– Унтерштурмфюрер СС Мюнше, герр оберст!
– Мы несколько озябли, Мюнше, и не имеем желания выслушивать на морозе ваш бодрый рапорт.
За спиной полковника и сочащегося злобой Ренике переминались с ноги на ногу еще два пассажира «майбаха», оба в штатском, среднего роста, похожие друг на друга своей бесцветной и незапоминающейся внешностью. Только одеждой и различались. На одном – серое короткое пальто с каракулевым воротником, каракулевая шапка-пирожок и белые бурки. Другой – в синем драповом полупальто с намотанным на шею пушистым серым шарфом, в высоких офицерских сапогах с голенищами-бутылками и в собачьего меха русской шапке с опущенными клапанами.
«Русские, – тут же безошибочно определил Мюнше, – помощнички сраные. Сволота изменничья…» Как и большинство сослуживцев, Мюнше с презрением и брезгливостью относился ко всем этим пособникам из славян. Фольксдойче – это нормально, терпеть можно: голос крови и единый дух нации. А эти… За кусок пожирнее кого угодно продадут. При Советах, Мюнше убежден, тоже, скорее всего, за порядок ратовали, не в антибольшевистское же подполье играли. Им бы наиграли!.. А когда увидели наяву мощь великой Германии – сразу прибежали с этой самой… солью и хлебом. За салом и маслом!
Оберст шагнул от машины мимо Мюнше к штабу, кивнув застывшим в нацистском приветствии Лемке и командиру охранной роты унтерштурмфюреру Больцу. За ним двинулись Ренике и штатские. Мюнше поплелся следом, ощущая, как в животе переливается выпитая полчаса назад кофейная бурда. «Ну и сволочь же этот Лемке! Интересно, чего он там напел… Впрочем, это скоро выяснится… Ну, ничего, дружище, припомним еще…» Мюнше постарался отогнать размышления о способах отомстить доносчику и сосредоточился на ожидании дальнейших начальственных поползновений.
Лемке, щелкая каблуками, суетливо распахнул перед полковником дверь в кабинет коменданта лагеря. В жарко натопленном помещении оберст неторопливо разоблачился из своей богатой шинели, которая, как оказалось, имела добротную меховую подстежку.