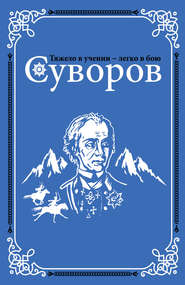По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана…
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2001
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана…
Олег Николаевич Михайлов
Биография (ФТМ)
Книга известного литературоведа Олега Михайлова посвящена жизни и творчеству Ивана Алексеевича Бунина – крупнейшего русского прозаика и поэта, первого русского писателя, получившего Нобелевскую премию. Автор, используя богатый архивный материал, письма и воспоминания современников, рассказывает о становлении таланта классика русской литературы, о годах эмиграции, а также раскрывает малоизвестные факты из его личной жизни.
Олег Михайлов
Жизнь Бунина
Лишь слову жизнь дана…
Посвящаю Людмиле Георгиевне Голубевой
Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
Ив. Бунин. Слово
Париж, 1986
Октябрь, но в Париже июльская теплынь. И толпы народа на проспектах и бульварах одеты легко и пестро, по-летнему. Проносятся автомобили с опущенными стеклами, распахнуты двери магазинов; прямо на улице на лотках – овощи, фрукты, рыба. Но все это: шум, оживленная толпа, магазины, автомобили, хоть и неподалеку, за углом, здесь не ощущается.
Я стою в начале коротенькой улочки, которую благодарные французы навали именем Жака Оффенбаха. Его оперетки веселы и легкомысленны в чисто французском стиле, хотя и в России их обожали: «Прекрасная Елена» в свое время до головокружения взволновала юного Тему – Гарина-Михайловского, а Немирович прославил ту же «Елену», поставив ее в московском музыкально-драматическом театре со «вторым планом» и «сверхзадачей». И все же оперетта – вещь развлекательная, для отдыха, даже для недуманья. Не «Илиада» ведь, не «Война и мир», не «Жизнь Арсеньева». Автор «Жизни Арсеньева» и провел тут долгие годы, тут и скончался. Беспокойный скиталец, собственного угла не имевший, он и здесь жил внаем.
Дом угловой, шестиэтажный, вполне респектабельный – «буржуазный». Сейчас из-за тепла и солнца многие остекленные двери за затейливыми решетками (балконов нет) растворены, кое-где опущены жалюзи. Правая, «бунинская», половина дома, вычищенная только что пескоструйным аппаратом, приобрела нарядный вид – светло-желтые и палевые тона. Очевидно, таким он был в конце прошлого века. А вот левая, серая, мрачноватая, выглядит, видимо, именно так, как во времена Бунина, не столь уж отдаленные. И подъезд такой же, и чистенькая прихожая с окошечком консьержки справа. Заменена дверца лифта – на современную, герметическую, но внутри и решетка, которую по-старомодному задергиваешь перед нажатием кнопки, и темно-вишневая деревянная обшивка кабины – те же, «бунинские».
Скорее всего, и бледно-красный коврик дорожки, бегущей по крутым ступенькам винтовой лестницы, – тоже той поры, истертый, но чистенький. Ступеньки очень высокие. Подумал о том, что старому человеку, если встанет лифт, подниматься тяжело. И еще вот о чем. Одно время напротив квартиры Буниных поселились Куприны, приглашенные Иваном Алексеевичем в Париж. И лестница эта, надо полагать, в иные времена становилась для Александра Ивановича сущим бедствием, если он бывал, что случалось нередко, во хмелю…
Из лифта дверь налево на четвертом этаже. За дверью гремит что-то джазовое.
Да в дверь и не позвонишь: хозяева, французы, вряд ли поймут, почему у иностранца, стоящего перед этой дверью, так сильно стучит сердце.
Я сажусь на ступеньку и гляжу вниз. Мой спутник, знаток русского искусства, коллекционер, славист, профессор Ренэ Герра (он и женат на русской, дочери белого полковника) следует моему примеру. Молчим.
Между тем консьержка-португалка приметила, что проникли мы в дом лишь тогда, когда подбежавший пухлый лицеист набрал неизвестный нам код. Она снизу слушает: дверь не хлопнула. Это ее пугает. Сейчас в Париже все помешаны на террористах: город патрулирует жандармерия с автоматическими винтовками, потоки машин прерываются полицейскими сиренами. Кого-то лихорадочно ищут, и вот консьержка тоже включается в общую игру.
Мы с Герра медленно спускаемся по лестнице, еще стоим в маленьком холле. Затем он принимается фотографировать дом, окна Буниных, меня перед подъездом. Это уже кажется консьержке верхом подозрительности. На плохом французском языке она начинает браниться и грозить полицией. Профессор славистики успокаивает ее – по-народному, теми крепкими словечками, какие любил и в русском, и во французском языке Бунин. Народные аргументы оказываются убедительными, и консьержка удаляется.
Я снова смотрю на дом. А где же памятная доска? Где написано, что здесь – более тридцати лет – жил, работал и скончался великий русский писатель? Только что Герра показывал мне здание, в котором жил Мережковский, – там мемориал есть. И у Николая Николаевича Евреинова, театрального деятеля и драматурга, тоже. А вот Бунин – не сподобился.
Герра мне объясняет, что Мережковского много переводили в Европе, что у Евреинова была очень «пробивная» вдова, но недоумение остается.
Нехорошо мы чтим наших великих земляков, их память…
А на другой день (такой же яркий и солнечный) мы с Герра на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Удивительное кладбище! И не только оттого, что солнце затопляет все светом, что куски его словно шевелятся над каждой могилой, оно не навевает полагающейся грусти, мысли о тленности всего земного, о собственном неизбежном уходе туда. Кажется, строгий, поддерживаемый в величайшем порядке некрополь этот излучает тепло душ тех, кто лежит под надгробиями и крестами.
Сколько имен славных, знакомых!
Мережковский, Гиппиус, Тэффи, Константин Коровин, Константин Сомов, «светлейшая Княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская». «Заслуженная артистка императорских театров Матильда Кшесинская, 1 сентября 1872 года – 6 декабря 1971 года». Мстислав Добужинский, Зинаида Серебрякова, Иван Мозжухин, героиня Сопротивления Виктория Оболенская, приемный сын Горького генерал Зиновий Пешков.
А вот и мои друзья по многолетней переписке – Борис Константинович Зайцев рядом со своей верной спутницей Верой Алексеевной, племянница и душеприказчица Шмелева Юлия Александровна Кутырина и ее муж, религиозный поэт Иван Иванович Новгород-Северский. Капитана Русского общевоинского союза Александра Алексеевича Сионского, с которым мы – заочно – были особенно близки, здесь нет; его прах на одном из православных кладбищ под Парижем. В Ницце упокоился поэт и критик Георгий Викторович Адамович. И лишь за океаном еще жив, еще посылает мне весточки поэт Странник – архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Дмитрий Алексеевич Шаховской).
Сколько раз звали они меня к себе в русский Париж повидаться с ними. «Приезжайте к нам, – торопил восьмидесятипятилетний Зайцев. – Много есть, о чем говорить. Я еще пока жив, но торопитесь, помру, некому будет рассказать о доисторическом времени». Но я был «невыездной». И приехал в Париж, когда никого из них в живых уже не осталось.
Стоим у могилы Буниных. Вспоминаю Веру Николаевну и ее первое ответное письмо: «Очень хорошо вы сделали, что обратились ко мне…»
Мы тихо говорим с Герра. Целый пласт нации, смытый «рекой времен»!
А когда опустились сумерки и потух золоченый купол маленькой одноглавой Свято-Успенской церкви (построенной по планам Альберта Бенуа – из славной художественной династии русской), на могилках десятками разноцветных огоньков затеплились электрические лампочки.
Я подобрал рядом с могилой Буниных и привез в Москву комочек земли – желтой, глинистой, горькой земли чужбины.
…Парижская квартира служила Бунину более тридцати лет. Но был у него во Франции и другой, тоже наемный дом…
Иван-царевич русской литературы
Дом в два этажа, типично провансальский, медленно ветшающий, с трещинами в желтых шероховатых стенах. Внизу – столовая и рабочий кабинет, вверху – спальня, комнаты для гостей, все скромное, бедно обставленное.
За столом худой пожилой человек: остроугольная, когда-то русо-каштановая, а теперь седая голова, бритое породистое лицо, выцветшие синие глаза. Он берет одну из ручек (на столе их много, у него страсть к ватермановским ручкам и золотым перьям), на лист ложатся горькие строки:
«И идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем – и не оставляет тайная боль неуклонной потери их – неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и – чего-то еще… И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной».
Он встает, легкий, юношески стройный, подходит к окну. В тысячный раз глядит на черепичные крыши лежащего внизу Грасса, на зеленую одежду гор Эстереля и на голубую стену встающего на горизонте такого прекрасного и такого чужого Средиземного моря. Печаль по ушедшей весне жизни, печаль по оставленной навсегда России, по родному дому томит его.
«И вот дни и годы уже туманятся и сливаются в памяти, – многие дни и годы моих дальнейших скитаний, постепенно ставших для меня обычным существованием, определившимся неопределенностью его, узаконенной бездомностью, длящейся даже и доныне, когда надлежало бы мне иметь хоть какое-нибудь свое собственное и постоянное пристанище, на смену чужих стен, – теперь уже почти два десятилетия, французских, – мертвым языком говорящих о чьих-то неизвестных, инобытных жизнях, прожитых в них».
Он и в мыслях не допускает вернуться на родину, пока там правят большевики. О том, что происходит в России, он узнает только по французским и эмигрантским газетам…
Правда, были еще и случайные встречи. Как-то к нему на дачу заглянул знакомый с неким господином и дамой. Оказалось, что это голландский концессионер с женой, приехавшие прямо из Ленинграда. С заметным акцептом голландец воодушевленно рассказывал:
– О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим города на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный, и как все приготовлено! Как доски распилены!..
Говорили о писателях. Бунин стал расспрашивать об Алексее Толстом и услышал, что тот отлично устроился, что у него своя дача, прекрасная обстановка и что Толстой жалеет здешних…
– А мы их жалеем, – сказал Бунин.
Но был потрясен; разволновались и все близкие. «У нас в Ленинграде», – они это услышали в первый раз.
А вскоре после того, в людном парижском кафе, за скромным обедом (деньги от Нобелевской премии 1933 года уже на исходе), он получил через гарсона записку: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой»…
И тотчас же в душе поднялись и давняя любовь, и нежность, и ревность, и неприязнь. Он видел в Алексее Толстом натуру столь же одаренную, сколь и легкомысленную, был убежден, что возвращение его на родину было продиктовано стремлением «хорошо жить», но как-то, прочтя «Петра Первого», пришел в совершенный восторг. Не долго думая сел за стол и послал на имя Толстого, в редакцию «Известий», открытку: «Алешка! Хоть ты и сволочь, мать твою (…), но талантливый писатель. Продолжай в том же духе». К таланту Толстого, к его «Петру» мысленно обращался не раз, говорил об этом со своей «музой» Галиной Кузнецовой, хотя и осуждал роман за «лубочность». Самого Петра видел мало, зато как описано окружение! Прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Моне. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, – говорил он Кузнецовой о Толстом. – Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на время писания был против белых генералов. У него такая натура…»
Все это вспомнилось мгновенно, Бунин встал и направился в ту сторону, которую указал ему гарсон. Толстой тоже уже шел ему навстречу. И зорким своим, беспощадным к себе и другим, писательским взглядом Бунин сразу успел подметить: не тот Алехан, Алешка, что пятнадцать лет назад. Вся крупная фигура Толстого похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне. Как только они сошлись, Толстой тотчас закрякал своим столь знакомым смешком.
Олег Николаевич Михайлов
Биография (ФТМ)
Книга известного литературоведа Олега Михайлова посвящена жизни и творчеству Ивана Алексеевича Бунина – крупнейшего русского прозаика и поэта, первого русского писателя, получившего Нобелевскую премию. Автор, используя богатый архивный материал, письма и воспоминания современников, рассказывает о становлении таланта классика русской литературы, о годах эмиграции, а также раскрывает малоизвестные факты из его личной жизни.
Олег Михайлов
Жизнь Бунина
Лишь слову жизнь дана…
Посвящаю Людмиле Георгиевне Голубевой
Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
Ив. Бунин. Слово
Париж, 1986
Октябрь, но в Париже июльская теплынь. И толпы народа на проспектах и бульварах одеты легко и пестро, по-летнему. Проносятся автомобили с опущенными стеклами, распахнуты двери магазинов; прямо на улице на лотках – овощи, фрукты, рыба. Но все это: шум, оживленная толпа, магазины, автомобили, хоть и неподалеку, за углом, здесь не ощущается.
Я стою в начале коротенькой улочки, которую благодарные французы навали именем Жака Оффенбаха. Его оперетки веселы и легкомысленны в чисто французском стиле, хотя и в России их обожали: «Прекрасная Елена» в свое время до головокружения взволновала юного Тему – Гарина-Михайловского, а Немирович прославил ту же «Елену», поставив ее в московском музыкально-драматическом театре со «вторым планом» и «сверхзадачей». И все же оперетта – вещь развлекательная, для отдыха, даже для недуманья. Не «Илиада» ведь, не «Война и мир», не «Жизнь Арсеньева». Автор «Жизни Арсеньева» и провел тут долгие годы, тут и скончался. Беспокойный скиталец, собственного угла не имевший, он и здесь жил внаем.
Дом угловой, шестиэтажный, вполне респектабельный – «буржуазный». Сейчас из-за тепла и солнца многие остекленные двери за затейливыми решетками (балконов нет) растворены, кое-где опущены жалюзи. Правая, «бунинская», половина дома, вычищенная только что пескоструйным аппаратом, приобрела нарядный вид – светло-желтые и палевые тона. Очевидно, таким он был в конце прошлого века. А вот левая, серая, мрачноватая, выглядит, видимо, именно так, как во времена Бунина, не столь уж отдаленные. И подъезд такой же, и чистенькая прихожая с окошечком консьержки справа. Заменена дверца лифта – на современную, герметическую, но внутри и решетка, которую по-старомодному задергиваешь перед нажатием кнопки, и темно-вишневая деревянная обшивка кабины – те же, «бунинские».
Скорее всего, и бледно-красный коврик дорожки, бегущей по крутым ступенькам винтовой лестницы, – тоже той поры, истертый, но чистенький. Ступеньки очень высокие. Подумал о том, что старому человеку, если встанет лифт, подниматься тяжело. И еще вот о чем. Одно время напротив квартиры Буниных поселились Куприны, приглашенные Иваном Алексеевичем в Париж. И лестница эта, надо полагать, в иные времена становилась для Александра Ивановича сущим бедствием, если он бывал, что случалось нередко, во хмелю…
Из лифта дверь налево на четвертом этаже. За дверью гремит что-то джазовое.
Да в дверь и не позвонишь: хозяева, французы, вряд ли поймут, почему у иностранца, стоящего перед этой дверью, так сильно стучит сердце.
Я сажусь на ступеньку и гляжу вниз. Мой спутник, знаток русского искусства, коллекционер, славист, профессор Ренэ Герра (он и женат на русской, дочери белого полковника) следует моему примеру. Молчим.
Между тем консьержка-португалка приметила, что проникли мы в дом лишь тогда, когда подбежавший пухлый лицеист набрал неизвестный нам код. Она снизу слушает: дверь не хлопнула. Это ее пугает. Сейчас в Париже все помешаны на террористах: город патрулирует жандармерия с автоматическими винтовками, потоки машин прерываются полицейскими сиренами. Кого-то лихорадочно ищут, и вот консьержка тоже включается в общую игру.
Мы с Герра медленно спускаемся по лестнице, еще стоим в маленьком холле. Затем он принимается фотографировать дом, окна Буниных, меня перед подъездом. Это уже кажется консьержке верхом подозрительности. На плохом французском языке она начинает браниться и грозить полицией. Профессор славистики успокаивает ее – по-народному, теми крепкими словечками, какие любил и в русском, и во французском языке Бунин. Народные аргументы оказываются убедительными, и консьержка удаляется.
Я снова смотрю на дом. А где же памятная доска? Где написано, что здесь – более тридцати лет – жил, работал и скончался великий русский писатель? Только что Герра показывал мне здание, в котором жил Мережковский, – там мемориал есть. И у Николая Николаевича Евреинова, театрального деятеля и драматурга, тоже. А вот Бунин – не сподобился.
Герра мне объясняет, что Мережковского много переводили в Европе, что у Евреинова была очень «пробивная» вдова, но недоумение остается.
Нехорошо мы чтим наших великих земляков, их память…
А на другой день (такой же яркий и солнечный) мы с Герра на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Удивительное кладбище! И не только оттого, что солнце затопляет все светом, что куски его словно шевелятся над каждой могилой, оно не навевает полагающейся грусти, мысли о тленности всего земного, о собственном неизбежном уходе туда. Кажется, строгий, поддерживаемый в величайшем порядке некрополь этот излучает тепло душ тех, кто лежит под надгробиями и крестами.
Сколько имен славных, знакомых!
Мережковский, Гиппиус, Тэффи, Константин Коровин, Константин Сомов, «светлейшая Княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская». «Заслуженная артистка императорских театров Матильда Кшесинская, 1 сентября 1872 года – 6 декабря 1971 года». Мстислав Добужинский, Зинаида Серебрякова, Иван Мозжухин, героиня Сопротивления Виктория Оболенская, приемный сын Горького генерал Зиновий Пешков.
А вот и мои друзья по многолетней переписке – Борис Константинович Зайцев рядом со своей верной спутницей Верой Алексеевной, племянница и душеприказчица Шмелева Юлия Александровна Кутырина и ее муж, религиозный поэт Иван Иванович Новгород-Северский. Капитана Русского общевоинского союза Александра Алексеевича Сионского, с которым мы – заочно – были особенно близки, здесь нет; его прах на одном из православных кладбищ под Парижем. В Ницце упокоился поэт и критик Георгий Викторович Адамович. И лишь за океаном еще жив, еще посылает мне весточки поэт Странник – архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Дмитрий Алексеевич Шаховской).
Сколько раз звали они меня к себе в русский Париж повидаться с ними. «Приезжайте к нам, – торопил восьмидесятипятилетний Зайцев. – Много есть, о чем говорить. Я еще пока жив, но торопитесь, помру, некому будет рассказать о доисторическом времени». Но я был «невыездной». И приехал в Париж, когда никого из них в живых уже не осталось.
Стоим у могилы Буниных. Вспоминаю Веру Николаевну и ее первое ответное письмо: «Очень хорошо вы сделали, что обратились ко мне…»
Мы тихо говорим с Герра. Целый пласт нации, смытый «рекой времен»!
А когда опустились сумерки и потух золоченый купол маленькой одноглавой Свято-Успенской церкви (построенной по планам Альберта Бенуа – из славной художественной династии русской), на могилках десятками разноцветных огоньков затеплились электрические лампочки.
Я подобрал рядом с могилой Буниных и привез в Москву комочек земли – желтой, глинистой, горькой земли чужбины.
…Парижская квартира служила Бунину более тридцати лет. Но был у него во Франции и другой, тоже наемный дом…
Иван-царевич русской литературы
Дом в два этажа, типично провансальский, медленно ветшающий, с трещинами в желтых шероховатых стенах. Внизу – столовая и рабочий кабинет, вверху – спальня, комнаты для гостей, все скромное, бедно обставленное.
За столом худой пожилой человек: остроугольная, когда-то русо-каштановая, а теперь седая голова, бритое породистое лицо, выцветшие синие глаза. Он берет одну из ручек (на столе их много, у него страсть к ватермановским ручкам и золотым перьям), на лист ложатся горькие строки:
«И идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем – и не оставляет тайная боль неуклонной потери их – неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и – чего-то еще… И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной».
Он встает, легкий, юношески стройный, подходит к окну. В тысячный раз глядит на черепичные крыши лежащего внизу Грасса, на зеленую одежду гор Эстереля и на голубую стену встающего на горизонте такого прекрасного и такого чужого Средиземного моря. Печаль по ушедшей весне жизни, печаль по оставленной навсегда России, по родному дому томит его.
«И вот дни и годы уже туманятся и сливаются в памяти, – многие дни и годы моих дальнейших скитаний, постепенно ставших для меня обычным существованием, определившимся неопределенностью его, узаконенной бездомностью, длящейся даже и доныне, когда надлежало бы мне иметь хоть какое-нибудь свое собственное и постоянное пристанище, на смену чужих стен, – теперь уже почти два десятилетия, французских, – мертвым языком говорящих о чьих-то неизвестных, инобытных жизнях, прожитых в них».
Он и в мыслях не допускает вернуться на родину, пока там правят большевики. О том, что происходит в России, он узнает только по французским и эмигрантским газетам…
Правда, были еще и случайные встречи. Как-то к нему на дачу заглянул знакомый с неким господином и дамой. Оказалось, что это голландский концессионер с женой, приехавшие прямо из Ленинграда. С заметным акцептом голландец воодушевленно рассказывал:
– О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим города на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный, и как все приготовлено! Как доски распилены!..
Говорили о писателях. Бунин стал расспрашивать об Алексее Толстом и услышал, что тот отлично устроился, что у него своя дача, прекрасная обстановка и что Толстой жалеет здешних…
– А мы их жалеем, – сказал Бунин.
Но был потрясен; разволновались и все близкие. «У нас в Ленинграде», – они это услышали в первый раз.
А вскоре после того, в людном парижском кафе, за скромным обедом (деньги от Нобелевской премии 1933 года уже на исходе), он получил через гарсона записку: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой»…
И тотчас же в душе поднялись и давняя любовь, и нежность, и ревность, и неприязнь. Он видел в Алексее Толстом натуру столь же одаренную, сколь и легкомысленную, был убежден, что возвращение его на родину было продиктовано стремлением «хорошо жить», но как-то, прочтя «Петра Первого», пришел в совершенный восторг. Не долго думая сел за стол и послал на имя Толстого, в редакцию «Известий», открытку: «Алешка! Хоть ты и сволочь, мать твою (…), но талантливый писатель. Продолжай в том же духе». К таланту Толстого, к его «Петру» мысленно обращался не раз, говорил об этом со своей «музой» Галиной Кузнецовой, хотя и осуждал роман за «лубочность». Самого Петра видел мало, зато как описано окружение! Прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Моне. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, – говорил он Кузнецовой о Толстом. – Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на время писания был против белых генералов. У него такая натура…»
Все это вспомнилось мгновенно, Бунин встал и направился в ту сторону, которую указал ему гарсон. Толстой тоже уже шел ему навстречу. И зорким своим, беспощадным к себе и другим, писательским взглядом Бунин сразу успел подметить: не тот Алехан, Алешка, что пятнадцать лет назад. Вся крупная фигура Толстого похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне. Как только они сошлись, Толстой тотчас закрякал своим столь знакомым смешком.