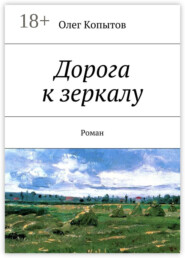По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Долгая дорога. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долгая дорога. Сборник рассказов
Олег Копытов
Солдат Первой мировой, прошагавший от Урала до Парижа и Марселя… и обратно, на Урал. Солдат Второй мировой, прошагавший от Бреста через полстраны на восток, а потом – пол-Европы на запад… Крым, не ходивший никуда, но проделавший в четверть века долгий путь… Владивосток и Хабаровск в своем путешествии в Москву и Петербург. Кому-то жизнь – судьба, кому-то еще и долгая дорога.
Долгая дорога
Сборник рассказов
Олег Копытов
© Олег Копытов, 2016
ISBN 978-5-4483-3260-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Долгая дорога
Забрали в солдаты Андрейку Ермолова аккурат с началом германской, в августе четырнадцатого. Провожали всей деревней – деревенька Красная под Юмом маленькая, восемь дворов. Провожали до росстани во ржи, рожь стояла в голову выше головы, пьяное солнце бурлило в хмельной голове. До Юрлы добрались на телеге деда быстро, в Кукольной Андрейка еще стаканчик пропустил – монеты были, хоть дед не одобрил.
От Юрлы до Кудымкара ехали уже казенным обозом, парней сорок со всего уезда, вечер и полночи, почти все спали. А утром Андрейка не о том думал, что такое война, как оно на войне, как долго еще ехать до нее, а о том, как вертаться с войны будет. Может, не в обозе, в похмельной сутолоке, средь инвалидов, а один – верхом, с крестами на груди, не по пыльному тракту, а лесом-полями, по духмяным тропинкам, шапка заломлена, цветочек в зубах…
С Перми началась армия. Армия – она горше горькой редьки, чуть что – в зубы. Не так повернулся, не то слово вымолвил – замордуют. За длинный язык и неисполненье – убьют. Коль прежде сам не повесишься. Язык у Андрейки длинный. Ответить офицерам, может, сам и не хотел бы, но бурливое нутро хоть что, да пробурчит, а то и громко выскажет. Через это был часто бит взводным Рутневым. Это уж в Смоленске, в сентябре, когда готовились присоединяться к Варшавскому прорыву. Стояли полевым лагерем близ города. Утром – полковой смотр; взводный Рутнев громко денщику: «А где-ть моя портупея?» – а Ермолов из третьей шеренги негромко, но все слышали: «Как надену портупею, во сто разов поумнею!» Взвод хохочет… После смотра отвел взводный Андрейку за палатку да так вздул гладким топорищем без топора – левое ухо слышать перестало.
В Польше сперва было – о-го-го! От Варшавы и Ивангорода теснили русские австрийца почти до самой Германии. Потом настало ай-яй-яй – немцы, 9-я армия, отбросили русских снова до Варшавы. Потом контратаки по флангам. Иной раз и без артподготовки. Иной раз – прям на пулеметы. Выпрыгнул как-то Андрейка из окопа в атаку, два шага сделал, а уже слева-справа все бойцы в предсмертном матерке хрипят; ему пуля в правое плечо свинцовым тумаком, как игрушку вокруг крутанула, винтовка назад в окоп улетела.
Тогда после тяжелых ранений еще списывали подчистую. Лежал Андрейка в госпитале в царском месте, оно так и называлось – Царское Село! В соседнем отделении, говорили, сама царица в палаты, переодетая в сестру милосердия, хаживала. Впрочем, болтали про нее всякое… и гнусное самое – чаще.
К лету Андрейка совсем поправился. Думал пойти в Питер, поглядеть на столицу, на заводе поработать, потом и домой. Не дали. Дав послужить в Царском Селе три месяца вольнонаемным санитаром, осенью пятнадцатого снова призвали в царскую армию. Но отправили эшелон на сей раз почему-то на восток. Почти на родину, во всяком случае, на Урал – в Екатеринбург. Ой, лучше бы на фронт. А здесь, в тылах, опять маета, хуже ада – мордобой день за днем, муштра да стукачество. Об окопной водке или лазаретном спирту даже и не мечтай. Мечтай лишь о том же фронте, лучше – о дороге.
К вечеру едва стояли на ногах от муштры и нарядов – те, кому повезло, кому розог не назначили. А назначали часто. Розги в армии – те же плети. Хуже… Вот был крупный такой парень из местных – Ваньша Зайцев. Служил с таким же бугаем, родным братом Степаном. Ваньше дали отпуск на неделю, домой ему полдня на поезде. А брат ему жутко завидовал. И думал, что братец в отпуску его землю на себя запишет, был у них давний спор из-за земли. Он и наговорил на брата, что тот подготовил дезертирство перед отправкой на фронт. Командир полка проверять не стал – назначил Ивану двадцать пять розог. А ритуал был такой, что выводили наказанного перед строем, а у строя спрашивали добровольца. Вот Степан и вызвался брата пороть. Порол в смерть, едва потом Ивана откачали. А после Ваньши вывели его друга, с кем он домой ездил. Теперь желающих не было. Все понимали – не за что. Приказали правофланговому. Тому деваться некуда, но стал бить легко, манерно. Тогда его самого по-настоящему унтера выпороли. Тоже двадцать пять розог. И тоже до потери чувств. Такие порядки…
Летом шестнадцатого формировали особые полки экспедиционного корпуса для отправки в союзную Францию. Все старались попасть туда. Говорили, на чужбине будет к русским солдатам большое снисхождение от своих офицеров, а от тыловых французских служб – тройной паек с вином. Все хотели попасть туда, чтоб хотя бы просто тянуть солдатскую лямку, чтобы не издевались так. Брали самых рослых и крепких. Андрейке подсказал один дядька – становись в левый фланг, в заднюю шеренгу, да встань на цыпочки, авось проскочишь за рослого. Так и сделал. Получилось!
Опять дорога. В дороге на войне хорошо! На железной-то дороге. Теплушка, картишки, хохот с утра до ночи, ни шрапнели, ни пуль. В Архангельске ночью загнали в трюмы английского парохода. Утром отплыли. Качка, мазутная вонь, после завтрака с прогорклой кашей все – блевать. День блевали, ничего не ели, только воду пили. Хорошо, стали пускать на палубы. На какой-то день, уже после английских портов, когда обходили Францию с севера на запад – смута. Командиров мало – и все, как показалось, немцы! Как так? С немцем воевать идем, а командиры – немцы… и так же, как и русские высокобродья, суки, житья не дают, чуть что – в морду! Ну как так!
Командирами 5-го и 6-го пехотных полков третьей особой бригады, шедших на этом большом транспортном пароходе, действительно были прибалтийские немцы. Оба ненавидели солдат. Солдаты – их. Долго так продолжаться не могло. В море, в долгом походе… Где слухи, в особенности те, которые хотят услышать, разносятся мгновенно. А иногда и материализуются. Ночью капитан корабля поймал одного офицера, когда тот подавал фонариком сигналы шедшим параллельно быстроходным немецким катерам. Его уже потащили к борту выбросить к черту. Но в походе у русских ни у кого не оказалось оружия, вооружена была только английская команда. Капитан вынул из кобуры свой маузер, расправу на корабле не разрешил. Сказал, придем в ближайший порт – у вас будет час.
В Пемполе офицера, немецкого шпиона, наказали как поездного вора. Поднимали на руках, бросали вверх, но не ловили. Тот падал на бетонку: спина, затылок – в кровавую кашу… Поплатиться не успели. Пароход заправили углем, он пошел дальше – в Брест.
Встречу в Бресте русских солдат Андрюха Ермолов запомнил на всю жизнь – как самое яркое, теплое, волнующее, сладкое. Порт Брест, мало сказать, большой – огромный! На весь горизонт с борта корабля – краны, краны, краны… Узкая полоска пристани внизу у борта парохода. На пристани – барышни, нежные, как лепестки, юноши в пиджачках, мамаши, папаши, французские офицеры в белых кителях и круглых фуражках – все урчат, как котята, улыбаются; сине-бело-красные знамена, цветы, цветы, музыка, руки гражданских в толпу солдат с шоколадками, коробками конфет, цветными открытками, коньяком в пузатых бутылках; за спиной – спокойное стальное море, впереди – что-то неизвестное, но манящее; голова кружилась, как во сне, минуту, две, час, до вечера…
На фронт через месяц. Пока… В Шампани, в лагере Майи, к юго-востоку от Парижа, 3-ю бригаду русской экспедиции догнала расплата за бунт на корабле – приказом местного коменданта, согласованным с объединенным командованием, одиннадцать человек рядового состава третьей бригады за самоуправную казнь командира 5-го полка расстреляли. Буднично и просто, после утреннего развода. Зачитали фамилии и отвели к бетонным стенам гаражей. Те шли без ремней и ремешков на поясах, придерживая штаны, потупя взор, думая лишь об одном… а чего уж было вспоминать…
Станции с красными крышами. Поля, виноградники, рощи, деревни. Красиво, ухоженно. Даже лес – как на открытках.
Полгода на французской передовой. Странный фронт. Почти все полгода – возле города Мурмелон-ле-Гран, поселка Мурмелон-де-Пти да села Ливри-сюр-Вель. Мурлыкающий слог названий не вяжется ни с чем. День за днем – гнилая земля окопов; дерьмом несет из каждой хлюпающей щели – от соседа по окопу, от тебя самого. Месяц за месяцем – чаще всего ползаешь на карачках, под обстрелом, днем и ночью ухают орудия, гавкают пулеметы, устало хрипят офицеры. Из окопов под Ливри-сюр-Вель – на окраину Мурмелон-де-Пти. С нее – на высоту под Мурмелон-ле-Гран. И обратно. Жрешь без хлеба из ржавой банки тушенку из жил, не чувствуя вкуса, спишь, обоссанный вечным дождем. В атаку никто здесь не ходит. Европа – она маленькая. А шестьдесят верст на восток от Мурмелона до Люксембурга здесь никто никогда не пройдет. Даже когда б не стреляли. Здесь вообще далеко не ходят. Столетьями на месте сидят. А сейчас… Грязный окопный дурдом. Полгода. День за днем. А под Рождество – снег. А на следующий день – газы. Немцы пустили газ в ихний сочельник. Кто не успел быстро надеть маску, кто хватанул газ, уже через минуту вырыгивал все свои внутренности и зеленым бревном валился в черную жижу. На дне окопов, на брустверах, в окопных щелях – сотни тел. 3-ю русскую бригаду – во вторую линию. Санитарам-трупоносам не позавидуешь. Собирать телеги этой гнили, бывших людей… Через пару недель не позавидуешь трупоносам-немцам: газы пускают французы. Теперь навозные кучи бывших человеческих тел – там.
В феврале семнадцатого 3-ю особую пехотную бригаду наконец сняли с передовой. Опять – лагерь Майи-Шампань. Чистые брезентовые палатки, в них – кровати с бельем, тротуары, столовые для солдат, кафе для офицеров. В городке дневальные с ведрами – мусорные урны опорожнять и дорожки с ранними лужами песком засыпать.
Вышел однажды Андрейка утром из палатки, присел на скамейку, закурил. Посмотрел на небо. Оно – все в облаках, какие-то – барашками. Белое небо, чуть-чуть голубого. Даже солнце над облаками большим белым пятном. Птица высоко пролетела. Батюшки-светы, как хорошо!
Бывало, между обедом и ужином – чай с печеньем, однажды даже русские газеты! Больше меньшевистских. Но большевистские тоже есть. А в них… как бы короче и ясней сказать… Андрюха Ермолов почувствовал главное. Там про то, что люди – это не два сорта людей, где белая кость, офицеры, купцы и начальники – одна порода, хоть их и мало, а вот все остальные, пусть много их, но порода другая, дрова и тяглый скот для первых. В тех газетах, сквозь ерепень и непонятность слога, вот эта мысль: люди есть люди, и все!
Когда в армии затишье, не стреляют, не воет шрапнель, в армии вовсю гуляют слухи. В марте семнадцатого – что царь свергнут. Потом – что не свергнут, а отказался от трона в пользу брата. Потом – что идет революция. Потом – что ее нету.
Так или иначе, русское командование над своими теряло власть. На сей раз не так, как два спесивых офицера на пароходе, на время. Уже совсем. Так что на любое приказание – ответ сквозь зубы, с плевком и матерком. А то и вовсе: «Да пошел ты!»
У французов другое, у них за стенами Майи-Шампань, полевая жандармерия; взбрыкнешь – мало не покажется. А у русских на десяток офицеров – две сотни солдат, а Петербург-Петроград, в котором, кстати, черти что, за тыщи километров.
Но воевать в апреле семнадцатого командование русской бригады своих все же заставило. Не кнутом, так обещанием пряника. Обещали после взятия двух укрепрайонов по тысяче франков и ящику виноградной французской водки на брата, сколько хочешь бельгийских девок на взвод и отвести после боев месяца на три в глубокий тыл, куда-нибудь в Бордо.
Готовилось большое наступление на севере Франции. Генерал Марушевский обещал французам отбить у немцев несколько важных пунктов у бельгийской границы. Наступали по-русски лихо – без разведки и артподготовки. По 250 граммов рома, в два раза забористей водки, – и вперед. Мясом наружу. После первой же атаки в Андрюхиной 4-й роте из ста бойцов осталось семнадцать. Андрейке опять повезло – его быстро ранило. Сразу двумя пулями в ногу. В этот же момент дружку Сереге снесло свистящим осколком полголовы.
Сатль. Госпиталь… Вспоминался агитатор-большевик, в марте все ходил по палаткам, отговаривал наступать. Тогда казался сумасшедшим, а ведь правильно говорил: кроме как на пушечное мясо – мы никому здесь не нужны… Доктор-француз: «Jambe doit ?tre amputеe…» – «Я те дам ампюте!» Одному русскому ампутировали ногу – не выжил; Андрюха отрезать ногу не дал. Два месяца мучился дикими болями. Но выжил…
Сен-Серван, команды для выздоравливающих. Здесь по ночам в палатах нет врачей, даже дежурных фельдшеров. Здесь продолжают умирать русские солдаты. Но это уже не то. Это уже не тот кромешный ад, что был. Французам, даже рядовым, дают вино, котлеты и салат, русским – квас и кашу с желтым салом. Но это уже не важно! И солдатский комитет в русской роте появился. Комитетчики пытаются устраивать свои порядки, агитируют разговорами всякими, думают – елей на душу льют. Но это совсем не важно… Потому что в воздухе носится такая усталость от войны, от нелепицы, что тем, кто выжил, сам бог скоро велит идти домой…
В июне давали войсковое жалованье за два месяца и боевые за полгода. Здесь так: война войной, а с жалованьем чинно. Андрейка с новым дружком – сколько их перебывало у него за войну! – пошли в город. Посидели в солдатском доме. Дружок сговорился с проституткой. Здесь это можно без проблем, быстро, чистенько, внятно, по таксе. На обратном пути еще и в ресторанчик заглянули. Гражданский. На выходе дали по мордам швейцару, за то что часом назад пускать не хотел. А в части, уже совсем под хмельком, скинули с лестничной площадки дежурного и помощника коменданта. Погуляли…
Расстрелять не расстреляли, но отправили дружка в тюрьму, а Андрюху на каторгу. Не за дебош. Всю русскую роту госпиталя для выздоравливающих отправили на франко-швейцарскую границу добывать камень. Куда-то русских надо было отправить. Воевать они уже не хотели. Домой на пароходах – дорого, хлопотно, да и не за что. Война ведь все идет…
Жили в заброшенном доме на окраине пограничного городка. Как скот. Работали. Безмолвно. Как скот. Потом ломали камень в Деманше. Потом в Эльзас-Лотарингии… В России шла гражданская война. Вступиться за брошенных другим временем в другой стране было некому. В Эльзасе видели колонну молодых французов в кандалах. Местные сказали: эти парни пытались скрыться от мобилизации, тоже пойдут на каменоломни. Андрюха вздохнул: «Молодцы».
Три года назад пришел транспорт с русскими в Брест. Наконец в августе девятнадцатого в Марселе снова грузился русскими корабль. Около тысячи человек, собранные из остатков всех четырех воевавших во Франции, Сербии, Греции, Северной Африке русских бригад, всходили на борт «Петра Великого». Андрей Ермолов шел по трапу одним из последних; ноги плохо слушались, саднила и жгла кожа спины, вчера, измученные долгой дорогой, зашли в окраины Марселя, хотели пить, бросились к фонтанам на бульваре – французские жандармы и конвоиры на конях вовсю походили по спинам нагайками, поблагодарили за помощь на войне.
А родина встретила крайне враждебно. На пристани Новороссийска столпились офицеры в погонах с золотым шитьем, дамы в большущих пышных шляпках, пузатые в мешковатых костюмах штатские. Смотрели на заграничных русских солдат с любопытством. И… брезгливостью. В Новороссийск белый комендант корабль так и не пустил. Андрюха понял: здесь вот те, кто делит всех на две породы – белую и серую. Здесь – все прежнее.
Первого сентября остатки русского экспедиционного корпуса встречал Севастополь. Белогвардейским конвоем. Штыками провожала Франция, штыками встретила Россия… Снова – плац, муштра, зуботычины. Снова – армия… та, что была. Только офицеров больше. Намного. Каждый пулеметчик – капитан, а то и полковник. Туапсе, Армавир. В Армавире пьяный полковник средь бела дня схватил за груди барышню, стал платье рвать, хотел насиловать прям на скамейке; солдат из «французов» кованым прикладом винтовки без патронов – по фуражке… Сквозь белый верх – кровь и мозги. Солдата быстро расстреляли. Колонну «французов» – в Ставрополь. В бои с красными их не пускали, продолжали муштровать до изнеможения и агитировать до одури.
Андрюху схватил тиф. Болел свирепо. Даже в морге был. Спасибо санитару – как догадался, что живой… Оклемался.
Уходил из города ночью. Полгода по ночам шел по стране. Ночью – от патрулей. Белых, красных – любых. Бывал в хатах, где зайдешь, а на полу в луже крови кто-то лежит. Жена. Иль муж. А за пустым столом второй плачет. Жена иль муж. Каратели в хате побывали. Белые, красные – не важно.
Пришел на росстань возле своей деревеньки в августе двадцатого. Рожь высока. Немного июльскими ливнями побита. Отошел поглубже в рожь. Лег на землю. Цветочек-василек в зубы. Где был, сквозь что прошел – не думал. Лежал, спокойно улыбался…
По небу плыло облако. Большое, одно.
Что ему Гекуба?
Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой – Аюдагом, Медведь-горой. Спящий в море медведь пил соленую воду где-то очень, очень далеко – в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим – он стоял на пустом травяном квадрате, – невысоким забором совершенного квадрата росли кусты роз. Бутоны были полураскрывшиеся – желтые, красные и фиолетовые. Щемящим предчувствием кого-то рядом ему казалось, что это он сам, только другой – молодой, лет тридцать – тридцать пять назад, и две красивые девушки, точнее, девушка и женщина, которые – где-то здесь, близ!, но не понятно где, – улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он – стеснялся и даже боялся их…
Ему редко что-то снилось. Вернее, сновидения посещали его часто, но он редко когда и редко что запоминал. Редкими были даже такие пробуждения, когда в первые минуты или даже секунды ты помнишь не сам сон, а только то, что тебе что-то снилось… Возможно, другие в таких случаях додумывают, дофантазируют от коротких и неясных очертаний сна. Но он сам себе отказывал в самой способности фантазировать, придумывать, сочинять… А главное, когда сон не успевал хоть маленькой капелькой соляной кислоты прожечь дыру, маленькую дырочку в хаосе инобытия сознания, уже на второй минуте пробуждения камешек, брошенный в ледяную шугу, камнем уходил на дно, а рыхлые твердые скопления на черной воде, восстанавливали тесноту и неподвижность…
Впрочем, он помнил, что ему в последние годы снился не только Крым, но и Москва и Петербург. Москва снилась огромным, огромным по длине своей и величине антрацитно-черных зданий обок, но при этом узким… и все равно огромным проспектом. А потом, с этого проспекта он попадал в какие-то каменные розовые терема, дерзкое и ироничное сознание сна с улыбкой шептало ему: «Это ГУМ!». А Петербург снился широчайшим, с рядами невысоких молодых кудрявых дубков и молоденьких же берез, солнечным, с проблеском голубой реки рядом бульваром. С другой стороны, там, где не блестела полоска голубой с искорками воды, стояли какие-то пряничные невысокие дома с крутыми колпаками крыш и ажурными – все в красных цветах, балконами…
Он никогда не был ни в Крыму, ни в Москве, ни в Петербурге.
Он жил в странном городе, странно взявшем себе имя казака и предпринимателя с авантюристской и в то же время с державной жилкой (такое бывало когда-то!) Ерофея Хабарова, который никогда в этом месте, где широкий, всегда спокойный, даже разлившись как море, Амур сливается с рекой поуже, но такой же величавой и тихой – Уссури, не был. Он жил в Первом микрорайоне – первом из микрорайонов всех сибирских городов, каждый из которых заимел в теплую социалистическую эпоху свой Первый микрорайон – до сего дня маленький, самодовольный и самобытный квадрат насестов-хрущевок, на сегодня густо заросший: летом – тенью, зимой – льдом, всегда – высокими деревьями и облупившимся пяти-шестислойным асфальтом тротуаров, плутавшими между этих серых коробок.
Олег Копытов
Солдат Первой мировой, прошагавший от Урала до Парижа и Марселя… и обратно, на Урал. Солдат Второй мировой, прошагавший от Бреста через полстраны на восток, а потом – пол-Европы на запад… Крым, не ходивший никуда, но проделавший в четверть века долгий путь… Владивосток и Хабаровск в своем путешествии в Москву и Петербург. Кому-то жизнь – судьба, кому-то еще и долгая дорога.
Долгая дорога
Сборник рассказов
Олег Копытов
© Олег Копытов, 2016
ISBN 978-5-4483-3260-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Долгая дорога
Забрали в солдаты Андрейку Ермолова аккурат с началом германской, в августе четырнадцатого. Провожали всей деревней – деревенька Красная под Юмом маленькая, восемь дворов. Провожали до росстани во ржи, рожь стояла в голову выше головы, пьяное солнце бурлило в хмельной голове. До Юрлы добрались на телеге деда быстро, в Кукольной Андрейка еще стаканчик пропустил – монеты были, хоть дед не одобрил.
От Юрлы до Кудымкара ехали уже казенным обозом, парней сорок со всего уезда, вечер и полночи, почти все спали. А утром Андрейка не о том думал, что такое война, как оно на войне, как долго еще ехать до нее, а о том, как вертаться с войны будет. Может, не в обозе, в похмельной сутолоке, средь инвалидов, а один – верхом, с крестами на груди, не по пыльному тракту, а лесом-полями, по духмяным тропинкам, шапка заломлена, цветочек в зубах…
С Перми началась армия. Армия – она горше горькой редьки, чуть что – в зубы. Не так повернулся, не то слово вымолвил – замордуют. За длинный язык и неисполненье – убьют. Коль прежде сам не повесишься. Язык у Андрейки длинный. Ответить офицерам, может, сам и не хотел бы, но бурливое нутро хоть что, да пробурчит, а то и громко выскажет. Через это был часто бит взводным Рутневым. Это уж в Смоленске, в сентябре, когда готовились присоединяться к Варшавскому прорыву. Стояли полевым лагерем близ города. Утром – полковой смотр; взводный Рутнев громко денщику: «А где-ть моя портупея?» – а Ермолов из третьей шеренги негромко, но все слышали: «Как надену портупею, во сто разов поумнею!» Взвод хохочет… После смотра отвел взводный Андрейку за палатку да так вздул гладким топорищем без топора – левое ухо слышать перестало.
В Польше сперва было – о-го-го! От Варшавы и Ивангорода теснили русские австрийца почти до самой Германии. Потом настало ай-яй-яй – немцы, 9-я армия, отбросили русских снова до Варшавы. Потом контратаки по флангам. Иной раз и без артподготовки. Иной раз – прям на пулеметы. Выпрыгнул как-то Андрейка из окопа в атаку, два шага сделал, а уже слева-справа все бойцы в предсмертном матерке хрипят; ему пуля в правое плечо свинцовым тумаком, как игрушку вокруг крутанула, винтовка назад в окоп улетела.
Тогда после тяжелых ранений еще списывали подчистую. Лежал Андрейка в госпитале в царском месте, оно так и называлось – Царское Село! В соседнем отделении, говорили, сама царица в палаты, переодетая в сестру милосердия, хаживала. Впрочем, болтали про нее всякое… и гнусное самое – чаще.
К лету Андрейка совсем поправился. Думал пойти в Питер, поглядеть на столицу, на заводе поработать, потом и домой. Не дали. Дав послужить в Царском Селе три месяца вольнонаемным санитаром, осенью пятнадцатого снова призвали в царскую армию. Но отправили эшелон на сей раз почему-то на восток. Почти на родину, во всяком случае, на Урал – в Екатеринбург. Ой, лучше бы на фронт. А здесь, в тылах, опять маета, хуже ада – мордобой день за днем, муштра да стукачество. Об окопной водке или лазаретном спирту даже и не мечтай. Мечтай лишь о том же фронте, лучше – о дороге.
К вечеру едва стояли на ногах от муштры и нарядов – те, кому повезло, кому розог не назначили. А назначали часто. Розги в армии – те же плети. Хуже… Вот был крупный такой парень из местных – Ваньша Зайцев. Служил с таким же бугаем, родным братом Степаном. Ваньше дали отпуск на неделю, домой ему полдня на поезде. А брат ему жутко завидовал. И думал, что братец в отпуску его землю на себя запишет, был у них давний спор из-за земли. Он и наговорил на брата, что тот подготовил дезертирство перед отправкой на фронт. Командир полка проверять не стал – назначил Ивану двадцать пять розог. А ритуал был такой, что выводили наказанного перед строем, а у строя спрашивали добровольца. Вот Степан и вызвался брата пороть. Порол в смерть, едва потом Ивана откачали. А после Ваньши вывели его друга, с кем он домой ездил. Теперь желающих не было. Все понимали – не за что. Приказали правофланговому. Тому деваться некуда, но стал бить легко, манерно. Тогда его самого по-настоящему унтера выпороли. Тоже двадцать пять розог. И тоже до потери чувств. Такие порядки…
Летом шестнадцатого формировали особые полки экспедиционного корпуса для отправки в союзную Францию. Все старались попасть туда. Говорили, на чужбине будет к русским солдатам большое снисхождение от своих офицеров, а от тыловых французских служб – тройной паек с вином. Все хотели попасть туда, чтоб хотя бы просто тянуть солдатскую лямку, чтобы не издевались так. Брали самых рослых и крепких. Андрейке подсказал один дядька – становись в левый фланг, в заднюю шеренгу, да встань на цыпочки, авось проскочишь за рослого. Так и сделал. Получилось!
Опять дорога. В дороге на войне хорошо! На железной-то дороге. Теплушка, картишки, хохот с утра до ночи, ни шрапнели, ни пуль. В Архангельске ночью загнали в трюмы английского парохода. Утром отплыли. Качка, мазутная вонь, после завтрака с прогорклой кашей все – блевать. День блевали, ничего не ели, только воду пили. Хорошо, стали пускать на палубы. На какой-то день, уже после английских портов, когда обходили Францию с севера на запад – смута. Командиров мало – и все, как показалось, немцы! Как так? С немцем воевать идем, а командиры – немцы… и так же, как и русские высокобродья, суки, житья не дают, чуть что – в морду! Ну как так!
Командирами 5-го и 6-го пехотных полков третьей особой бригады, шедших на этом большом транспортном пароходе, действительно были прибалтийские немцы. Оба ненавидели солдат. Солдаты – их. Долго так продолжаться не могло. В море, в долгом походе… Где слухи, в особенности те, которые хотят услышать, разносятся мгновенно. А иногда и материализуются. Ночью капитан корабля поймал одного офицера, когда тот подавал фонариком сигналы шедшим параллельно быстроходным немецким катерам. Его уже потащили к борту выбросить к черту. Но в походе у русских ни у кого не оказалось оружия, вооружена была только английская команда. Капитан вынул из кобуры свой маузер, расправу на корабле не разрешил. Сказал, придем в ближайший порт – у вас будет час.
В Пемполе офицера, немецкого шпиона, наказали как поездного вора. Поднимали на руках, бросали вверх, но не ловили. Тот падал на бетонку: спина, затылок – в кровавую кашу… Поплатиться не успели. Пароход заправили углем, он пошел дальше – в Брест.
Встречу в Бресте русских солдат Андрюха Ермолов запомнил на всю жизнь – как самое яркое, теплое, волнующее, сладкое. Порт Брест, мало сказать, большой – огромный! На весь горизонт с борта корабля – краны, краны, краны… Узкая полоска пристани внизу у борта парохода. На пристани – барышни, нежные, как лепестки, юноши в пиджачках, мамаши, папаши, французские офицеры в белых кителях и круглых фуражках – все урчат, как котята, улыбаются; сине-бело-красные знамена, цветы, цветы, музыка, руки гражданских в толпу солдат с шоколадками, коробками конфет, цветными открытками, коньяком в пузатых бутылках; за спиной – спокойное стальное море, впереди – что-то неизвестное, но манящее; голова кружилась, как во сне, минуту, две, час, до вечера…
На фронт через месяц. Пока… В Шампани, в лагере Майи, к юго-востоку от Парижа, 3-ю бригаду русской экспедиции догнала расплата за бунт на корабле – приказом местного коменданта, согласованным с объединенным командованием, одиннадцать человек рядового состава третьей бригады за самоуправную казнь командира 5-го полка расстреляли. Буднично и просто, после утреннего развода. Зачитали фамилии и отвели к бетонным стенам гаражей. Те шли без ремней и ремешков на поясах, придерживая штаны, потупя взор, думая лишь об одном… а чего уж было вспоминать…
Станции с красными крышами. Поля, виноградники, рощи, деревни. Красиво, ухоженно. Даже лес – как на открытках.
Полгода на французской передовой. Странный фронт. Почти все полгода – возле города Мурмелон-ле-Гран, поселка Мурмелон-де-Пти да села Ливри-сюр-Вель. Мурлыкающий слог названий не вяжется ни с чем. День за днем – гнилая земля окопов; дерьмом несет из каждой хлюпающей щели – от соседа по окопу, от тебя самого. Месяц за месяцем – чаще всего ползаешь на карачках, под обстрелом, днем и ночью ухают орудия, гавкают пулеметы, устало хрипят офицеры. Из окопов под Ливри-сюр-Вель – на окраину Мурмелон-де-Пти. С нее – на высоту под Мурмелон-ле-Гран. И обратно. Жрешь без хлеба из ржавой банки тушенку из жил, не чувствуя вкуса, спишь, обоссанный вечным дождем. В атаку никто здесь не ходит. Европа – она маленькая. А шестьдесят верст на восток от Мурмелона до Люксембурга здесь никто никогда не пройдет. Даже когда б не стреляли. Здесь вообще далеко не ходят. Столетьями на месте сидят. А сейчас… Грязный окопный дурдом. Полгода. День за днем. А под Рождество – снег. А на следующий день – газы. Немцы пустили газ в ихний сочельник. Кто не успел быстро надеть маску, кто хватанул газ, уже через минуту вырыгивал все свои внутренности и зеленым бревном валился в черную жижу. На дне окопов, на брустверах, в окопных щелях – сотни тел. 3-ю русскую бригаду – во вторую линию. Санитарам-трупоносам не позавидуешь. Собирать телеги этой гнили, бывших людей… Через пару недель не позавидуешь трупоносам-немцам: газы пускают французы. Теперь навозные кучи бывших человеческих тел – там.
В феврале семнадцатого 3-ю особую пехотную бригаду наконец сняли с передовой. Опять – лагерь Майи-Шампань. Чистые брезентовые палатки, в них – кровати с бельем, тротуары, столовые для солдат, кафе для офицеров. В городке дневальные с ведрами – мусорные урны опорожнять и дорожки с ранними лужами песком засыпать.
Вышел однажды Андрейка утром из палатки, присел на скамейку, закурил. Посмотрел на небо. Оно – все в облаках, какие-то – барашками. Белое небо, чуть-чуть голубого. Даже солнце над облаками большим белым пятном. Птица высоко пролетела. Батюшки-светы, как хорошо!
Бывало, между обедом и ужином – чай с печеньем, однажды даже русские газеты! Больше меньшевистских. Но большевистские тоже есть. А в них… как бы короче и ясней сказать… Андрюха Ермолов почувствовал главное. Там про то, что люди – это не два сорта людей, где белая кость, офицеры, купцы и начальники – одна порода, хоть их и мало, а вот все остальные, пусть много их, но порода другая, дрова и тяглый скот для первых. В тех газетах, сквозь ерепень и непонятность слога, вот эта мысль: люди есть люди, и все!
Когда в армии затишье, не стреляют, не воет шрапнель, в армии вовсю гуляют слухи. В марте семнадцатого – что царь свергнут. Потом – что не свергнут, а отказался от трона в пользу брата. Потом – что идет революция. Потом – что ее нету.
Так или иначе, русское командование над своими теряло власть. На сей раз не так, как два спесивых офицера на пароходе, на время. Уже совсем. Так что на любое приказание – ответ сквозь зубы, с плевком и матерком. А то и вовсе: «Да пошел ты!»
У французов другое, у них за стенами Майи-Шампань, полевая жандармерия; взбрыкнешь – мало не покажется. А у русских на десяток офицеров – две сотни солдат, а Петербург-Петроград, в котором, кстати, черти что, за тыщи километров.
Но воевать в апреле семнадцатого командование русской бригады своих все же заставило. Не кнутом, так обещанием пряника. Обещали после взятия двух укрепрайонов по тысяче франков и ящику виноградной французской водки на брата, сколько хочешь бельгийских девок на взвод и отвести после боев месяца на три в глубокий тыл, куда-нибудь в Бордо.
Готовилось большое наступление на севере Франции. Генерал Марушевский обещал французам отбить у немцев несколько важных пунктов у бельгийской границы. Наступали по-русски лихо – без разведки и артподготовки. По 250 граммов рома, в два раза забористей водки, – и вперед. Мясом наружу. После первой же атаки в Андрюхиной 4-й роте из ста бойцов осталось семнадцать. Андрейке опять повезло – его быстро ранило. Сразу двумя пулями в ногу. В этот же момент дружку Сереге снесло свистящим осколком полголовы.
Сатль. Госпиталь… Вспоминался агитатор-большевик, в марте все ходил по палаткам, отговаривал наступать. Тогда казался сумасшедшим, а ведь правильно говорил: кроме как на пушечное мясо – мы никому здесь не нужны… Доктор-француз: «Jambe doit ?tre amputеe…» – «Я те дам ампюте!» Одному русскому ампутировали ногу – не выжил; Андрюха отрезать ногу не дал. Два месяца мучился дикими болями. Но выжил…
Сен-Серван, команды для выздоравливающих. Здесь по ночам в палатах нет врачей, даже дежурных фельдшеров. Здесь продолжают умирать русские солдаты. Но это уже не то. Это уже не тот кромешный ад, что был. Французам, даже рядовым, дают вино, котлеты и салат, русским – квас и кашу с желтым салом. Но это уже не важно! И солдатский комитет в русской роте появился. Комитетчики пытаются устраивать свои порядки, агитируют разговорами всякими, думают – елей на душу льют. Но это совсем не важно… Потому что в воздухе носится такая усталость от войны, от нелепицы, что тем, кто выжил, сам бог скоро велит идти домой…
В июне давали войсковое жалованье за два месяца и боевые за полгода. Здесь так: война войной, а с жалованьем чинно. Андрейка с новым дружком – сколько их перебывало у него за войну! – пошли в город. Посидели в солдатском доме. Дружок сговорился с проституткой. Здесь это можно без проблем, быстро, чистенько, внятно, по таксе. На обратном пути еще и в ресторанчик заглянули. Гражданский. На выходе дали по мордам швейцару, за то что часом назад пускать не хотел. А в части, уже совсем под хмельком, скинули с лестничной площадки дежурного и помощника коменданта. Погуляли…
Расстрелять не расстреляли, но отправили дружка в тюрьму, а Андрюху на каторгу. Не за дебош. Всю русскую роту госпиталя для выздоравливающих отправили на франко-швейцарскую границу добывать камень. Куда-то русских надо было отправить. Воевать они уже не хотели. Домой на пароходах – дорого, хлопотно, да и не за что. Война ведь все идет…
Жили в заброшенном доме на окраине пограничного городка. Как скот. Работали. Безмолвно. Как скот. Потом ломали камень в Деманше. Потом в Эльзас-Лотарингии… В России шла гражданская война. Вступиться за брошенных другим временем в другой стране было некому. В Эльзасе видели колонну молодых французов в кандалах. Местные сказали: эти парни пытались скрыться от мобилизации, тоже пойдут на каменоломни. Андрюха вздохнул: «Молодцы».
Три года назад пришел транспорт с русскими в Брест. Наконец в августе девятнадцатого в Марселе снова грузился русскими корабль. Около тысячи человек, собранные из остатков всех четырех воевавших во Франции, Сербии, Греции, Северной Африке русских бригад, всходили на борт «Петра Великого». Андрей Ермолов шел по трапу одним из последних; ноги плохо слушались, саднила и жгла кожа спины, вчера, измученные долгой дорогой, зашли в окраины Марселя, хотели пить, бросились к фонтанам на бульваре – французские жандармы и конвоиры на конях вовсю походили по спинам нагайками, поблагодарили за помощь на войне.
А родина встретила крайне враждебно. На пристани Новороссийска столпились офицеры в погонах с золотым шитьем, дамы в большущих пышных шляпках, пузатые в мешковатых костюмах штатские. Смотрели на заграничных русских солдат с любопытством. И… брезгливостью. В Новороссийск белый комендант корабль так и не пустил. Андрюха понял: здесь вот те, кто делит всех на две породы – белую и серую. Здесь – все прежнее.
Первого сентября остатки русского экспедиционного корпуса встречал Севастополь. Белогвардейским конвоем. Штыками провожала Франция, штыками встретила Россия… Снова – плац, муштра, зуботычины. Снова – армия… та, что была. Только офицеров больше. Намного. Каждый пулеметчик – капитан, а то и полковник. Туапсе, Армавир. В Армавире пьяный полковник средь бела дня схватил за груди барышню, стал платье рвать, хотел насиловать прям на скамейке; солдат из «французов» кованым прикладом винтовки без патронов – по фуражке… Сквозь белый верх – кровь и мозги. Солдата быстро расстреляли. Колонну «французов» – в Ставрополь. В бои с красными их не пускали, продолжали муштровать до изнеможения и агитировать до одури.
Андрюху схватил тиф. Болел свирепо. Даже в морге был. Спасибо санитару – как догадался, что живой… Оклемался.
Уходил из города ночью. Полгода по ночам шел по стране. Ночью – от патрулей. Белых, красных – любых. Бывал в хатах, где зайдешь, а на полу в луже крови кто-то лежит. Жена. Иль муж. А за пустым столом второй плачет. Жена иль муж. Каратели в хате побывали. Белые, красные – не важно.
Пришел на росстань возле своей деревеньки в августе двадцатого. Рожь высока. Немного июльскими ливнями побита. Отошел поглубже в рожь. Лег на землю. Цветочек-василек в зубы. Где был, сквозь что прошел – не думал. Лежал, спокойно улыбался…
По небу плыло облако. Большое, одно.
Что ему Гекуба?
Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой – Аюдагом, Медведь-горой. Спящий в море медведь пил соленую воду где-то очень, очень далеко – в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим – он стоял на пустом травяном квадрате, – невысоким забором совершенного квадрата росли кусты роз. Бутоны были полураскрывшиеся – желтые, красные и фиолетовые. Щемящим предчувствием кого-то рядом ему казалось, что это он сам, только другой – молодой, лет тридцать – тридцать пять назад, и две красивые девушки, точнее, девушка и женщина, которые – где-то здесь, близ!, но не понятно где, – улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он – стеснялся и даже боялся их…
Ему редко что-то снилось. Вернее, сновидения посещали его часто, но он редко когда и редко что запоминал. Редкими были даже такие пробуждения, когда в первые минуты или даже секунды ты помнишь не сам сон, а только то, что тебе что-то снилось… Возможно, другие в таких случаях додумывают, дофантазируют от коротких и неясных очертаний сна. Но он сам себе отказывал в самой способности фантазировать, придумывать, сочинять… А главное, когда сон не успевал хоть маленькой капелькой соляной кислоты прожечь дыру, маленькую дырочку в хаосе инобытия сознания, уже на второй минуте пробуждения камешек, брошенный в ледяную шугу, камнем уходил на дно, а рыхлые твердые скопления на черной воде, восстанавливали тесноту и неподвижность…
Впрочем, он помнил, что ему в последние годы снился не только Крым, но и Москва и Петербург. Москва снилась огромным, огромным по длине своей и величине антрацитно-черных зданий обок, но при этом узким… и все равно огромным проспектом. А потом, с этого проспекта он попадал в какие-то каменные розовые терема, дерзкое и ироничное сознание сна с улыбкой шептало ему: «Это ГУМ!». А Петербург снился широчайшим, с рядами невысоких молодых кудрявых дубков и молоденьких же берез, солнечным, с проблеском голубой реки рядом бульваром. С другой стороны, там, где не блестела полоска голубой с искорками воды, стояли какие-то пряничные невысокие дома с крутыми колпаками крыш и ажурными – все в красных цветах, балконами…
Он никогда не был ни в Крыму, ни в Москве, ни в Петербурге.
Он жил в странном городе, странно взявшем себе имя казака и предпринимателя с авантюристской и в то же время с державной жилкой (такое бывало когда-то!) Ерофея Хабарова, который никогда в этом месте, где широкий, всегда спокойный, даже разлившись как море, Амур сливается с рекой поуже, но такой же величавой и тихой – Уссури, не был. Он жил в Первом микрорайоне – первом из микрорайонов всех сибирских городов, каждый из которых заимел в теплую социалистическую эпоху свой Первый микрорайон – до сего дня маленький, самодовольный и самобытный квадрат насестов-хрущевок, на сегодня густо заросший: летом – тенью, зимой – льдом, всегда – высокими деревьями и облупившимся пяти-шестислойным асфальтом тротуаров, плутавшими между этих серых коробок.