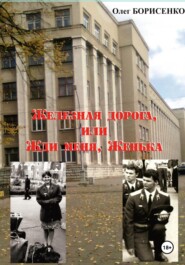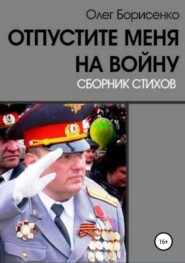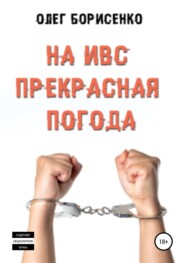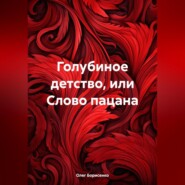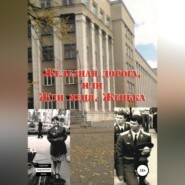По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Звезды над урманом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все ханы раньше являлись потомками великого хана, и даже говорят, что русский царь Иван по бабкиной линии тоже чингизид. Но рушится старый мир. По всему свету безродная чернь рвется и захватывает власть, упиваясь кровью знатных людей с вековыми родословными. И не только мусульманский мир постигло это, но и Европу захватила полоса прихода к власти безродных. Вон у Ивана тоже опричники без рода и племени всю знать к ногтю прижали. Ему, военному человеку, конечно, лучше, чтобы приказы отдавали начальники, которые пришли к должности путем военных заслуг и побед, а не глупые, но родовитые самцы, – рассуждал Исатай по дороге к Валихану.
***
– Смотри, Угорка, какие я шишки с нашего кедра сбил! – похвалился Архип, поставив у лестницы лабаза полную корзину полуспелых шишек.
– Вот теперь и долби скорее остальные! А то ронжа[28 - Ронжа – кедровка.] их до утра все перетаскает.
– Почему? – удивился кузнец.
– Она только приметит, что человек шишку начал бить, так сразу и летит долбить. Ронжа – птица жадная и глупая. Прячет шишку, а потом забывает, где ее схоронила. Находит чужую шишку, а другая кедровка ее запасы отыскивает. Так зиму и живут, – добавил Угор, спускаясь с лабаза, где развешивал вялиться чебака и сорожку.
Архип взглянул на кедрач и ахнул:
– Ух, шельмы! Кыш, разбойники!
На ветках кедра прыгало около семи птичек, которые, схватив очередную шишку, скрывались в лесу, а после возвращались за следующей.
Угор не терял драгоценного времени. Нужно было запастись едой на зиму. И пока Архип занимался заготовкой сушняка, вогул успел сходить на болото, где набрал клюквы. Сбегал с лукошками в лес, набрал переспелой черники и брусники. Уже штук семь плетенок стояли в лабазе, доверху наполненные ягодой. Архип же, занимаясь заготовкой дров на зиму, попутно собирал грибы, резал их и сушил. А вечерами поселенцы дружно плели лукошки и морды.
Зима приближалась. Пару раз пролетал легкий снежок, иногда утром блестел на траве иней. Упавшая летом в Оби вода вновь поднялась. Китайские купцы не появлялись. Зато северяне ждали по зимнику новгородские обозы, которые проходили через Уральский хребет и Пелым на Северную Сосьву, а далее – на реку Таз к торговому городищу Мангазея. Обозы приходили и к Котскому городищу да к стойбищам, находившимся по берегам Оби.
Архип заказал через остяков, которые подались на Урал сдавать и менять пушнину, инструмент для кузнечного дела. Водными путями можно было пройти до рек Лозьвы и Тагила и, перейдя пешком, иногда и волоком, спуститься на Чусовую. Это уже был край, обжитый русскими, богатый железными изделиями и украшениями, а главное – оружием, чего практически не привозили китайские купцы.
О рукомесле кузнеца уже распространились слухи. То один, то другой вогул или остяк приезжал отковать наконечник остроги или нож смастерить. А чтоб не обидеть мастера, несли железа побольше, с лихвой, так что на черный день у Архипа в мастерской уже были припрятаны заготовки и запасы. Вогул повертел поднятое с лавки незнакомое изделие из изогнутых дугой двух пластин, разжал их в разные стороны, отпустил.
– Западня что ли какая или кулемка[29 - Кулемка – деревянная ловушка, капкан.] железная?
– Капкан пытаюсь отковать. Вроде, получился. Ну-ка, пруток принеси, а я взведу его.
Вогул сбегал за хворостиной. Осторожно пошевелил ею капкан и от неожиданности отскочил. Дуги со звоном захлопнулись, прищемив ветку.
Архип взял в руки свое изделие, потянул веточку и покачал головой:
– Нет, пружина слабовата, перекалить нужно. Вари кишки рыбьи на костре, Угор. Надобно хоть рыбий жир натопить, коль медвежьего нет. А без жира не закалить мне пружину.
Глава 27
Гостомысл шел впереди, а за ним, словно мальчишка, приплясывал Никита, неся на плече шест с чучелом-тыквой. Поперечная ветка, изображавшая руки чудовища, за спиной каменотеса игралась рукавами белой рубахи, которые свисали чуть ли не до земли. Опаленная тыквенная морда Огненного Самурхана, улыбаясь, смотрела в предрассветное небо.
Они поднялись практически на самую вершину сопки, поросшую хвойным и лиственным лесом. Никита был удивлен, что посередине бескрайних степей имеются участки с вековыми лесами, с высокими возвышенностями и огромными озерами.
Когда рассвело, каменотес влез на большую березу и оглядел прилегающую степь.
– Вон они, татарушки! У озера встали лагерем. Лошади пасутся без седел. Походных юрт три десятка будет. Поди, надолго пришли, раз так вольно ведут себя, – докладывал он волхву, сидя на ветви.
– А от костров куды дым тянется?
– От нас ветерок, отче. Но не шибко дует. Не стелется оземь, а вверх идет.
– Ну и ладно. А коли они думают, что великан тута-ки живет, то мы им еще одну потешку устроим. Айда-ка, слезай, милой. Будем Самурхана Огненного им казать. Собирай пока хворост да наруби лапнику поболее. Вот глянь, тама-ка камни с валунами очагом сложены, сноси ветки туды. А я пока могилу безгрешного человека приберу да траву выполю на ней, крест поправлю, ведь скосился весь.
– Ты же ведун, отче? Пошто за христианскими могилками-то ухаживаешь?
– Так ведь люди-то, отрок, токмо одни на земле существа разумные. Кто на восток крестится, кто на запад молится, а все одно, все мы под одними богами ходим. А этот святой человек дюже памятный делами своими. Токмо вот сказ про него долгий, – поправляя крест из лиственницы, отозвался каменотесу Гостомысл.
– Так сказывай, отче, а я пока хворост пособираю да тебя послухаю.
– Ну, тоды слухай, может, опосля потомкам мой сказ передашь о святом человеке из Царьграда.
Гостомысл присел возле древней могилы, выложенной бутовым камнем, и, пропалывая траву в расщелинах между могильных камней, начал свое повествование:
– Издавна в сих местах народы жительствовали. И было у них государство дюже сильное. И расстилались границы энной державы от Байкала синего до реки Ра, от моря студеного до моря Хвалисского. Жили дружно, на вы не ходили. Последнюю рубаху другу отдавали. Орали[30 - Орать – пахать землю.] и сеяли, жали и скот держали, рыбу удили да зверем и пушниной промышляли. Была послана на тот народ благодать Богов наших. Но пришла напасть великая. Колыхнулось море студеное, опустилась земля плодородная. Озлел муж к ближнему своему, деля сушу и плодородные земли. И чем поганее становилось, тем злоба возрастала. А как до самого Египиту пришла стужа великая и потопы страшные, так и рассорилась подбожная челядь наша, да и подались Арии куды глаза глядят. Кто на Запад со своими родами двинулся, а кто в иудейские земли ушел. Многие в Китай Тибетский и Дравению[31 - Дравения – Индия.] подались. Токмо пророчество волхвов было, что вернутся арии когда-то, ласки не познавши в землях чужих, и образуют вновь великое царствие на землях здешних. А наступит сия пора, когдой на востоке звезда опричная ярким вспыхнет пламенем. То бишь знак это Боги подадут люду плутающему. Тогды и сын Богов должон народиться, который объединит род людской. Да сызнова заживут люди в благодати, как и ранее в согласии жили, и будет это до конца веков. Вот и следили волхвы за ее, стало быть, звезды, появлением тысячу лет, а может статься, и более. Со всех мест земных наблюдали, дабы не проглядеть знамение энто. И на тутошних сопках, где мы с тобою, Никитушко, сейчас находимся, блюли так же волхвы стражу бессонную. Но коротко слово сказывается, да не скоро дело ладится.
Шли годы, века менялись. Многое чего в миру изменилось, и только старцы непорочные все на небо глядели, передавая свои знания пестунам другим. Сколь лет минуло, неведомо мне. Сколь воды утекло, никто не помнит. Токмо позже явился на Жаман сопку святой человек из Царьграда во времена, когды турки позарились на город сей. Дары ведунам подал. Молвил, что шел он многие лета исполнить апостола Матфея давний завет. Одарить дарами братию здешнюю за великую услугу люду христианскому. И поведал он волхвам тутошным историю про золото волхвов, которое с ладаном и мирой три волхва принесли в место, где Иисус родился. А шли они долго на звезду яркую, которая катилась по небу и токмо остановилась там, где младенец в колыбели должон лежать. Обратились они к царю Ироду, мол, укажи, где Царь наш родился. А Ирод жук еще тот был. Отослал он волхвов, а сам всех младенцев и побил, чтоб власть свою не упустить. Алчен да жесток шибко был тот царь иудейский. А потому с тех времен давних всех нелюдей иродами и кличут. Ну как теперича на Руси Иванушку Коломенского* величают. Ведь ирод – он и есть завсегда ирод. Волхвов всех побил. Богу сам молится, лбом бьется, аж пол в евонных палатях трещит, а старца Филиппа удавил со своей верной собакой Скуратовым. Челобитную же к царю, которую старец Божий отписал, что он кровью Русь заливает, обозвал филькиной грамотой, – горько усмехнулся Гостомысл, подымаясь с колен, отряхивая рубаху от травинок и сосновых иголок, и продолжил: – Так вот тут как раз, говорят, проживал энтот волхв, который первым нарождение сей звезды заветной на небесах усмотрел. Передали волхвы нам по наследству знания давнешние да премудрость вековую, а вот дары-то те не сохранились. Зато вот могилка того святого ходока осталась, теперича мы с тобой, Никитка, присматриваем за ней. Да вот еще очаг каменный сохранился, куды ты хворост сносил давеча. Сказывали мудрецы, что дымом с горы нашей и обозначили волхвы заветной звезды появление. Увидали дым другие волхвы и жрецы, принялись дымы с сопок и курганов скифских пущать. Вот так и дошла до Персии и Аравии весть благая. А оттуда уж вышли вослед за звездой волхвы с дарами искать младенца.
Старый ведун обозрел натасканный каменотесом хворост и хвойные лапы. Снял курдюк с тесьмы, которая подпоясывала его рубаху, полил хворост какой-то тягучей зеленой жидкостью. Остальную жидкость оставил в курдюке. Открыл маленький пузырек, всыпал в горловину курдюка серебристый порошок. Положив свое колдовское зелье на еловый лапник, уложенный по верху хвороста, старец отошел в сторонку.
– Отче! Всадники направляются к стану татар. По виду местные, – вдруг шепнул Никита, показывая на восток.
Трое верховых выехали из ложбины, которая разделяла северное подножие сопки с другой маленькой возвышенностью длинным каменистым хребтом, полого спускающимся к берегу озера.
– Ну-ка, погодь, отрок. Давай-ка обождем да глянем, с чем пожаловали к астраханским татарам наши кыпчаки, – решил Гостомысл, откладывая в сторону огниво.
***
Исатай утром встретился с Валиханом, который проживал у сопки Сырымбет. К полудню, объехав огромное озеро Сауманкол по западному берегу и преодолев до рассвета расстояние до Жаман сопки, наконец-то прибыл на место. Проехав по дороге, которая вела через ложбину между сопками, он выехал на широкое степное пространство. Справа появились очертания озера, и на берегу показались несколько десятков юрт. Рядом паслись сотни четыре лошадей. Дымились костры.
Навстречу всадникам выдвинулись галопом два десятка воинов. Рассыпавшись полукольцом, ногайские аскеры приближались. Исатай и его сопровождающие с достоинством двигались навстречу размеренным шагом. Когда всадники, окружив непрошеных гостей, остановились, Исатай натянул поводья.
– Я, аркар Исатай, приехал говорить с вашим господином, – важно произнес племянник Узун Бека.
Воины, приложив правые руки ладонями к груди, поклонились и, развернув коней, окружив путников, поехали в сторону лагеря.
Глава 28
– Отче, много неведомого ты мне сказывал давече, да мало чего уразумел я.
– Спрашивай, Никита, а я отвечу тебе, коли что неясно. Ведь порой лучше лишний раз спросить, чем невеждой прослыть, скоморохом или шутом пред людьми себя выставить, – согласился старец, внимательно рассматривая происходящее действие у ногайских юрт.
– Вот про Байкал синий ты поутру сказывал.
– Озеро есть такое в стороне восточной. Вода в нем чистая и светлая, прям как очи голубые у красной девицы. Шибко большое и широкое оно. Такое огромное, что с одного берега только полосочку другого брега и видно. Глубину его измерить не хватит воздуха, коль нырять, но дно видно сквозь его воды, как на ладони горошину. А нарекли его люди байским, то бишь богатым. Бай – это, стало быть, богач. А слово «коль» – «озеро» переводится. Вот и нарекли сие озеро Бай-коль. По-нашему, Богатое Озеро будет. Большое и главное, так я разумею.
– А про реку Ра что растолкуешь? – не унимался Никита.
– Да энто проще пареной репы, отрок. То и есть река великая Волга наша. А Ра – ее исконное название, только нынче на татарский ляд перелажено. Ведь у нас изъясняются как? «Направо», «налево» глаголят. А у них талдычат: «солгА», «волгА». То бишь отмежевали татары с ливонцами границы Руси нашей от реки Салка на Балтии до реки Волги. И не смей, русич, далее границ сих соваться. Вот вам граница слева, а вот вам граница справа. Обложили ироды Русь Великую. Но пала ныне Орда да Казань с правой сторонушки. По другую, левую руку Ливонский орден развалился. Вот вам и солгА-волгА. И дойдем мы теперича, ариев правнук, до озера синего, до самого Байкала. Как и предрекали нам волхвы, пращуры наши, которые звезду опричную в древнем небе разглядели и предсказали возрождение царствия великого.
– Ответь, дядя Гостомысл, и на последний вопрос. А что это за море такое – Хва, Хвал, Хвалское? Али как его? Будь оно неладно! Язык поломаешь, покуда вымолвишь название моря неведомого.