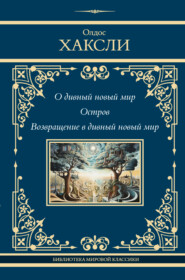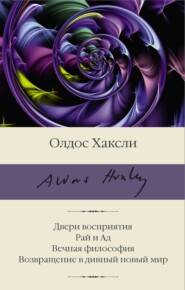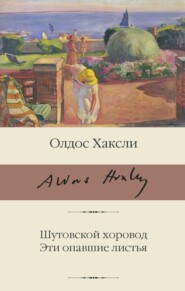По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слепец в Газе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И был час третий, и они распяли Его.
В десяти ударах пульса, которые Энтони отсчитал в наступившей тишине, были слышны удары молота по гвоздям. Бом, бом, бом… Он потер ладонь пальцами другой руки; тело его окостенело от ужаса, и по сжавшимся мышцам прошла сильная судорога.
– Oт шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого
. – Миссис Фокс опустила книгу. – Вот одно из тех дополнений, о которых я говорила, – сказала она. – Узор, которым расцвечена эта история. Нужно задуматься о веке, в который жили авторы Евангелий. Они верили, что все это может произойти в действительности при каких-то важных обстоятельствах. Они хотели воздать честь Иисусу, хотели, чтобы рассказ звучал еще более удивительно. Но из-за этого легенда кажется нам, людям двадцатого столетия, менее правдоподобной, и мы не чувствуем в ней никакой чести для Иисуса. Для нас удивительное в том, – продолжала она, и в ее голосе зазвучало глубокое волнение, – что Иисус был простым человеком, не более способным творить чудеса и принимать их от других, чем любой из нас. Просто человек, и все же он мог делать то, что делал, мог быть тем, кем был. Вот и все чудо.
Наступило молчание. Лишь часы тикали, и шелковистое пламя билось о решетку. Энтони лежал на спине, уставившись в потолок. Все внезапно прояснилось. Дядя Джеймс был прав, но другие тоже не лгали. Миссис Фокс показала, как могут сосуществовать две правды. Просто человек, и все же… О, он тоже сможет делать и быть!
Миссис Фокс снова подняла книгу. Тонкие страницы шелестели, когда она переворачивала их.
– По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем
.
Камень… Но там, в Лоллингдоне, была земля и один пепел в маленькой коробочке, не больше жестянки. Энтони закрыл глаза в надежде избавиться от навязчивого видения, но в багровой тьме рога, треугольная пакля рыжеватой шерсти преследовали его как наваждение. Он приложил руку ко рту и, чтобы наказать себя, начал кусать указательный палец – все сильнее, сильнее, пока боль не стала почти невыносимой.
В тот вечер, придя пожелать ему спокойной ночи, миссис Фокс села на край постели Энтони и взяла его за руку.
– Ты знаешь, Энтони, – произнесла она после недолгого молчания, – никогда не бойся думать о ней.
– Не бояться думать, – пробормотал он, словно не поняв, что она имела в виду. Однако он все осознал, осознал, может быть, больше того, что было сказано ею. Кровь бросилась ему в лицо. Он почувствовал ужас, как будто кто-то поймал его в ловушку, выгнал из надежного убежища. Страх возбудил в нем негодование.
– Не бойся страданий, – продолжала она. – Мысль о ней заставляет тебя скорбеть, это неизбежно, и это правильно. Скорбь иногда необходима, как операция, без нее не выздоровеешь. Если будешь думать о ней, Энтони, то это причинит тебе боль. Но если ты не будешь о ней думать, то обречешь мать на повторную смерть. Дух умершего пребывает в Боге, но он также живет в памяти живущих, помогая им, делая их выше и крепче. У мертвых может быть только этот вид бессмертия, если живые готовы дать его им. Ты воздашь ей этим, Энтони?
Безмолвно, в слезах он кивнул ей в знак согласия. Не столько благодаря самим словам, сколько благодаря тому, что они принадлежали ей, он почувствовал уверенность. Ее голос, звучавший повелевающе, успокоил всю боль, и мнительное негодование улеглось. С ней он чувствовал себя спокойным, и это спокойствие позволило ему рыдать, не опасаясь наказания.
– Бедный маленький Энтони! – Она погладила его по волосам. – Бедняга Энтони! Этому уже не поможешь, душа будет болеть всегда. И никогда ты не сможешь отделаться от боли при мысли о ней. Даже время не унесет всех страданий, Энтони.
Она погрузилась в молчание и в течение минуты сидела, думая о своих отце и муже. Тучный величественный старик, похожий на пророка, сидевший в инвалидной коляске, парализованный и странно сморщенный, запрокинувший голову набок… Отец был тогда едва способен говорить, и по его седой бороде постоянно стекала струйка слюны… И человек, за которого она вышла замуж из восхищения его силой и уважения к его прямоте; она вышла замуж, но потом поняла, что не любила его, не могла, была не в состоянии полюбить; ибо его сила оказалась холодной и лишенной великодушия; его прямота оказалась грубой и жестокой. Боль смертельной болезни, которой он страдал, еще больше обострила эти черты. Он так и умер, не примирившись, до конца отвергая ее нежность.
– Да, всегда будут боль и печаль, – вновь заговорила она. – И в конце концов, – продолжила она с ноткой теплой гордости, почти вызова, – можно ли желать другого? Ты ведь не хочешь забывать свою мать, ведь так, Энтони? Или ты не хочешь больше волноваться по этому поводу? Всего лишь для того, чтобы избежать излишних страданий. Ты не хочешь этого?
Шмыгая носом, он покачал головой. Все сказанное было вполне справедливо. В этот момент он и не думал уклоняться. От испытанного страдания он ощущал какое-то непонятное облегчение, и он любил в этот момент миссис Фокс за то, что она сумела научить его страдать.
Миссис Фокс нагнулась и поцеловала его.
– Бедный маленький Энтони! – не уставала повторять она. – Бедный маленький Энтони!
На Страстную пятницу шел дождь, но в субботу погода переменилась, и пасхальный день выдался, как по заказу, ясным и каким-то золотистым, что подчеркивало величие этого дня. Воскресение Христа и возрождение природы – две стороны одной великой мистерии. Солнце, облака, похожие на осколки мраморной скульптуры в бледном синем небе, каким-то непостижимым способом подтверждали все сказанное миссис Фокс.
Они не пошли в церковь, и, сидя на газоне, она читала вслух сперва чин пасхальной литургии, а затем отрывки из «Жизни Иисуса» Ренана
. У Энтони на глаза навернулись слезы, и он чувствовал несказанное стремление к совершенству, к достижению целей возвышенных и благородных.
В понедельник привезли ватагу трущобных детей, чтобы они могли провести день в саду или в подлеске. В Балстроуде их назвали бы попрошайками и игнорировали их существование. Ничтожные зверьки, что рвут из рук подачку, а вырастая, обычно превращаются в громил и разбойников. Здесь, пожалуй, все обстояло по-иному. Миссис Фокс превратила попрошаек в несчастных детей, которые, весьма вероятно, больше никогда не увидят дикой природы.
– Обездоленные дети, – сказал ей Энтони, когда они прибыли. Но, несмотря на сострадание, которое он старался сохранять сообразно уровню своего развития, несмотря на неизменную гуманность, он втайне боялся этих чахлых, но до ужаса зрелых детей, с которыми он согласился играть и которых боялся и вследствие этого ненавидел. Они казались совершенно чуждыми. Их залатанная, грязная одежда, бесформенные ботинки напоминали шкуру пятнистого леопарда; их кокни был понятен Энтони едва ли больше китайского. Даже их внешность заставляла чувствовать за собой вину. И вдобавок они смотрели на него как-то по-особенному, то с издевкой, то с ненавистью, завидуя его новому костюму или аристократическим манерам, а самые смелые из них перешептывались и смеялись между собой. Когда Брайан становился объектом их насмешек из-за заикания, он смеялся вместе с ними, и немного спустя смех прекращался или же становился дружелюбным или даже сочувственным. Энтони, наоборот, притворялся, что не замечает их издевки. Истинный джентльмен, как его учили прямо или намеками, на примере старших, не будет обращать внимание на такие вещи. Это ниже его достоинства. Он вел себя так, будто они вовсе не смеялись, то есть он игнорировал их присутствие, и они продолжали смеяться еще сильнее.
Он ненавидел это утро с прятками и английской лаптой. Но еще хуже оказалось обеденное время. Он предложил помочь накрывать стол. Работа сама по себе не вызвала возражений. Но запах бедности, когда двадцать детей собрались в столовой, был отвратителен, как запах Лоллингдонской церкви, только гораздо хуже, и ему пришлось два или три раза выбегать в ванную. «Пропахло микробами. – Ему слышалось, будто мать сердито и испуганно ворчит: – Пропахло микробами». Когда миссис Фокс спрашивала его о чем-нибудь, он всего лишь кивал и издавал невнятный звук с закрытым ртом; если он говорил, ему приходилось глотать! Глотать что? Даже мысль об этом казалась ему омерзительной.
– Бедные дети, – повторил он еще раз, стоя на пороге с миссис Фокс и Брайаном и глядя, как они уезжают. – Несчастные дети! – И чувствовал еще больший стыд за собственное лицемерие, когда миссис Фокс благодарила его за помощь в их развлечении.
Когда Энтони поднялся в кабинет, она говорила, повернувшись к Брайану:
– Спасибо и тебе также, мой дорогой. Ты был великолепен.
Зардевшись от похвалы, Брайан покачал головой.
– Это все т-ты, – протянул он и неожиданно, из-за сильной любви к ней, из-за ее доброты и чудесной искренности, расплакался.
Вместе они вышли в сад. Ее рука лежала у него на плече. От миссис Фокс слабо пахло одеколоном, и внезапно (это, казалось, добавило ей очарования) из-за туч вышло солнце.
– Посмотри, какие прекрасные нарциссы! – воскликнула она. Ее голос делал все, что она говорила Брайану, более истинным, чем сама истина. – И сердце пляшет и поет… Помнишь, Брайан?
Глаза его просияли, и он кивнул.
– Войдя в… Войдя в нарциссов хоровод
.
Обняв сына, она прижала Брайана к себе, чем вызвала его совершеннейшее ликование. Они шли, не говоря ни слова. Ее юбки шелестели при каждом шаге. Как море, подумал Брайан. Море в Вентноре, то время в прошлом году, когда он не мог спать по ночам из-за волн, бьющихся о берег. Лежа там в темноте, слушая дыхание моря в отдалении, он чувствовал страх и вместе с ним печаль, ужасную печаль. Но связанные с матерью воспоминания о том страхе, бездонной и беспричинной скорби стали прекрасными; в то же время, тусклые и расплывчатые, они, казалось, придавали матери новую красоту, из-за чего она становилась еще более очаровательной в его глазах. Расхаживая по солнечной лужайке, она заключала в себе какую-то мистическую значимость, поглотившую ветер, тьму и зловещий шум прибоя.
– Бедняга Энтони! – сказала миссис Фокс, нарушив затянувшееся молчание. – Тяжело, невыносимо тяжело.
Тяжело было и бедной Мейзи, подумала Рейчел Фокс. Это милейшее создание и ее вечная апатия, ее молчание, ее мечтания и внезапные приступы лихорадочного веселья – что общего могло быть у нее со смертью? Или с рождением? Мейзи, воспитывающая ребенка, – это едва ли не большая бессмыслица, чем мертвая Мейзи..
– Д-должно быть, это уж… – Но «ужасно» ему было не выговорить. – Ж-жутко, – выдавил Брайан, он давно научился обходить препятствие, когда мысль наталкивалась на непроизносимое для него слово, – не иметь матери.
Миссис Фокс мягко усмехнулась и, склонившись, прижалась щекой к его волосам.
– Ужасно также не иметь сына, – сказала она, осознав, что ее слова несли в себе больше правды, чем она предполагала, что они были истинны и на другом, более широком витке спирали, на более совершенном духовном уровне, чем тот, на котором она сейчас находилась. Она жила настоящим, но если было ужасно не иметь любимого сына теперь, как несравнимо более ужасно было бы не иметь его тогда, когда с ее отцом случился инсульт, и во время болезни ее мужа. В то время, когда властвовали боль и полное духовное опустошение, единственное, что у нее оставалось, была любовь к Брайану. Да, как ужасно все-таки не иметь сына!
Глава 10
16 июня 1912 г.
Книги. Стол в комнате Энтони был завален ими. Пять фолиантов Бейля
в английском издании 1738 года. Перевод Рикэби «Суммы против язычников»
. «Проблемы стиля» де Гурмона
. «Путь к совершенству», «Записки из подполья» Достоевского. Три тома писем Байрона. Произведения Хуаны Инес де ла Крус
на испанском. Пьесы Уичерли
. «История монашеского безбрачия» Ли.
В десяти ударах пульса, которые Энтони отсчитал в наступившей тишине, были слышны удары молота по гвоздям. Бом, бом, бом… Он потер ладонь пальцами другой руки; тело его окостенело от ужаса, и по сжавшимся мышцам прошла сильная судорога.
– Oт шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого
. – Миссис Фокс опустила книгу. – Вот одно из тех дополнений, о которых я говорила, – сказала она. – Узор, которым расцвечена эта история. Нужно задуматься о веке, в который жили авторы Евангелий. Они верили, что все это может произойти в действительности при каких-то важных обстоятельствах. Они хотели воздать честь Иисусу, хотели, чтобы рассказ звучал еще более удивительно. Но из-за этого легенда кажется нам, людям двадцатого столетия, менее правдоподобной, и мы не чувствуем в ней никакой чести для Иисуса. Для нас удивительное в том, – продолжала она, и в ее голосе зазвучало глубокое волнение, – что Иисус был простым человеком, не более способным творить чудеса и принимать их от других, чем любой из нас. Просто человек, и все же он мог делать то, что делал, мог быть тем, кем был. Вот и все чудо.
Наступило молчание. Лишь часы тикали, и шелковистое пламя билось о решетку. Энтони лежал на спине, уставившись в потолок. Все внезапно прояснилось. Дядя Джеймс был прав, но другие тоже не лгали. Миссис Фокс показала, как могут сосуществовать две правды. Просто человек, и все же… О, он тоже сможет делать и быть!
Миссис Фокс снова подняла книгу. Тонкие страницы шелестели, когда она переворачивала их.
– По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем
.
Камень… Но там, в Лоллингдоне, была земля и один пепел в маленькой коробочке, не больше жестянки. Энтони закрыл глаза в надежде избавиться от навязчивого видения, но в багровой тьме рога, треугольная пакля рыжеватой шерсти преследовали его как наваждение. Он приложил руку ко рту и, чтобы наказать себя, начал кусать указательный палец – все сильнее, сильнее, пока боль не стала почти невыносимой.
В тот вечер, придя пожелать ему спокойной ночи, миссис Фокс села на край постели Энтони и взяла его за руку.
– Ты знаешь, Энтони, – произнесла она после недолгого молчания, – никогда не бойся думать о ней.
– Не бояться думать, – пробормотал он, словно не поняв, что она имела в виду. Однако он все осознал, осознал, может быть, больше того, что было сказано ею. Кровь бросилась ему в лицо. Он почувствовал ужас, как будто кто-то поймал его в ловушку, выгнал из надежного убежища. Страх возбудил в нем негодование.
– Не бойся страданий, – продолжала она. – Мысль о ней заставляет тебя скорбеть, это неизбежно, и это правильно. Скорбь иногда необходима, как операция, без нее не выздоровеешь. Если будешь думать о ней, Энтони, то это причинит тебе боль. Но если ты не будешь о ней думать, то обречешь мать на повторную смерть. Дух умершего пребывает в Боге, но он также живет в памяти живущих, помогая им, делая их выше и крепче. У мертвых может быть только этот вид бессмертия, если живые готовы дать его им. Ты воздашь ей этим, Энтони?
Безмолвно, в слезах он кивнул ей в знак согласия. Не столько благодаря самим словам, сколько благодаря тому, что они принадлежали ей, он почувствовал уверенность. Ее голос, звучавший повелевающе, успокоил всю боль, и мнительное негодование улеглось. С ней он чувствовал себя спокойным, и это спокойствие позволило ему рыдать, не опасаясь наказания.
– Бедный маленький Энтони! – Она погладила его по волосам. – Бедняга Энтони! Этому уже не поможешь, душа будет болеть всегда. И никогда ты не сможешь отделаться от боли при мысли о ней. Даже время не унесет всех страданий, Энтони.
Она погрузилась в молчание и в течение минуты сидела, думая о своих отце и муже. Тучный величественный старик, похожий на пророка, сидевший в инвалидной коляске, парализованный и странно сморщенный, запрокинувший голову набок… Отец был тогда едва способен говорить, и по его седой бороде постоянно стекала струйка слюны… И человек, за которого она вышла замуж из восхищения его силой и уважения к его прямоте; она вышла замуж, но потом поняла, что не любила его, не могла, была не в состоянии полюбить; ибо его сила оказалась холодной и лишенной великодушия; его прямота оказалась грубой и жестокой. Боль смертельной болезни, которой он страдал, еще больше обострила эти черты. Он так и умер, не примирившись, до конца отвергая ее нежность.
– Да, всегда будут боль и печаль, – вновь заговорила она. – И в конце концов, – продолжила она с ноткой теплой гордости, почти вызова, – можно ли желать другого? Ты ведь не хочешь забывать свою мать, ведь так, Энтони? Или ты не хочешь больше волноваться по этому поводу? Всего лишь для того, чтобы избежать излишних страданий. Ты не хочешь этого?
Шмыгая носом, он покачал головой. Все сказанное было вполне справедливо. В этот момент он и не думал уклоняться. От испытанного страдания он ощущал какое-то непонятное облегчение, и он любил в этот момент миссис Фокс за то, что она сумела научить его страдать.
Миссис Фокс нагнулась и поцеловала его.
– Бедный маленький Энтони! – не уставала повторять она. – Бедный маленький Энтони!
На Страстную пятницу шел дождь, но в субботу погода переменилась, и пасхальный день выдался, как по заказу, ясным и каким-то золотистым, что подчеркивало величие этого дня. Воскресение Христа и возрождение природы – две стороны одной великой мистерии. Солнце, облака, похожие на осколки мраморной скульптуры в бледном синем небе, каким-то непостижимым способом подтверждали все сказанное миссис Фокс.
Они не пошли в церковь, и, сидя на газоне, она читала вслух сперва чин пасхальной литургии, а затем отрывки из «Жизни Иисуса» Ренана
. У Энтони на глаза навернулись слезы, и он чувствовал несказанное стремление к совершенству, к достижению целей возвышенных и благородных.
В понедельник привезли ватагу трущобных детей, чтобы они могли провести день в саду или в подлеске. В Балстроуде их назвали бы попрошайками и игнорировали их существование. Ничтожные зверьки, что рвут из рук подачку, а вырастая, обычно превращаются в громил и разбойников. Здесь, пожалуй, все обстояло по-иному. Миссис Фокс превратила попрошаек в несчастных детей, которые, весьма вероятно, больше никогда не увидят дикой природы.
– Обездоленные дети, – сказал ей Энтони, когда они прибыли. Но, несмотря на сострадание, которое он старался сохранять сообразно уровню своего развития, несмотря на неизменную гуманность, он втайне боялся этих чахлых, но до ужаса зрелых детей, с которыми он согласился играть и которых боялся и вследствие этого ненавидел. Они казались совершенно чуждыми. Их залатанная, грязная одежда, бесформенные ботинки напоминали шкуру пятнистого леопарда; их кокни был понятен Энтони едва ли больше китайского. Даже их внешность заставляла чувствовать за собой вину. И вдобавок они смотрели на него как-то по-особенному, то с издевкой, то с ненавистью, завидуя его новому костюму или аристократическим манерам, а самые смелые из них перешептывались и смеялись между собой. Когда Брайан становился объектом их насмешек из-за заикания, он смеялся вместе с ними, и немного спустя смех прекращался или же становился дружелюбным или даже сочувственным. Энтони, наоборот, притворялся, что не замечает их издевки. Истинный джентльмен, как его учили прямо или намеками, на примере старших, не будет обращать внимание на такие вещи. Это ниже его достоинства. Он вел себя так, будто они вовсе не смеялись, то есть он игнорировал их присутствие, и они продолжали смеяться еще сильнее.
Он ненавидел это утро с прятками и английской лаптой. Но еще хуже оказалось обеденное время. Он предложил помочь накрывать стол. Работа сама по себе не вызвала возражений. Но запах бедности, когда двадцать детей собрались в столовой, был отвратителен, как запах Лоллингдонской церкви, только гораздо хуже, и ему пришлось два или три раза выбегать в ванную. «Пропахло микробами. – Ему слышалось, будто мать сердито и испуганно ворчит: – Пропахло микробами». Когда миссис Фокс спрашивала его о чем-нибудь, он всего лишь кивал и издавал невнятный звук с закрытым ртом; если он говорил, ему приходилось глотать! Глотать что? Даже мысль об этом казалась ему омерзительной.
– Бедные дети, – повторил он еще раз, стоя на пороге с миссис Фокс и Брайаном и глядя, как они уезжают. – Несчастные дети! – И чувствовал еще больший стыд за собственное лицемерие, когда миссис Фокс благодарила его за помощь в их развлечении.
Когда Энтони поднялся в кабинет, она говорила, повернувшись к Брайану:
– Спасибо и тебе также, мой дорогой. Ты был великолепен.
Зардевшись от похвалы, Брайан покачал головой.
– Это все т-ты, – протянул он и неожиданно, из-за сильной любви к ней, из-за ее доброты и чудесной искренности, расплакался.
Вместе они вышли в сад. Ее рука лежала у него на плече. От миссис Фокс слабо пахло одеколоном, и внезапно (это, казалось, добавило ей очарования) из-за туч вышло солнце.
– Посмотри, какие прекрасные нарциссы! – воскликнула она. Ее голос делал все, что она говорила Брайану, более истинным, чем сама истина. – И сердце пляшет и поет… Помнишь, Брайан?
Глаза его просияли, и он кивнул.
– Войдя в… Войдя в нарциссов хоровод
.
Обняв сына, она прижала Брайана к себе, чем вызвала его совершеннейшее ликование. Они шли, не говоря ни слова. Ее юбки шелестели при каждом шаге. Как море, подумал Брайан. Море в Вентноре, то время в прошлом году, когда он не мог спать по ночам из-за волн, бьющихся о берег. Лежа там в темноте, слушая дыхание моря в отдалении, он чувствовал страх и вместе с ним печаль, ужасную печаль. Но связанные с матерью воспоминания о том страхе, бездонной и беспричинной скорби стали прекрасными; в то же время, тусклые и расплывчатые, они, казалось, придавали матери новую красоту, из-за чего она становилась еще более очаровательной в его глазах. Расхаживая по солнечной лужайке, она заключала в себе какую-то мистическую значимость, поглотившую ветер, тьму и зловещий шум прибоя.
– Бедняга Энтони! – сказала миссис Фокс, нарушив затянувшееся молчание. – Тяжело, невыносимо тяжело.
Тяжело было и бедной Мейзи, подумала Рейчел Фокс. Это милейшее создание и ее вечная апатия, ее молчание, ее мечтания и внезапные приступы лихорадочного веселья – что общего могло быть у нее со смертью? Или с рождением? Мейзи, воспитывающая ребенка, – это едва ли не большая бессмыслица, чем мертвая Мейзи..
– Д-должно быть, это уж… – Но «ужасно» ему было не выговорить. – Ж-жутко, – выдавил Брайан, он давно научился обходить препятствие, когда мысль наталкивалась на непроизносимое для него слово, – не иметь матери.
Миссис Фокс мягко усмехнулась и, склонившись, прижалась щекой к его волосам.
– Ужасно также не иметь сына, – сказала она, осознав, что ее слова несли в себе больше правды, чем она предполагала, что они были истинны и на другом, более широком витке спирали, на более совершенном духовном уровне, чем тот, на котором она сейчас находилась. Она жила настоящим, но если было ужасно не иметь любимого сына теперь, как несравнимо более ужасно было бы не иметь его тогда, когда с ее отцом случился инсульт, и во время болезни ее мужа. В то время, когда властвовали боль и полное духовное опустошение, единственное, что у нее оставалось, была любовь к Брайану. Да, как ужасно все-таки не иметь сына!
Глава 10
16 июня 1912 г.
Книги. Стол в комнате Энтони был завален ими. Пять фолиантов Бейля
в английском издании 1738 года. Перевод Рикэби «Суммы против язычников»
. «Проблемы стиля» де Гурмона
. «Путь к совершенству», «Записки из подполья» Достоевского. Три тома писем Байрона. Произведения Хуаны Инес де ла Крус
на испанском. Пьесы Уичерли
. «История монашеского безбрачия» Ли.