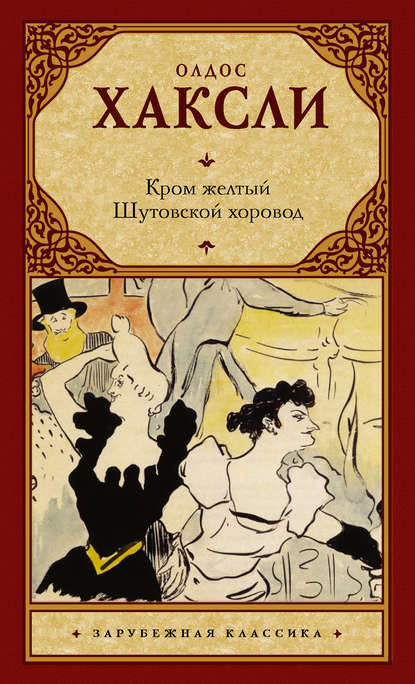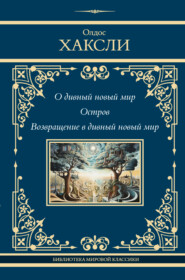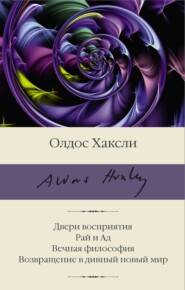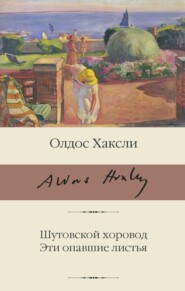По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кром желтый. Шутовской хоровод (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Два года, проведенные Фердинандо на континенте в путешествии, стали для его родителей временем счастливой передышки. Но даже в этот период мысли о будущем терзали их, и развлечения былых лет уже не могли их утешить. Леди Филомена потеряла голос, а у сэра Геркулеса разыгрался такой ревматизм, что он не мог больше играть на скрипке. Сам он еще охотился иногда со своими мопсами, но жена его чувствовала себя слишком старой и – после происшествия с мастиффом – слишком нервной для подобных занятий. Самое большое, на что она теперь была способна ради доставления удовольствия мужу, следовать за ним на расстоянии в маленькой двуколке, запряженной самыми смирными старичками-шетландцами.
В день, когда ожидалось возвращение Фердинандо, Филомена, мучимая неясными страхами и дурными предчувствиями, удалилась в свою спальню и слегла в постель. Сэр Геркулес встречал сына в одиночестве. В комнату вошел великан в коричневом дорожном костюме.
– Добро пожаловать домой, сын мой, – приветствовал его сэр Геркулес слегка дрожащим голосом.
– Надеюсь, вы в добром здравии, сэр. – Фердинандо склонился, чтобы пожать отцу руку, потом снова выпрямился. Макушкой отец доставал ему лишь до бедра.
Фердинандо явился не один. Его сопровождали двое друзей, его ровесников, и каждый привез с собой слугу. Вот уже тридцать лет Кром не оскверняло присутствие такого количества представителей обычной человеческой расы. Сэр Геркулес негодовал и страшился, но законы гостеприимства соблюдал, как того требовали приличия. Он принял молодых людей с угрюмой вежливостью и распорядился, чтобы их слуг хорошо накормили на кухне.
Старый обеденный стол снова извлекли на свет и протерли от пыли (сэр Геркулес с женой давно привыкли обедать за маленьким столом высотой в двадцать дюймов). Саймону, пожилому дворецкому, которого было едва видно над краем большого стола, помогали прислуживать слуги гостей.
Восседая во главе стола, сэр Геркулес с обычной любезностью поддерживал беседу о приятных впечатлениях заграничного путешествия, о красотах природы и произведениях искусства, увиденных ими за рубежом, о венецианской опере, местных церковных хорах детей-сирот и прочих материях. Молодые люди особо не прислушивались к его рассуждениям, маскируя рвущийся наружу смех притворным кашлем, они развлекались наблюдением за усилиями дворецкого менять тарелки и наполнять бокалы на высоком столе. Сэр Геркулес, сделав вид, что не замечает этого, сменил тему и заговорил о развлечениях на свежем воздухе. Один из молодых людей поинтересовался, правда ли, что, как он слышал, хозяин поместья охотится на кроликов со сворой мопсов. Сэр Геркулес ответил утвердительно и стал подробно описывать процесс охоты. Молодые люди захохотали.
По окончании ужина сэр Геркулес сполз с высокого стула и под предлогом того, что должен проведать жену, пожелал всем спокойной ночи. Поднимаясь по лестнице, он слышал за спиной хохот. Филомена не спала; лежа в постели, она прислушивалась к оглушительному смеху и непривычно громкому топоту на лестнице и в коридорах. Сэр Геркулес пододвинул стул к ее кровати и долго молча сидел рядом, держа жену за руку и время от времени нежно сжимая ее ладонь. Около десяти часов их напугал чудовищный грохот. Звон разбитого стекла, топот, взрывы смеха, рев и крики. Шум не прекращался, поэтому через несколько минут сэр Геркулес встал и, несмотря на мольбы жены не делать этого, решил пойти посмотреть, что происходит. Свет на лестнице не горел, пришлось пробираться на ощупь, осторожно спускаясь со ступеньки на ступеньку и задерживаясь на каждой из них, прежде чем сделать следующий шаг. Шум становился все ближе, и крики начали складываться в различимые слова и фразы. Из-под двери столовой пробивалась полоска света. Сэр Геркулес на цыпочках пересек холл. Когда он уже приближался к двери, за ней снова раздался дикий металлический скрежет и звон стекла. Что они там делают? Поднявшись на носочки, он сумел заглянуть в замочную скважину. Посреди разоренного стола отплясывал джигу старый дворецкий Саймон, которого напоили так, что он едва держался на ногах. Под его насквозь пропитавшимися разлитым вином башмаками хрустели осколки битой посуды. Трое молодых людей, сидя вокруг стола, колотили по нему руками и разбитыми бутылками, смеялись и криками подзадоривали его. Трое рослых слуг, прислонившись к стене, тоже гоготали. Вдруг Фердинандо запустил в голову танцора пригоршней грецких орехов, это так ошарашило и изумило карлика, что он споткнулся и рухнул на спину, опрокинув графин и несколько бокалов. Его подняли, влили в него еще бренди и похлопали по спине. Старик лишь бессмысленно улыбался, икая.
– Завтра, – сказал Фердинандо, – мы устроим балетный спектакль с участием всей челяди.
– А на папашу Геркулеса наденем львиную шкуру и дадим в руки булаву, – добавил один из его товарищей. И все трое разразились хохотом.
Сэр Геркулес не стал смотреть и слушать дальше. Он пересек холл в обратном направлении и начал карабкаться по высоким ступеням, испытывая боль в коленях при каждом шаге. Это был конец; отныне ему не было места в этом мире – под одной крышей с Фердинандо им не жить.
Его жена по-прежнему не спала; на ее вопросительный взгляд он ответил:
– Они издеваются над стариком Саймоном. Завтра наступит наш черед.
С минуту они помолчали, потом Филомена сказала:
– Я не хочу увидеть завтрашний день.
– Да, лучше нам его не видеть, – согласился сэр Геркулес.
Отправившись в свой кабинет, он во всех подробностях описал минувший вечер. Еще не закончив, позвонил в колокольчик и приказал явившемуся слуге принести ему горячей воды и к одиннадцати часам приготовить ванну. Закрыв дневник, вернулся в спальню жены и, разведя дозу опиума, в двадцать раз превышавшую ту, которую она принимала от бессонницы, подал ей со словами:
– Вот твое снотворное.
Филомена взяла стакан, но не выпила его сразу, некоторое время она молча лежала. В ее глазах стояли слезы.
– Помнишь песни, которые мы раньше пели летом sulla terrazza?[35 - На террасе (ит.).] – Она пропела несколько тактов из «Amor, amor, non dormer piu»[36 - Любовь, любовь, больше не спи (ит.).] Страделлы, голос ее дрожал. – И ты играл на скрипке. Кажется, это было совсем недавно, но на самом деле так давно, давно, давно. Addio, amore, a rivederti[37 - Прощай, любимый, до встречи (ит.).].
Она выпила снадобье и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. Сэр Геркулес поцеловал ее руку и вышел на цыпочках, словно боялся ее разбудить. Вернувшись к себе в кабинет и записав последние обращенные к нему слова жены, он потрогал воду в ванне, приготовленной по его распоряжению. Вода была еще слишком горячей, и он снял с полки томик Светония. Ему хотелось перечесть эпизод смерти Сенеки. Он открыл книгу наугад, и в глаза бросилась фраза: «Но к карликам он питал отвращение как к lusus naturae, приносящим несчастье». Его передернуло, словно от удара. Этот самый Август, припомнил он, некогда выставил в амфитеатре на всеобщее обозрение юношу из благородной семьи по имени Луций, рост которого не превышал двух футов, а вес – семнадцати фунтов, но который обладал зычным голосом. Он перелистал несколько страниц. Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон… Это была история все нарастающего ужаса. «Сенеку, своего наставника, он принудил покончить собой». А еще был Петроний, который в свой последний час созвал друзей, усадил их вокруг себя и, пока жизнь по каплям вытекала из него через вскрытые вены, попросил говорить с ним не об утешении философией, а о любви и сладостных утехах. Еще раз окунув перо в чернила, сэр Геркулес написал на последней странице своего дневника: «Он умер, как римлянин». Потом, потрогав пальцами ноги воду и найдя ее температуру достаточно комфортной, скинул банный халат и, взяв в руку бритву, погрузился в ванну. Одним резким движением он сделал глубокий разрез на левом запястье, откинулся, положив голову на бортик, и настроился на размышления. Кровь медленно сочилась из раны, образуя постепенно растворяющиеся в воде завитки и спирали. Вскоре вся вода окрасилась в розовый, мало-помалу сгущающийся цвет. Сэр Геркулес почувствовал, что его непреодолимо клонит ко сну; неясные видения сменяли друг друга, и вскоре он уже крепко спал. В его маленьком теле было не так много крови».
Глава 14
Чтобы выпить кофе после ланча, компания обычно собиралась в библиотеке. Ее окна выходили на восток, и в этот час она была самым прохладным помещением во всем доме – просторная комната, стены которой в восемнадцатом веке заставили изящными белыми книжными полками. Посередине одной из стен имелась дверь, замаскированная под стеллаж с рядами фальшивых книг, она вела в глубокую кладовую, где среди скоросшивателей для писем и подшивок старых газет дряхлела в темноте мумия египетской дамы, привезенная вторым сэром Фердинандо из своего путешествия по Европе. С расстояния в десять ярдов и при первом взгляде эту потайную дверь можно было принять за стеллаж с настоящими книгами. Перед муляжом стоял мистер Скоуган с чашкой кофе в руках и, прихлебывая, проводил инвентаризацию библиотеки.
– Нижний ряд, – говорил он, – заполнен четырнадцатитомной энциклопедией. Она полезна, хоть и скучновата, как «Словарь финского языка» Капрималджа. «Биографический словарь» более привлекателен. «Биографии людей, рожденных великими», «Биографии людей, достигших величия», «Биографии людей, ставших великими невольно» и «Биографии людей, которые так и не стали великими». Еще выше – десять томов «Трудов и странствий» Сома, между тем как роман неизвестного автора «Охота на дикого гуся» уместился в шести. Так-так, а это что такое? – Мистер Скоуган поднялся на цыпочки и всмотрелся в верхние полки. – Семь томов «Повестей Нокспотча». «Повести Нокспотча», – повторил он и, обернувшись, добавил: – О, дорогой Генри, это жемчужина вашего собрания. Я бы охотно отдал за них всю остальную библиотеку.
Счастливый обладатель множества первых изданий, мистер Уимбуш позволил себе снисходительно улыбнуться.
– Возможно ли, – продолжил мистер Скоуган, – что здесь лишь корешки с названиями? – Он открыл шкаф и заглянул внутрь, словно ожидая увидеть за дверью сами книги. – Фу! – фыркнул он и закрыл дверь. – Пахнет пылью и плесенью. Весьма символично! Человек обращается к великим шедеврам прошлого в надежде на чудесное просветление и, открыв их, находит лишь тьму, пыль и легкий запах разложения. В конце концов, что есть чтение, если не порок, такой же как пьянство, сластолюбие и любой иной способ потакания своим слабостям? Мы читаем, чтобы пощекотать и позабавить свой ум, а пуще всего – чтобы избежать необходимости думать. Тем не менее, «Повести Нокспотча»…
Он глубокомысленно помолчал, барабаня пальцами по корешкам несуществующих, недосягаемых книг.
– А я не согласна с вами относительно чтения, – сказала Мэри. – Я имею в виду серьезное чтение, разумеется.
– Конечно, Мэри, конечно, – уверил ее мистер Скоуган. – Я совершенно забыл, что в этой комнате есть серьезные люди.
– Мне нравится идея издания биографических серий, – вступил Дэнис. – Это всеобъемлющий проект, в нем найдется место для всех нас.
– Да, биографии это хорошо, биографии это прекрасно, – согласился мистер Скоуган. – Я представляю их себе написанными в изящном стиле времен Регентства, быть может, самим доктором Ламприером[38 - Имеется в виду Джон Ламприер (ок. 1765–1824) – автор новаторского для своей эпохи словаря античности. Его «Полный словарь классических имен и названий, упомянутых древними авторами», впервые увидевший свет в 1792 году, переиздавался вплоть до нашего времени и служил источником вдохновения для многих английских поэтов XIX века.] – эдакий вербальный Брайтонский павильон[39 - Королевский, или Брайтонский, павильон – бывшая приморская резиденция королей Великобритании, памятник архитектуры «индо-сарацинского» стиля 1810-х годов.]. Вы знаете классический словарь Ламприера? Ах! – Мистер Скоуган поднял руку и снова уронил ее, давая этим жестом понять, что не находит слов. – Почитайте его биографию Елены, почитайте, как Юпитер в облике лебедя «сумел воспользоваться своим положением», явившись перед Ледой. Подумать только, что и эти биографии великих могли быть, нет, должны быть написаны им! Какой это труд, Генри! А из-за идиотской организации вашей библиотеки мы не можем его прочесть.
– Я предпочитаю «Охоту на дикого гуся», – произнесла Анна. – Роман в шести томах – какое это, должно быть, отдохновение.
– Отдохновение, – повторил мистер Скоуган. – Вы нашли очень верное слово. «Охота на дикого гуся» – крепкое, но немного старомодное произведение, эдакие, знаете ли, картинки из жизни духовенства пятидесятых, персонажи из среды мелкопоместного дворянства, для чувствительности и комизма – крестьяне, и все это на фоне сдержанного описания выразительных красот природы. Все очень добротно и хорошо, но, как иной пудинг, немного пресновато. Лично мне гораздо интереснее «Труды и странствия» Сома. Мистер Сом из Сомсхилла. Эксцентрик. Старина Том Сом, как называли его близкие друзья. Десять лет он провел на Тибете, организовав там производство очищенного сливочного масла по современным европейским технологиям, и обеспечил себе возможность в тридцать шесть лет отойти от дел с солидным состоянием. Остаток жизни он посвятил путешествиям и размышлениям. И вот результат. – Мистер Скоуган постучал по корешкам фальшивых книг. – А теперь вернемся к «Повестям Нокспотча». Какой шедевр и какой великий человек! Нокспотч был мастером.
О, Дэнис, если бы вы только прочли Нокспотча, вам бы не пришло в голову писать роман об изнурительных поисках себя молодым человеком, вы бы не стали описывать в бесконечных изощренных подробностях жизнь образованных кругов Челси, Блумсбери и Хэмпстеда. Вы бы попытались создать книгу, которую интересно читать.
Но, увы! Из-за своеобразной организации библиотеки нашего хозяина вы никогда не прочтете Нокспотча.
– Никто не сожалеет об этом больше, чем я, – вставил Дэнис.
– Именно Нокспотч, – продолжал мистер Скоуган, – великий Нокспотч освободил нас от невыносимой тирании реалистического романа. Моя жизнь, говорил он, не настолько длинна, чтобы тратить драгоценное время на описание внутреннего мира представителей среднего класса или на чтение подобных описаний. И вот еще его слова: «Я устал видеть человеческий разум, увязший в трясине социального окружения; предпочитаю описывать его в вакууме, играющим свободно и дерзко».
– Я бы сказал, что порой Нокспотч бывал немного невразумителен, – заметил Гомбо.
– Бывал, – согласился мистер Скоуган. – Намеренно. От этого он казался глубже, чем был на самом деле. Но заумным и двусмысленным он представал только в своих афоризмах. В «Повестях» он всегда прозрачно ясен. О, эти его повести… Эти повести! Как мне их вам описать? Его поразительные вымышленные персонажи летают по страницам «Повестей», как ярко разодетые акробаты на трапециях. Описываются невероятные приключения, и выдвигаются еще более невероятные гипотезы. Мыслительный процесс и чувства, освобожденные от каких бы то ни было идиотских предрассудков цивилизованной жизни, развиваются в форме замысловатого и утонченного танца, то двигаясь вперед, то отступая, пересекаясь и сталкиваясь. Безграничная эрудиция и безграничная фантазия идут у него рука об руку. Все идеи, существующие и существовавшие в прошлом, во всех представимых сферах бытия, возникают по ходу действия то там, то тут, мрачно ухмыляются или гримасничают, превращаясь в карикатуры на самих себя, а потом исчезают, уступая место чему-то новому. Язык его произведений богат и фантастически разнообразен. Остроумие безгранично. И…
– Не могли бы вы привести пример? – перебил его Дэнис. – Какой-нибудь конкретный пример.
– Увы! – ответил мистер Скоуган. – Великое творчество Нокспотча – все равно что меч Экскалибур. Оно остается глубоко вонзенным в эту дверь и ждет пришествия писателя, обладающего достаточной силой таланта, чтобы вырвать его. Я вообще не писатель и не обладаю необходимым даром для того, чтобы даже попытаться это сделать. Задачу освобождения Нокспотча из его деревянной тюрьмы я оставляю вам, мой дорогой.
– Благодарю, – произнес Дэнис.
Глава 15
– Во времена милейшего Брантома[40 - Имеется в виду Пьер де Бурдейль Брантом (ок. 1527–1614) – летописец придворной жизни времен Екатерины Медичи, один из самых читаемых французских авторов эпохи Возрождения.], – витийствовал мистер Скоуган, – все дебютантки, представлявшиеся ко французскому двору, приглашались за королевский стол, и вино им подавалось в красивых серебряных кубках работы итальянских мастеров. Эти кубки – не просто обычные чаши, ибо внутри них были искусно выгравированы весьма фривольные любовные сценки. С каждым глотком, который делала юная дама, эти картинки проступали все отчетливее, и придворные с огромным интересом наблюдали за ней, чтобы увидеть, покраснеет ли она при виде того, что откроется ей на дне, или нет. Если она краснела, они смеялись над ее невинностью, если нет, тоже смеялись – но уже над ее искушенностью.
– Вы предлагаете возродить этот обычай в Букингемском дворце? – поинтересовалась Анна.
– Нет, – ответил мистер Скоуган. – Я просто пересказал этот анекдот в качестве иллюстрации простодушия и раскрепощенности нравов шестнадцатого века. Я мог бы привести и другие примеры, чтобы показать: обычаи семнадцатого и восемнадцатого, пятнадцатого и четырнадцатого, а в сущности всех веков, начиная с времен Хаммурапи, были такими же простодушными и раскрепощенными. Единственным столетием, в котором нравы не отличались подобной веселой искренностью, было благословенной памяти девятнадцатое столетие. Это удивительное исключение. И все же – притом, что это до?лжно счесть осознанным неуважением к истории – нормальными, естественными и правильными в этом веке считались многозначительные умолчания; откровенность предыдущих пятнадцати-двадцати тысяч лет воспринималась как нарушение нравственных норм и испорченность. Занятный феномен.
– Полностью согласна, – придыхая от волнения, вызванного желанием донести свою мысль, сказала Мэри. – Хэвлок Эллис[41 - Генри Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский врач, стоявший у истоков сексологии как научной дисциплины.] говорит, что…
Мистер Скоуган поднял руку на манер полицейского, останавливающего движение на дороге.
– Да, говорит. Я знаю. И это подводит меня к следующему пункту: к природе обратной реакции.
– Хэвлок Эллис…