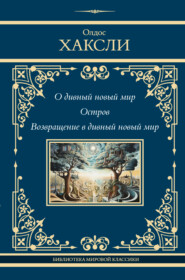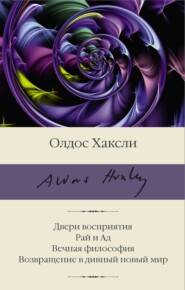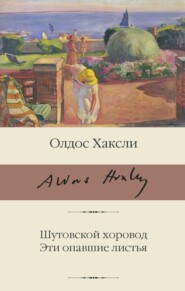По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Монашка к завтраку
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Якобсену показалось, что он уловил в ее словах формулу, предназначенную незнакомцам. Марджори явно хотела, чтобы в сознании людей мысли о ней утверждались бы ею самой. Фраза девушки о домашнем хозяйстве навеяла Якобсену воспоминание о покойной миссис Петертон, ее матери, привлекательной, мучительно бойкой женщине, страстно жаждавшей сиять в университетском обществе Оксфорда. Очень немного времени требовалось, чтобы узнать про ее родство с епископами и лучшими семействами графства, понять, что она охотится за львами духовного звания и вообще – сноб. У него на душе было спокойнее, что она умерла.
– А разве не станет ужасно, когда вообще не нужно будет ничего делать на войну? – заговорил Якобсен. – Когда наступит мир, людям просто нечего будет делать и не о чем думать.
– А я буду рада. Домашнее хозяйство вести окажется куда легче.
– Верно. Есть чем и утешиться.
Марджори настороженно глянула на гостя: она не любила, когда над нею подсмеивались. Вот ведь какой непримечательный человечек! Низенький, толстенький, с навощенными каштановыми усами и лбом, который пробившаяся лысина сделала беспредельно большим. Похож на того сорта мужчин, кому говорят: «Благодарю вас, я приму банкнотами по цене фунта серебра». Под глазами у него мешки и под подбородком мешки, а по выражению лица ни за что не угадаешь, о чем он сейчас думает. Марджори радовало, что она выше гостя ростом и могла смотреть на него сверху вниз.
Из дома вышел мистер Петертон с серой шалью на плечах и с шуршащей распахнутой «Таймс» в руках.
– Добра вам от утра и до утра, – крикнул он.
На шекспировскую сердечность этого приветствия Марджори ответила ледяным современным: «Привет». Ее отец всегда говорил: «Добра вам от утра и до утра» – вместо «Доброе утро», и всякий раз, буквально всякий день в ее жизни, это вызывало у нее непременное раздражение.
– В сегодняшней газете интереснейшая история напечатана, – сообщил мистер Петертон. – Молодой летчик рассказывает о воздушном бое. – И, пока они прохаживались взад-вперед по усыпанной гравием дорожке, прочел статью, занявшую на странице целых полторы колонки.
Марджори даже не пыталась скрывать охватившую ее скуку и развлекалась тем, что вычитывала что-то на обратной стороне газетного листа, по-журавлиному вытянув и изогнув шею.
– Очень интересно, – произнес Якобсен, когда чтение закончилось.
Мистер Петертон меж тем перевернул страницу и просматривал хронику и объявления.
– Смотри-ка, – сказал он, – некто по имени Берил Кемберли-Белчер собирается жениться. Не знаешь, Марджори, он не родственник Говарду Кемберли-Белчеру?
– Я понятия не имею, кто такой Говард Кемберли-Белчер, – довольно резко ответила Марджори.
– А-а, я думал, ты знаешь. Позвольте-ка. Говард Кемберли-Белчер учился со мной в колледже. И у него был брат по имени Джеймс… или Уильям?.. а еще сестра, которая вышла замуж за одного из Райдерсов или, во всяком случае, за родственника Райдерсов, ведь я же знаю, что Кемберли-Белчеры и Райдерсы где-то смыкались. Силы небесные, боюсь, память на имена изменяет мне.
Марджори прошла в дом выработать с кухаркой стратегию домашних дел на сегодня. Когда с этим было покончено, она удалилась к себе в гостиную, где отперла ящик с самыми потаенными секретами. Нынче утром она должна написать Гаю. Гая Ламбурна Марджори знала уже много-много лет, почти столько же, сколько себя помнит. Семейство Ламбурнов состояло в старинной дружбе с семейством Петертонов: на самом деле они даже в родстве состояли, правда, в отдаленном, как выражался мистер Петертон, они «где-то смыкались» – где-то поколения два назад. Марджори была двумя годами моложе Гая, оба были единственными детьми, и обстоятельства, естественно, то и дело сводили их вместе. Потом отец Гая умер, а вскоре за ним – и его мать, так что в возрасте семнадцати лет Гай, по сути, стал жить у Петертонов, поскольку старик был его опекуном. Теперь же они уже и помолвлены, то есть были более или менее помолвлены с первого года войны.
Марджори достала перо, чернила, бумагу. «Дорогой Гай!» – начала она… («А мы не сентиментальны», – как-то с пренебрежением, замешенным на тайной зависти, заметила она подружке, которая призналась ей наедине, что они с женихом никогда не обращаются в письмах друг к другу иначе как «милая», «милый», а то и еще ласковее.)… – «С нетерпением жду твоего очередного письма…» – И составила обычный утомительный перечень из нетерпений и ожиданий. – «Вчера у папы был день рождения, ему исполнилось шестьдесят пять. Мне даже подумать страшно, что когда-нибудь и мы с тобой будем такими же старыми. Тетя Эллен прислала ему стилтонского сыру[83 - Стилтонский сыр – известный сорт (пикантный голубой, с прожилками плесени), производился в городке Стилтон графства Хантингдоншир, высоко ценился любителями.] – полезный подарок в военное время. До чего ж скучно заниматься домашним хозяйством! При мысли о сырах у меня мозги быстренько превращаются в один из них – Gruy?re[84 - Грюйер – сорт высококачественного швейцарского твердого сыра.], – в котором и сыра-то нет, одни только дырки, наполненные пустотой…»
Правду сказать, она не очень-то против домашних дел. Ведение хозяйства воспринималось как само собой разумеющееся, и занималась она им просто потому, что кто-то им должен был заниматься. Гай, тот наоборот – ничего не принимал как само собой разумеющееся, так что все ее показное недовольство – это в его честь.
«Я прочла письма Китса, как ты советовал, и подумала, что они слишком великолепны…»
В конце страницы восторгов рука с пером замерла. О чем еще сказать? Ведь это же бессмыслица – писать письма о книгах, которые ты читаешь. Только больше писать было не о чем: ничего больше не случалось. Вот если разобраться, что случалось в ее жизни? То, как мама умирала, а ей было тогда шестнадцать; еще волнения оттого, что Гай переезжает к ним жить; еще война, только это для нее значило не много; еще Гай влюбился и они обручились. Вот, правду сказать, и все. Жаль, не дано ей написать о своих чувствах так же точно и замысловато, как выражаются герои романов… впрочем, если уж на то пошло, похоже, и нет у нее никаких чувств, достойных описания.
Она взглянула на последнее письмо Гая, пришедшее из Франции. «Иногда, – написал он, – меня мучает нестерпимое физическое желание обладать тобой. Не могу ни о чем другом думать, кроме как о твоей красоте, твоем юном, сильном теле. Мне ненавистно это, приходится бороться, чтобы подавить эту муку. Ты меня прощаешь?» Все же трепет берет оттого, что он способен такое чувствовать к ней: он всегда был так холоден, так сдержан, так противился сентиментальности: поцелуям, ласкам, которые ей, наверное, втайне понравились бы. Впрочем, он, похоже, был совершенно прав, когда сказал: «Мы должны любить, как существа разумные, – своим умом, а не руками да губами». И все равно…
Марджори макнула перо в чернила и снова принялась писать: «Мне знакомы чувства, о которых ты сказал в своем письме. Порой и я тоскую по тебе точно так же. Прошлой ночью мне снилось, что я держу тебя в своих объятиях, а проснулась – подушку руками обнимала». Прочла написанное. Слишком ужасно, слишком грубо! Надо бы вымарать. Хотя – нет, оставит, несмотря ни на что, просто чтоб увидеть, что он об этом подумает. Быстро закончила письмо – заклеила, запечатала и позвонила горничной, чтоб отнесла на почту. Когда прислуга ушла, Марджори громко бахнула, закрывая ящик. Бах – и письмо ушло безвозвратно.
– А разве не станет ужасно, когда вообще не нужно будет ничего делать на войну? – заговорил Якобсен. – Когда наступит мир, людям просто нечего будет делать и не о чем думать.
– А я буду рада. Домашнее хозяйство вести окажется куда легче.
– Верно. Есть чем и утешиться.
Марджори настороженно глянула на гостя: она не любила, когда над нею подсмеивались. Вот ведь какой непримечательный человечек! Низенький, толстенький, с навощенными каштановыми усами и лбом, который пробившаяся лысина сделала беспредельно большим. Похож на того сорта мужчин, кому говорят: «Благодарю вас, я приму банкнотами по цене фунта серебра». Под глазами у него мешки и под подбородком мешки, а по выражению лица ни за что не угадаешь, о чем он сейчас думает. Марджори радовало, что она выше гостя ростом и могла смотреть на него сверху вниз.
Из дома вышел мистер Петертон с серой шалью на плечах и с шуршащей распахнутой «Таймс» в руках.
– Добра вам от утра и до утра, – крикнул он.
На шекспировскую сердечность этого приветствия Марджори ответила ледяным современным: «Привет». Ее отец всегда говорил: «Добра вам от утра и до утра» – вместо «Доброе утро», и всякий раз, буквально всякий день в ее жизни, это вызывало у нее непременное раздражение.
– В сегодняшней газете интереснейшая история напечатана, – сообщил мистер Петертон. – Молодой летчик рассказывает о воздушном бое. – И, пока они прохаживались взад-вперед по усыпанной гравием дорожке, прочел статью, занявшую на странице целых полторы колонки.
Марджори даже не пыталась скрывать охватившую ее скуку и развлекалась тем, что вычитывала что-то на обратной стороне газетного листа, по-журавлиному вытянув и изогнув шею.
– Очень интересно, – произнес Якобсен, когда чтение закончилось.
Мистер Петертон меж тем перевернул страницу и просматривал хронику и объявления.
– Смотри-ка, – сказал он, – некто по имени Берил Кемберли-Белчер собирается жениться. Не знаешь, Марджори, он не родственник Говарду Кемберли-Белчеру?
– Я понятия не имею, кто такой Говард Кемберли-Белчер, – довольно резко ответила Марджори.
– А-а, я думал, ты знаешь. Позвольте-ка. Говард Кемберли-Белчер учился со мной в колледже. И у него был брат по имени Джеймс… или Уильям?.. а еще сестра, которая вышла замуж за одного из Райдерсов или, во всяком случае, за родственника Райдерсов, ведь я же знаю, что Кемберли-Белчеры и Райдерсы где-то смыкались. Силы небесные, боюсь, память на имена изменяет мне.
Марджори прошла в дом выработать с кухаркой стратегию домашних дел на сегодня. Когда с этим было покончено, она удалилась к себе в гостиную, где отперла ящик с самыми потаенными секретами. Нынче утром она должна написать Гаю. Гая Ламбурна Марджори знала уже много-много лет, почти столько же, сколько себя помнит. Семейство Ламбурнов состояло в старинной дружбе с семейством Петертонов: на самом деле они даже в родстве состояли, правда, в отдаленном, как выражался мистер Петертон, они «где-то смыкались» – где-то поколения два назад. Марджори была двумя годами моложе Гая, оба были единственными детьми, и обстоятельства, естественно, то и дело сводили их вместе. Потом отец Гая умер, а вскоре за ним – и его мать, так что в возрасте семнадцати лет Гай, по сути, стал жить у Петертонов, поскольку старик был его опекуном. Теперь же они уже и помолвлены, то есть были более или менее помолвлены с первого года войны.
Марджори достала перо, чернила, бумагу. «Дорогой Гай!» – начала она… («А мы не сентиментальны», – как-то с пренебрежением, замешенным на тайной зависти, заметила она подружке, которая призналась ей наедине, что они с женихом никогда не обращаются в письмах друг к другу иначе как «милая», «милый», а то и еще ласковее.)… – «С нетерпением жду твоего очередного письма…» – И составила обычный утомительный перечень из нетерпений и ожиданий. – «Вчера у папы был день рождения, ему исполнилось шестьдесят пять. Мне даже подумать страшно, что когда-нибудь и мы с тобой будем такими же старыми. Тетя Эллен прислала ему стилтонского сыру[83 - Стилтонский сыр – известный сорт (пикантный голубой, с прожилками плесени), производился в городке Стилтон графства Хантингдоншир, высоко ценился любителями.] – полезный подарок в военное время. До чего ж скучно заниматься домашним хозяйством! При мысли о сырах у меня мозги быстренько превращаются в один из них – Gruy?re[84 - Грюйер – сорт высококачественного швейцарского твердого сыра.], – в котором и сыра-то нет, одни только дырки, наполненные пустотой…»
Правду сказать, она не очень-то против домашних дел. Ведение хозяйства воспринималось как само собой разумеющееся, и занималась она им просто потому, что кто-то им должен был заниматься. Гай, тот наоборот – ничего не принимал как само собой разумеющееся, так что все ее показное недовольство – это в его честь.
«Я прочла письма Китса, как ты советовал, и подумала, что они слишком великолепны…»
В конце страницы восторгов рука с пером замерла. О чем еще сказать? Ведь это же бессмыслица – писать письма о книгах, которые ты читаешь. Только больше писать было не о чем: ничего больше не случалось. Вот если разобраться, что случалось в ее жизни? То, как мама умирала, а ей было тогда шестнадцать; еще волнения оттого, что Гай переезжает к ним жить; еще война, только это для нее значило не много; еще Гай влюбился и они обручились. Вот, правду сказать, и все. Жаль, не дано ей написать о своих чувствах так же точно и замысловато, как выражаются герои романов… впрочем, если уж на то пошло, похоже, и нет у нее никаких чувств, достойных описания.
Она взглянула на последнее письмо Гая, пришедшее из Франции. «Иногда, – написал он, – меня мучает нестерпимое физическое желание обладать тобой. Не могу ни о чем другом думать, кроме как о твоей красоте, твоем юном, сильном теле. Мне ненавистно это, приходится бороться, чтобы подавить эту муку. Ты меня прощаешь?» Все же трепет берет оттого, что он способен такое чувствовать к ней: он всегда был так холоден, так сдержан, так противился сентиментальности: поцелуям, ласкам, которые ей, наверное, втайне понравились бы. Впрочем, он, похоже, был совершенно прав, когда сказал: «Мы должны любить, как существа разумные, – своим умом, а не руками да губами». И все равно…
Марджори макнула перо в чернила и снова принялась писать: «Мне знакомы чувства, о которых ты сказал в своем письме. Порой и я тоскую по тебе точно так же. Прошлой ночью мне снилось, что я держу тебя в своих объятиях, а проснулась – подушку руками обнимала». Прочла написанное. Слишком ужасно, слишком грубо! Надо бы вымарать. Хотя – нет, оставит, несмотря ни на что, просто чтоб увидеть, что он об этом подумает. Быстро закончила письмо – заклеила, запечатала и позвонила горничной, чтоб отнесла на почту. Когда прислуга ушла, Марджори громко бахнула, закрывая ящик. Бах – и письмо ушло безвозвратно.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: