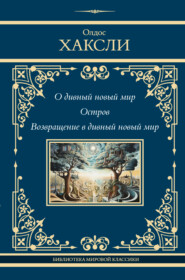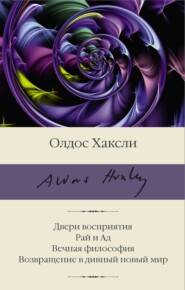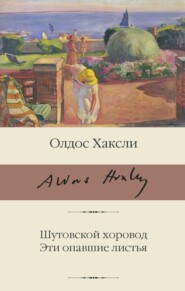По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Монашка к завтраку
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Руки прочь! – кричал Дик. – Пустите, черти! Сволочи! Свиньи! Сволочи! Свиньи! – снова и снова завывал Дик.
Санитары быстро привязали его ремнями к стулу, голову зафиксировали. Доктор поднес к лицу Дика жуткого вида трубки, а потом стал запихивать ему в ноздри. Дик давился, кашлял и отплевывался. Горло сдавливали рвотные спазмы, крики перешли в нечленораздельный вой. Это все равно, что говорить: «А-а-а-а-а!», когда корень языка прижат ложкой, только гораздо хуже. Дику казалось, что он нырнул в реку с головой и в ноздри попала вода. Ненавистные ощущения! Но даже они не шли ни в какое сравнение с тем, что Дик испытывал сейчас. До сих пор в его жизни не было ничего ужаснее.
Тщетно пытаясь освободиться, несчастный лишь окончательно выдохся. Санитарам пришлось перенести ослабевшего Дика на кровать. Он лежал на спине, не в силах пошевелить и пальцем, и смотрел в потолок. Дик словно плавал в приятной невесомости: казалось, он парит в воздухе, как бестелесный дух. Не желая расслабляться, Дик нарочно направлял свои мысли на только что пережитый кошмар. Его подвергли болезненной, гнусной пытке! Сделали жертвой чудовищной несправедливости! Дик задумался о миллионах убитых и погибающих прямо сейчас на войне, о боли всех и о боли каждого из несметного количества людей в отдельности. О боли, которую не передать словами, с которой остаешься один на один, без надежды на сострадание. О боли вечной, без начала и конца, заключенной в бренные тела, существование которых ограничено временем; о боли как таковой, не вмещенной в определенный объект; о боли, лишенной логики и смысла, затягивающей в черную пропасть отчаяния. В какой-то момент высшего откровения Дик увидел и ощутил вселенную во всем ее ужасе.
В течение двух последующих дней его снова подвергали кормлению через зонд. На четвертый день, как следствие общего стресса, у Дика началась пневмония, осложненная плевритом и острым воспалением горла. Жар и боль нашли благодатную почву в его организме. Ослабленный, Дик не мог сопротивляться болезни, и его состояние с каждым часом ухудшалось. Тем не менее его рассудок оставался абсолютно ясным. Дик понимал, что, скорее всего, умрет. Он попросил карандаш и бумагу и, собрав последние силы, начал писать завещание.
«Я полностью в здравом уме, – начал он и трижды подчеркнул эту фразу. – Меня удерживают здесь вследств. дичайш. ошиб. – Силы быстро убывали, и дописывать окончания длинных слов было бы непозволительной роскошью. – Меня убивают за мои убежд. Эта война, как и любые войны, – крайнее зло. Битва капиталистов. Рано или поздно демоны будут повержены. Увы, я ничем не могу помочь, но это уже неважно. – Через мгновение он добавил еще строчку. – Мир навсегда останется адом. Кап. или лейб., англ. или нем. – все сволочи. И лишь один на млн. ХОРОШИЙ. Нет, не я. Я был эгоистичным интеллектуалом. Может, Перл Беллер лучше меня. Если умру, отправьте тело в больн. морг для анат. иссл. Раз в жизни принесу пользу!»
Внезапно Дик впал в делирий. Его рассудок помутился. Вместо реальности перед глазами мелькали яркие размытые образы, порожденные больной фантазией, вспыхивали и меркли давно забытые эпизоды из детства. Над головой кружились страшные незнакомые лица, а потом Дик вдруг видел старых друзей. Он существовал в жутком водовороте знакомого и чужого. А на фоне вихря изменчивых видений почему-то двигался бесконечный караван верблюдов – процессия горбатых существ с головами горгулий и с негнущимися шеями и ногами, которые раскачивались, словно на пружинах. Как ни старался Дик, он не мог избавиться от страшного каравана. Он выходил из себя, кричал, замахивался на них – бесполезно.
– Убирайтесь вон, скоты! Проклятые уроды! Я не желаю видеть ваши кривые рожи! – орал на всю комнату Дик.
Пока он кричал и бешено размахивал рукой (исключительно левой), правая быстро-быстро писала на листке. Четкие и осмысленные слова складывались в понятные предложения. Если Дик бредил, то Перл Беллер с деловитым спокойствием продолжала свою позорную миссию. И что же выходило из-под ее неутомимого карандаша, пока Дик, словно чудаковатая Бетси Тротвуд[75 - Бетси Тротвуд – персонаж произведения Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».], кричал на призрачных верблюдов?
Первым делом Перл вычеркнула все, что написал о войне Дик, и внизу дописала следующее: «Мы не вложим в ножны мечи, которые нелегко…»[76 - Имеется в виду речь премьер-министра Великобритании Г. Асквита, произнесенная в 1914 году: «Мы не вложим в ножны мечи, которые нелегко обнажили, пока: Бельгия не вернет в полной мере все – и даже больше, – чем она пожертвовала; пока Франция не будет достаточно обеспечена от угрозы нашествия; пока права малых национальностей Европы не будут поставлены на непоколебимое основание; и пока военное господство Пруссии не будет разрушено вполне и окончательно».] Затем, очевидно, решив, что использование знаменитой цитаты сделает предложение длинным, слишком длинным, учитывая недавнее присоединение к списку союзников Польши и Чехословакии, она начала заново: «Мы сражаемся за честь и права малых национальностей! За храбрую маленькую Бельгию! Мы вступили в войну с чистыми руками!»
Обрывок мысли Перл каким-то образом проник в сознание Дика. Он перестал сражаться со своими верблюдами и громко завыл жалостным голосом: «Чистые руки! Чистые руки! Я не могу отмыть руки! Не могу! Не могу! Не могу! Я все пачкаю!» Дик яростно тер ладонью левой руки о простыню и, периодически поднося пальцы к носу, восклицал: «Ох, воняет, как в хлеву!» – а потом снова и снова тер.
А в это время правая рука безостановочно писала: «Никакого мира с гуннами[77 - Гунны – британцы о немцах. Для закрепления варварского образа немцев британская пропаганда называла их в СМИ гуннами. В английских городах начались немецкие погромы – разъяренная толпа крушила магазины, лавки и рестораны, принадлежавшие немцам. По Лондону ходили слухи, будто кругом полно немецких шпионов. Лишь незначительная часть образованных слоев британского общества выступила против войны и очернения образа немцев. Правительство Великобритании, не в силах обуздать народные волнения, объявило 13 мая 1915 г., что этнические немцы мужского пола призывного возраста будут интернированы в лагеря, а женщины, дети и старики – высланы из страны.], пока они не будут сокрушены и поставлены на колени. Еще долгие годы после войны ни один уважающий себя британец не подаст руки гунну. Выгнать вон немецких официантов! Интернировать сорок семь тысяч тайных агентов, пригревшихся в теплых местах!»
Внезапно Перл осенила новая идея: она взяла чистый лист и начала строчить: «Девушкам Британии. Я женщина и горжусь этим. Но, милые мои, не раз мне приходилось краснеть за свой пол, когда я читала в газетах, что наши девушки разговаривали с пленными гуннами. И более того, позволяли себя целовать! Подумать только! Чистых, здоровых британских девушек касаются скотские, обагренные кровью губы омерзительных гуннов! Удивительно ли, что мне стыдно за свой пол? Куда катится наше Отечество? Увы, старая добрая Англия уже не та, раз случаются подобные истории! Нет слов, чтобы выразить печаль и тяжесть, лежащую на моем исстрадавшемся сердце, но я вынуждена признать: эти истории не вымысел».
– Чистые руки! Чистые руки! – бормотал Дик и, в очередной раз поднеся пальцы к носу, воскликнул: – Боже! Они воняют козлятиной и навозом!
«Есть ли оправдание такому поведению? – сам собой выводил карандаш. – Единственное возможное объяснение – легкомыслие наших девушек. Они не ведают, что творят. Я обращаюсь к девушкам всех возрастов, классов и вероисповеданий: от беспечных голубоглазых юных кокеток до закаленных в борьбе с жизненными невзгодами опытных дам. Легкомысленное поведение очаровательно, но стоит пересечь невидимую черту, и оно становится преступным! Девушка целует гунна просто так, ради забавы или из жалости, которой тот не заслуживает. Повторит ли она свой проступок, если будет знать, что бездумный поцелуй – вовсе не развлечение и не выражение неуместного, смехотворного сочувствия, а самая настоящая измена Родине? Измена – слово сильное, однако…»
Карандаш застыл в воздухе. Даже Перл начала понемногу уставать. Дик больше не кричал, его громкие возгласы превратились в едва различимый сиплый шепот. Внезапно Перл заметила просьбу Дика в случае его смерти отправить тело в больничный морг для анатомических исследований.
Собрав последние силы, она вывела крупными буквами: «НЕТ! НЕТ! Похороните меня на маленьком сельском кладбище. И пусть на моей могиле будут мраморные ангелочки, как у принцессы Шарлотты[78 - Принцесса Шарлотта Августа Уэльская (1796–1817) – супруга принца Леопольда Саксен-Кобургского, любимица всей Великобритании, безвременно погибшая в ходе тяжелых родов. Похоронена в семейной усыпальнице британских королей – в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке. На могиле установлено красивое мраморное надгробие в виде скульптурной группы.]в капелле Святого Георгия в Виндзоре. Только не вскрытие. Слишком ужасно, слишком отврат…»
Кома, отключившая сознание Дика, поглотила и разум Перл. Два часа спустя Дик Гринау умер. Пальцы правой руки все еще сжимали карандаш. Санитары выбросили листки с записями, сочтя их обычными каракулями безумца; персонал лечебницы давно привык к таким вещам.
И не было с тех пор конца их счастью
[79 - © Перевод. В. Мисюченко, 2019.]
I
Даже в самые лучшие времена путь от Чикаго до Блайбери в Уилтшире был неблизким, а война так и вовсе громадную пропасть между ними проложила. А потому – применительно к обстоятельствам – то, что Питер Якобсен на четвертом году войны проделал весь этот путь со Среднего Запада, чтобы проведать старинного своего друга Петертона, выглядело по меньшей мере образцом исключительной преданности, тем более что пришлось к тому же выдержать рукопашную схватку с двумя великими державами в вопросе о паспортах и, когда те были получены, подвергнуться риску, как то ни прискорбно, пропасть в пути, сделавшись жертвой всеобщего ужаса.
Потратив много времени и претерпев еще больше невзгод, Якобсен в конце концов до места добрался: пропасть между Чикаго и Блайбери была одолена. В прихожей дома Петертона сцена радушного приема разыгрывалась под потемневшими ликами на шести-семи семейных портретах кисти неизвестных мастеров восемнадцатого и девятнадцатого веков.
Старый Альфред Петертон, плечи которого укрывала серая шаль (увы, ему приходилось беречься от сквозняков и простуд даже в июне), долго и с бесконечной сердечностью тряс руку гостя.
– Мальчик мой дорогой, – все повторял он, – какое же это удовольствие видеть вас. Мальчик мой дорогой…
Якобсен безвольно предоставил старику распоряжаться своей рукой и терпеливо ждал.
– Мне никогда вполне не выразить своей признательности, – продолжил приветственную речь мистер Петертон, – никогда вполне не выразить вам признательность за то, что вы пошли на все эти бесконечные мытарства и прошли их, чтобы приехать и повидать дряхлого старика, ибо именно таким я и стал теперь, таков я и есть, поверьте мне.
– О, уверяю вас… – произнес Якобсен с протестующей ноткой в голосе. А про себя заметил: «Le vieux cretin qui pleurniche»[80 - Престарелый идиот еще и хнычет (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.]. Французский – чудо какой выразительный язык, это уж точно.
– С тех пор как мы виделись в последний раз, у меня с пищеварением и с сердцем стало гораздо хуже. Впрочем, по-моему, я писал вам об этом в своих письмах.
– Действительно, писали. И мне было крайне горестно слышать такое.
– «Горестно»… что за необычный привкус у этого слова! Как чей-то чай, напоминавший бывало о вкуснейших смесях сорокалетней давности. Однако это решительно mot juste[81 - Надлежащее слово (фр.).]. В нем четко слышится некий погребальный оттенок.
– Да, – продолжил, помолчав, мистер Петертон, – с сердцебиением у меня теперь совсем плохо. Ведь так, Марджори? – он обратился к стоявшей рядом дочери.
– У папы с сердцебиением совсем плохо, – с готовностью поддакнула та.
Как будто разговор у них шел о некоей фамильной драгоценности, давно и любовно оберегаемой.
– И пищеварение у меня… Эти физические немощи так затрудняют всяческую умственную деятельность! Все равно мне удается делать хоть что-то полезное. Ну, об этом мы позже поговорим, впрочем. Вы, должно быть, после своего путешествия здорово устали и пропылились. Я провожу вас в вашу комнату. Марджори, будь добра, попроси кого-нибудь отнести его вещи.
– Я их сам отнесу, – сказал Якобсен, поднимая с пола небольшой кожаный саквояж, оставленный им у двери.
– И это все? – поразился мистер Петертон.
– Да, это все.
Как человек, ведший жизнь на основе разумности, Якобсен противился накоплению вещей. Очень уж легко сделаться их рабом, отнюдь не их хозяином. Ему нравилось быть свободным: он усмирял свои инстинкты стяжательства и ограничивал свое имущество исключительно необходимым. Для него Блайбери был таким же родным (или таким же неродным) домом, как и Пекин. Все это он мог бы разъяснить, если б захотел. Однако в данном случае утруждаться не имело смысла.
– Вот ваша скромная обитель, – произнес мистер Петертон, широко распахивая дверь, которая вела, надо отдать должное, в очень симпатичную гостевую комнату, яркую от светлой расписной ситцевой обивки и штор, свежих цветов и серебряных канделябров. – Бедновато, зато ваша собственная.
Аристократическая обходительность! Чудный старинушка! Котировка в самый раз! Якобсен разбирал свой саквояж, аккуратно и методично распределяя его содержимое по разным ящикам и полочкам в гардеробе.
Уже много-много лет минуло с тех пор, как Якобсен, совершая великое образовательное турне, попал в Оксфорд. Там он провел пару лет, поскольку место пришлось ему по вкусу, а обитатели его стали источником неизменных увеселений.
Норвежец, рожденный в Аргентине, получивший образование в Соединенных Штатах, Франции и Германии, человек без национальности и без предрассудков, набравшийся невероятного жизненного опыта, он вдруг обнаружил нечто новое, свеженькое и забавное в своих однокашниках по университету с их комичными традициями средней школы и баснословным невежеством в отношении устройства мира. Он исподтишка наблюдал за всеми их ребячливыми кривляньями, чувствуя, как разделяет их решетка из железных прутьев и что ему следовало бы после всякой особенно забавной выходки предлагать сидящим в клетке лакомство или горсть арахисовых орешков. В перерывах между посещениями этого необычного и восхитительного Jardin des Plantes[82 - Название Зоологического (Ботанического) сада в Париже.] он читал Великих и Мудрых, и как раз Аристотель помог ему сойтись с Альфредом Петертоном, научным сотрудником и преподавателем их колледжа.
Имя Петертона пользовалось уважением в ученом мире. Вы отыщете его на титульных листах таких достойных, если не попросту блистательных, трудов, как «Предшественники Платона», «Три шотландских метафизика», «Введение в изучение этики», «Очерки по неоидеализму». Целый ряд его работ был издан дешевыми выпусками в качестве учебных пособий.
Между преподавателем и студентом протянулись те самые непонятные, необъяснимые дружеские узы, которые зачастую связывают самих несхожих людей, – и узы эти так и оставались нерушимыми в течение двадцати лет. Петертон испытывал к молодому человеку отеческое расположение и так же по-отечески гордился теперь тем, что Якобсен обрел мировую известность, что когда-то, как полагал старец, он способствовал его духовному становлению. И вот теперь Якобсен одолел три-четыре тысячи миль через весь охваченный войной мир, чтобы повидаться со стариком. Петертон был тронут до глубины души.
– Вам по пути сюда не попадались подводные лодки? – задала вопрос Марджори, когда на следующий день после завтрака они с Якобсеном прогуливались по саду.
– Ни одной не заметил, с другой стороны, я вообще на такие вещи не очень приметлив.
Повисла пауза. Наконец Марджори нашла, о чем еще спросить:
– Я так полагаю, сейчас в Америке очень много делается на войну, верно?
Якобсен тоже так полагал, и в памяти его поплыли картины многочисленных оркестров, ораторов с мегафонами, патриотических транспарантов, улиц, ставших опасными из-за организованных ограблений на дорогах сборщиков пожертвований на Красный Крест. Ему было чересчур лень описывать все это, к тому же ничего она в этом не поймет.
– Мне бы хотелось суметь хоть что-нибудь сделать на войну, – пояснила Марджори, словно извиняясь. – Но приходится ухаживать за папой, а потом еще домашнее хозяйство, так что у меня, правду сказать, нет времени.
Санитары быстро привязали его ремнями к стулу, голову зафиксировали. Доктор поднес к лицу Дика жуткого вида трубки, а потом стал запихивать ему в ноздри. Дик давился, кашлял и отплевывался. Горло сдавливали рвотные спазмы, крики перешли в нечленораздельный вой. Это все равно, что говорить: «А-а-а-а-а!», когда корень языка прижат ложкой, только гораздо хуже. Дику казалось, что он нырнул в реку с головой и в ноздри попала вода. Ненавистные ощущения! Но даже они не шли ни в какое сравнение с тем, что Дик испытывал сейчас. До сих пор в его жизни не было ничего ужаснее.
Тщетно пытаясь освободиться, несчастный лишь окончательно выдохся. Санитарам пришлось перенести ослабевшего Дика на кровать. Он лежал на спине, не в силах пошевелить и пальцем, и смотрел в потолок. Дик словно плавал в приятной невесомости: казалось, он парит в воздухе, как бестелесный дух. Не желая расслабляться, Дик нарочно направлял свои мысли на только что пережитый кошмар. Его подвергли болезненной, гнусной пытке! Сделали жертвой чудовищной несправедливости! Дик задумался о миллионах убитых и погибающих прямо сейчас на войне, о боли всех и о боли каждого из несметного количества людей в отдельности. О боли, которую не передать словами, с которой остаешься один на один, без надежды на сострадание. О боли вечной, без начала и конца, заключенной в бренные тела, существование которых ограничено временем; о боли как таковой, не вмещенной в определенный объект; о боли, лишенной логики и смысла, затягивающей в черную пропасть отчаяния. В какой-то момент высшего откровения Дик увидел и ощутил вселенную во всем ее ужасе.
В течение двух последующих дней его снова подвергали кормлению через зонд. На четвертый день, как следствие общего стресса, у Дика началась пневмония, осложненная плевритом и острым воспалением горла. Жар и боль нашли благодатную почву в его организме. Ослабленный, Дик не мог сопротивляться болезни, и его состояние с каждым часом ухудшалось. Тем не менее его рассудок оставался абсолютно ясным. Дик понимал, что, скорее всего, умрет. Он попросил карандаш и бумагу и, собрав последние силы, начал писать завещание.
«Я полностью в здравом уме, – начал он и трижды подчеркнул эту фразу. – Меня удерживают здесь вследств. дичайш. ошиб. – Силы быстро убывали, и дописывать окончания длинных слов было бы непозволительной роскошью. – Меня убивают за мои убежд. Эта война, как и любые войны, – крайнее зло. Битва капиталистов. Рано или поздно демоны будут повержены. Увы, я ничем не могу помочь, но это уже неважно. – Через мгновение он добавил еще строчку. – Мир навсегда останется адом. Кап. или лейб., англ. или нем. – все сволочи. И лишь один на млн. ХОРОШИЙ. Нет, не я. Я был эгоистичным интеллектуалом. Может, Перл Беллер лучше меня. Если умру, отправьте тело в больн. морг для анат. иссл. Раз в жизни принесу пользу!»
Внезапно Дик впал в делирий. Его рассудок помутился. Вместо реальности перед глазами мелькали яркие размытые образы, порожденные больной фантазией, вспыхивали и меркли давно забытые эпизоды из детства. Над головой кружились страшные незнакомые лица, а потом Дик вдруг видел старых друзей. Он существовал в жутком водовороте знакомого и чужого. А на фоне вихря изменчивых видений почему-то двигался бесконечный караван верблюдов – процессия горбатых существ с головами горгулий и с негнущимися шеями и ногами, которые раскачивались, словно на пружинах. Как ни старался Дик, он не мог избавиться от страшного каравана. Он выходил из себя, кричал, замахивался на них – бесполезно.
– Убирайтесь вон, скоты! Проклятые уроды! Я не желаю видеть ваши кривые рожи! – орал на всю комнату Дик.
Пока он кричал и бешено размахивал рукой (исключительно левой), правая быстро-быстро писала на листке. Четкие и осмысленные слова складывались в понятные предложения. Если Дик бредил, то Перл Беллер с деловитым спокойствием продолжала свою позорную миссию. И что же выходило из-под ее неутомимого карандаша, пока Дик, словно чудаковатая Бетси Тротвуд[75 - Бетси Тротвуд – персонаж произведения Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».], кричал на призрачных верблюдов?
Первым делом Перл вычеркнула все, что написал о войне Дик, и внизу дописала следующее: «Мы не вложим в ножны мечи, которые нелегко…»[76 - Имеется в виду речь премьер-министра Великобритании Г. Асквита, произнесенная в 1914 году: «Мы не вложим в ножны мечи, которые нелегко обнажили, пока: Бельгия не вернет в полной мере все – и даже больше, – чем она пожертвовала; пока Франция не будет достаточно обеспечена от угрозы нашествия; пока права малых национальностей Европы не будут поставлены на непоколебимое основание; и пока военное господство Пруссии не будет разрушено вполне и окончательно».] Затем, очевидно, решив, что использование знаменитой цитаты сделает предложение длинным, слишком длинным, учитывая недавнее присоединение к списку союзников Польши и Чехословакии, она начала заново: «Мы сражаемся за честь и права малых национальностей! За храбрую маленькую Бельгию! Мы вступили в войну с чистыми руками!»
Обрывок мысли Перл каким-то образом проник в сознание Дика. Он перестал сражаться со своими верблюдами и громко завыл жалостным голосом: «Чистые руки! Чистые руки! Я не могу отмыть руки! Не могу! Не могу! Не могу! Я все пачкаю!» Дик яростно тер ладонью левой руки о простыню и, периодически поднося пальцы к носу, восклицал: «Ох, воняет, как в хлеву!» – а потом снова и снова тер.
А в это время правая рука безостановочно писала: «Никакого мира с гуннами[77 - Гунны – британцы о немцах. Для закрепления варварского образа немцев британская пропаганда называла их в СМИ гуннами. В английских городах начались немецкие погромы – разъяренная толпа крушила магазины, лавки и рестораны, принадлежавшие немцам. По Лондону ходили слухи, будто кругом полно немецких шпионов. Лишь незначительная часть образованных слоев британского общества выступила против войны и очернения образа немцев. Правительство Великобритании, не в силах обуздать народные волнения, объявило 13 мая 1915 г., что этнические немцы мужского пола призывного возраста будут интернированы в лагеря, а женщины, дети и старики – высланы из страны.], пока они не будут сокрушены и поставлены на колени. Еще долгие годы после войны ни один уважающий себя британец не подаст руки гунну. Выгнать вон немецких официантов! Интернировать сорок семь тысяч тайных агентов, пригревшихся в теплых местах!»
Внезапно Перл осенила новая идея: она взяла чистый лист и начала строчить: «Девушкам Британии. Я женщина и горжусь этим. Но, милые мои, не раз мне приходилось краснеть за свой пол, когда я читала в газетах, что наши девушки разговаривали с пленными гуннами. И более того, позволяли себя целовать! Подумать только! Чистых, здоровых британских девушек касаются скотские, обагренные кровью губы омерзительных гуннов! Удивительно ли, что мне стыдно за свой пол? Куда катится наше Отечество? Увы, старая добрая Англия уже не та, раз случаются подобные истории! Нет слов, чтобы выразить печаль и тяжесть, лежащую на моем исстрадавшемся сердце, но я вынуждена признать: эти истории не вымысел».
– Чистые руки! Чистые руки! – бормотал Дик и, в очередной раз поднеся пальцы к носу, воскликнул: – Боже! Они воняют козлятиной и навозом!
«Есть ли оправдание такому поведению? – сам собой выводил карандаш. – Единственное возможное объяснение – легкомыслие наших девушек. Они не ведают, что творят. Я обращаюсь к девушкам всех возрастов, классов и вероисповеданий: от беспечных голубоглазых юных кокеток до закаленных в борьбе с жизненными невзгодами опытных дам. Легкомысленное поведение очаровательно, но стоит пересечь невидимую черту, и оно становится преступным! Девушка целует гунна просто так, ради забавы или из жалости, которой тот не заслуживает. Повторит ли она свой проступок, если будет знать, что бездумный поцелуй – вовсе не развлечение и не выражение неуместного, смехотворного сочувствия, а самая настоящая измена Родине? Измена – слово сильное, однако…»
Карандаш застыл в воздухе. Даже Перл начала понемногу уставать. Дик больше не кричал, его громкие возгласы превратились в едва различимый сиплый шепот. Внезапно Перл заметила просьбу Дика в случае его смерти отправить тело в больничный морг для анатомических исследований.
Собрав последние силы, она вывела крупными буквами: «НЕТ! НЕТ! Похороните меня на маленьком сельском кладбище. И пусть на моей могиле будут мраморные ангелочки, как у принцессы Шарлотты[78 - Принцесса Шарлотта Августа Уэльская (1796–1817) – супруга принца Леопольда Саксен-Кобургского, любимица всей Великобритании, безвременно погибшая в ходе тяжелых родов. Похоронена в семейной усыпальнице британских королей – в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке. На могиле установлено красивое мраморное надгробие в виде скульптурной группы.]в капелле Святого Георгия в Виндзоре. Только не вскрытие. Слишком ужасно, слишком отврат…»
Кома, отключившая сознание Дика, поглотила и разум Перл. Два часа спустя Дик Гринау умер. Пальцы правой руки все еще сжимали карандаш. Санитары выбросили листки с записями, сочтя их обычными каракулями безумца; персонал лечебницы давно привык к таким вещам.
И не было с тех пор конца их счастью
[79 - © Перевод. В. Мисюченко, 2019.]
I
Даже в самые лучшие времена путь от Чикаго до Блайбери в Уилтшире был неблизким, а война так и вовсе громадную пропасть между ними проложила. А потому – применительно к обстоятельствам – то, что Питер Якобсен на четвертом году войны проделал весь этот путь со Среднего Запада, чтобы проведать старинного своего друга Петертона, выглядело по меньшей мере образцом исключительной преданности, тем более что пришлось к тому же выдержать рукопашную схватку с двумя великими державами в вопросе о паспортах и, когда те были получены, подвергнуться риску, как то ни прискорбно, пропасть в пути, сделавшись жертвой всеобщего ужаса.
Потратив много времени и претерпев еще больше невзгод, Якобсен в конце концов до места добрался: пропасть между Чикаго и Блайбери была одолена. В прихожей дома Петертона сцена радушного приема разыгрывалась под потемневшими ликами на шести-семи семейных портретах кисти неизвестных мастеров восемнадцатого и девятнадцатого веков.
Старый Альфред Петертон, плечи которого укрывала серая шаль (увы, ему приходилось беречься от сквозняков и простуд даже в июне), долго и с бесконечной сердечностью тряс руку гостя.
– Мальчик мой дорогой, – все повторял он, – какое же это удовольствие видеть вас. Мальчик мой дорогой…
Якобсен безвольно предоставил старику распоряжаться своей рукой и терпеливо ждал.
– Мне никогда вполне не выразить своей признательности, – продолжил приветственную речь мистер Петертон, – никогда вполне не выразить вам признательность за то, что вы пошли на все эти бесконечные мытарства и прошли их, чтобы приехать и повидать дряхлого старика, ибо именно таким я и стал теперь, таков я и есть, поверьте мне.
– О, уверяю вас… – произнес Якобсен с протестующей ноткой в голосе. А про себя заметил: «Le vieux cretin qui pleurniche»[80 - Престарелый идиот еще и хнычет (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.]. Французский – чудо какой выразительный язык, это уж точно.
– С тех пор как мы виделись в последний раз, у меня с пищеварением и с сердцем стало гораздо хуже. Впрочем, по-моему, я писал вам об этом в своих письмах.
– Действительно, писали. И мне было крайне горестно слышать такое.
– «Горестно»… что за необычный привкус у этого слова! Как чей-то чай, напоминавший бывало о вкуснейших смесях сорокалетней давности. Однако это решительно mot juste[81 - Надлежащее слово (фр.).]. В нем четко слышится некий погребальный оттенок.
– Да, – продолжил, помолчав, мистер Петертон, – с сердцебиением у меня теперь совсем плохо. Ведь так, Марджори? – он обратился к стоявшей рядом дочери.
– У папы с сердцебиением совсем плохо, – с готовностью поддакнула та.
Как будто разговор у них шел о некоей фамильной драгоценности, давно и любовно оберегаемой.
– И пищеварение у меня… Эти физические немощи так затрудняют всяческую умственную деятельность! Все равно мне удается делать хоть что-то полезное. Ну, об этом мы позже поговорим, впрочем. Вы, должно быть, после своего путешествия здорово устали и пропылились. Я провожу вас в вашу комнату. Марджори, будь добра, попроси кого-нибудь отнести его вещи.
– Я их сам отнесу, – сказал Якобсен, поднимая с пола небольшой кожаный саквояж, оставленный им у двери.
– И это все? – поразился мистер Петертон.
– Да, это все.
Как человек, ведший жизнь на основе разумности, Якобсен противился накоплению вещей. Очень уж легко сделаться их рабом, отнюдь не их хозяином. Ему нравилось быть свободным: он усмирял свои инстинкты стяжательства и ограничивал свое имущество исключительно необходимым. Для него Блайбери был таким же родным (или таким же неродным) домом, как и Пекин. Все это он мог бы разъяснить, если б захотел. Однако в данном случае утруждаться не имело смысла.
– Вот ваша скромная обитель, – произнес мистер Петертон, широко распахивая дверь, которая вела, надо отдать должное, в очень симпатичную гостевую комнату, яркую от светлой расписной ситцевой обивки и штор, свежих цветов и серебряных канделябров. – Бедновато, зато ваша собственная.
Аристократическая обходительность! Чудный старинушка! Котировка в самый раз! Якобсен разбирал свой саквояж, аккуратно и методично распределяя его содержимое по разным ящикам и полочкам в гардеробе.
Уже много-много лет минуло с тех пор, как Якобсен, совершая великое образовательное турне, попал в Оксфорд. Там он провел пару лет, поскольку место пришлось ему по вкусу, а обитатели его стали источником неизменных увеселений.
Норвежец, рожденный в Аргентине, получивший образование в Соединенных Штатах, Франции и Германии, человек без национальности и без предрассудков, набравшийся невероятного жизненного опыта, он вдруг обнаружил нечто новое, свеженькое и забавное в своих однокашниках по университету с их комичными традициями средней школы и баснословным невежеством в отношении устройства мира. Он исподтишка наблюдал за всеми их ребячливыми кривляньями, чувствуя, как разделяет их решетка из железных прутьев и что ему следовало бы после всякой особенно забавной выходки предлагать сидящим в клетке лакомство или горсть арахисовых орешков. В перерывах между посещениями этого необычного и восхитительного Jardin des Plantes[82 - Название Зоологического (Ботанического) сада в Париже.] он читал Великих и Мудрых, и как раз Аристотель помог ему сойтись с Альфредом Петертоном, научным сотрудником и преподавателем их колледжа.
Имя Петертона пользовалось уважением в ученом мире. Вы отыщете его на титульных листах таких достойных, если не попросту блистательных, трудов, как «Предшественники Платона», «Три шотландских метафизика», «Введение в изучение этики», «Очерки по неоидеализму». Целый ряд его работ был издан дешевыми выпусками в качестве учебных пособий.
Между преподавателем и студентом протянулись те самые непонятные, необъяснимые дружеские узы, которые зачастую связывают самих несхожих людей, – и узы эти так и оставались нерушимыми в течение двадцати лет. Петертон испытывал к молодому человеку отеческое расположение и так же по-отечески гордился теперь тем, что Якобсен обрел мировую известность, что когда-то, как полагал старец, он способствовал его духовному становлению. И вот теперь Якобсен одолел три-четыре тысячи миль через весь охваченный войной мир, чтобы повидаться со стариком. Петертон был тронут до глубины души.
– Вам по пути сюда не попадались подводные лодки? – задала вопрос Марджори, когда на следующий день после завтрака они с Якобсеном прогуливались по саду.
– Ни одной не заметил, с другой стороны, я вообще на такие вещи не очень приметлив.
Повисла пауза. Наконец Марджори нашла, о чем еще спросить:
– Я так полагаю, сейчас в Америке очень много делается на войну, верно?
Якобсен тоже так полагал, и в памяти его поплыли картины многочисленных оркестров, ораторов с мегафонами, патриотических транспарантов, улиц, ставших опасными из-за организованных ограблений на дорогах сборщиков пожертвований на Красный Крест. Ему было чересчур лень описывать все это, к тому же ничего она в этом не поймет.
– Мне бы хотелось суметь хоть что-нибудь сделать на войну, – пояснила Марджори, словно извиняясь. – Но приходится ухаживать за папой, а потом еще домашнее хозяйство, так что у меня, правду сказать, нет времени.