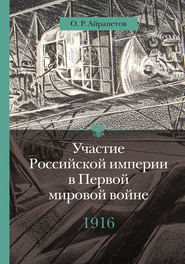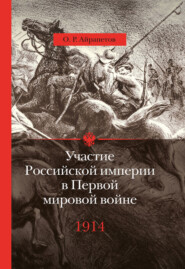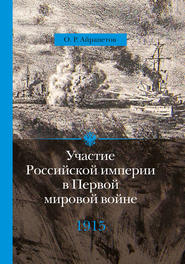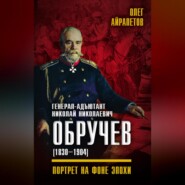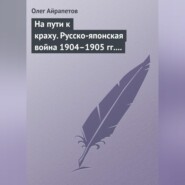По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Портрет на фоне эпохи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
.
В-третьих, армия должна быть соразмерна с материальной силой государства, так как главное условие ее силы – материальное могущество народа (страны)
.
В-четвертых, армия должна иметь хорошо подготовленный, образованный состав войск, так как «результат кампании зависит часто от одного сражения, сражение же решается иногда в одно мгновение, на одном каком-нибудь пункте; следовательно, успех боя будет в руках того, кто в этот момент бросит на спорный пункт колонну лучшего качества. Качество же войск зависит от физического состава, от степени их искусства, от образования офицеров и высших чинов армии и, наконец, от духа, ее оживляющего»
.
Все четыре условия новы для военной подцензурной печати. Но, если связь военной мощи с экономическим потенциалом продемонстрировал Севастополь, то мысль об ответственности армии и флота за демографический процесс в России, за будущее русского народа нова не только для печати, но и для общественного сознания (впрочем, от одной составной части этой программы Обручев откажется – Россия не могла, в отличие от Европы, не иметь большую армию, ее геополитическое положение не оставляло ей выбора). Выводы, которые сделал Обручев из перечисленных условий, представляют собой как бы конспект будущих военных реформ и изменений в тактике боя пехоты (усвоенных, к сожалению, с большим опозданием): 1) армия и флот должны быть усилены созданием милиционных частей, ополчением, развитием торгового флота; 2) сроки службы должны быть сокращены, что гарантирует увеличение обученных кадров; 3) военная повинность должна стремиться к всесословности, чтобы возможно большее число «дозревших к службе людей»
получили бы военную подготовку. Будущее русских вооруженных сил, таким образом, – постоянная армия, через которую проходит все «мужающее население страны» и которая будет сокращаться, и резерв, значение которого будет постоянно расти. Призывной возраст, считает Обручев, начинается с 21 года, когда рекрут набирает должную физическую силу, но идеальный возраст для солдата действующей армии – от 25 до 35 лет, лица старше 35 лет должны отчисляться в резерв, польза же от 45-летнего солдата, постоянно служившего в армии, невелика
. Сокращение сроков службы, исходя из этого, становится просто необходимым.
Но, пожалуй, самые сильные и смелые мысли в рассуждениях Обручева представляют его размышления об изменении в положении рядового, унтер-офицерского и офицерского состава армии. Появившаяся на вооружении армий казнозарядная винтовка, которую по традиции еще называли штуцером, изменила не только значение легкой и линейной пехоты, но и пехоты как рода войск и артиллерии. Впервые легкое стрелковое оружие стало эффективнее артиллерии на ближних дистанциях. На расстоянии 250 шагов картечь действовала слабо, а штуцер давал 35 % попаданий
, что и давало возможность рассеивать колонны и выводить из строя артиллерийскую прислугу. Эту тактику применяли русские егеря в борьбе с венгерской армией в 1849 году. Но, как это часто бывает, победа заслонила новую тенденцию, вспомнить ее пришлось уже в Крымскую войну.
«Огонь цепей, – делает вывод Обручев, – опасный для артиллерии, будет гибелен для сомкнутых частей, для кучек, для начальников. Рассыпной строй сделается в бою употребительнейшим, главным строем; следовательно, выгода усовершенствования будет на стороне того, чьи люди развитее, способнее к обучению, предприимчивее и обладают большею самостоятельностью, в цепи каждый стрелок предоставлен самому себе»
. Итак, будущее за пехотой, действующей рассыпным строем, это вызовет дальнейшее падение значения кавалерии и изменение в артиллерийском парке: на поле боя будут господствовать нарезные орудия из литой стали с коническими ядрами, усовершенствованной картечной гранатой, которые позволят бороться со штуцером
.
Но рассыпной строй требовал увеличения офицерского корпуса, почти удвоиться должен был младший офицерский состав – ведь на роту в 250 человек полагался всего один офицер. Естественно, такую массу людей он мог вести только в колонне, и солдат не готовился к самостоятельным действиям (за исключением егерей). Обручев считал, что для рассыпного строя необходимо соотношение как минимум один офицер на 100–120 рядовых
.
Для увеличения числа офицеров Обручев предлагал два пути, и если первый – расширение и улучшение системы специального образования для офицеров и их детей – не выходил за рамки привычных мер, то второй – улучшение положения унтер-офицеров, их образования, и открытие для них перспективы производства в офицеры – не был традиционным и отторгался вплоть до чудовищных потерь кадровых офицеров в Первой мировой войне: «Необходимо владеть ею (силой духа. – О. А.) в солдате, чтобы сделать ее несокрушимым орудием против неприятеля и безвредною для мирных жителей. А это возможно только если в самом последнем солдате чтить его человеческое достоинство. Только хороший человек может быть хорошим воином, честным слугою Отечеству и Государю. Каждому солдату открыта дорога в офицеры, можно ли давить в нем чувство, без которого он будет после никуда не годен», – заключал Обручев
.
Нетрудно заметить, что это первое выступление в подцензурной военной печати с широкой программой военных реформ имело по-прежнему профессиональную аргументацию. В области военной эта программа предполагает модернизацию военных структур Империи. Осуществление этой программы улучшило бы боеспособность армии, изменило отношение к солдату как личности, но не сократило бы влияние армии на общество, а скорее наоборот. Подтвержу эту мысль мнением Клаузевица: «Как бы ни мыслили себе совершенное воспитание в одной и той же личности качеств гражданина и воина, в какой бы мере ни представляли войну общенациональной и ушедшей в направлении, противоположном эпохе кондотьер, – все же никогда не удастся устранить профессиональное разнообразие военного дела, а раз это так, то те, которые занимаются военным делом, и пока они им занимаются, будут смотреть на себя как на корпорацию, в порядках, законах и обычаях которой и фиксируются факторы войны. Так это будет на самом деле. Потому было бы большой ошибкой при решительной склонности рассматривать войну с высшей точки зрения недооценивать этот специальный дух обособления (Esprit de Corps), который в большей или меньшей степени может и должен быть свойственен войскам»
. Всеобщая воинская повинность лишь усиливает корпоративный дух кадровых военных, а с ростом резерва увеличивается и число людей, вовлеченных в сферу влияния армии и ее специфической военной идеологии. Этого так и не поняла редакция журнала, где Чернышевский действительно играл значительную роль – обозрение «Современника» хвалило Обручева за любовь к миру, в этом журнале его объявили не столько военным, сколько мирным писателем
.
Но бурю в военных кругах вызвала не эта статья, а две других, объединенных общим названием «Изнанка Крымской войны». Трудно было назвать в армии службу более ненавистную, чем интендантская. Обручев критиковал снабжение войск и рассматривал последствия недостатков этой системы. У англичан в Крыму, например, с сентября 1854-го по сентябрь 1855-го потери в связи с недостатками снабжения превысили боевые: убито и умерло от ран 239 офицеров и 3323 рядовых, а замерзло 2873 человека, умерло от холеры 35 офицеров и 4244 рядовых
. Потери от болезней с сентября по декабрь 1855 в английской армии составили 25 офицеров и 11 425 рядовых
. Интенсивные действия командования, считает Обручев, буквально спасли английскую армию от вымирания. Французы экономили на помещениях для больных, и в результате тиф и холера убили каждого третьего из посланных Францией в Россию солдат. Русская армия также понесла тяжелые потери по вине своих интендантов.
Обладая хорошими врачами и плохими лазаретами, она была слабо защищена от тифа, холеры и цинги. Спасение армии от тяжелых потерь вне поля боя Обручев видел в целом комплексе мер, имевших целью спасение солдата от болезни, в административных изменениях, ориентированных на бережное отношение к людям, как то: облегчение экипировки солдата, создание постоянных казарм, учет климатических условий местности, в которой предполагалось разворачивать действие армии и т. д., что не было сделано в Южной армии (в которой, кстати, служил во время войны и П. К. Меньков). В гражданской периодике особенно положительно отметили «Изнанку Крымской войны»
– вряд ли это могло понравиться военным.
Уже в седьмом номере «Военного сборника» за 1858 год тема снабжения армии в Дунайских Княжествах возникает вновь. Два автора – ген.-м. барон Ф. К. Затлер и офицер, служивший в штабе генерал-адъютанта А. Н. фон Лидерса, – подвергли критике Обручева, подчеркивая сложность снабжения в Княжествах (Затлер) и оправданность действий Лидерса («Служивший в Южной армии»). В том же номере Обручев возражал своим критикам в статье «Изнанка Крымской войны. Другая сторона», но в целом дискуссии не вышло. После следующего номера журнала редакция была смещена. Имя Обручева исчезло со страниц журнала до 1862 года. Изменилось ли направление «Военного сборника»?
За первые восемь месяцев П. К. Меньковым в сборнике было напечатано 74 статьи и 5 рассказов, которые группируются по следующим темам:
1) о Кавказской войне – 11;
2) о Крымской войне – 9;
3) об обучении солдат и рекрутов – 7;
4) о русской военной истории – 6;
5) рассказы – 5;
6) о ручном огнестрельном оружии – 5;
7) о ремонте кавалерии – 4;
8) о французской армии – 4;
9) о прусской армии – 3;
10) об отоплении казарм – 2;
11) о конной артиллерии – 2;
12) об обмундировании солдата – 2;
13) дневник кавалериста – 2;
14) о реформе в пехоте – 2;
15) о сбережении оружия – 1;
16) о тактике – 1;
17) об отношении к нижним чинам – 1;
18) о фехтовании – 1;
19) об артиллерии – 1;
20) о влиянии штуцера на тактику артиллерии – 1;
21) о походе в Венгрию – 1;
22) о быте войск в военное время – 1;
23) об опыте перевозки войск на пароходах – 1;