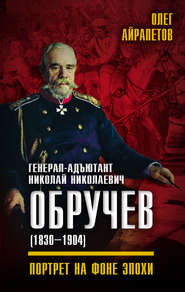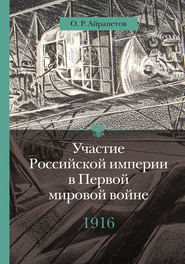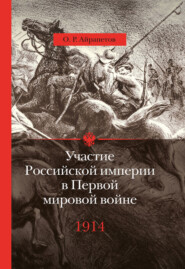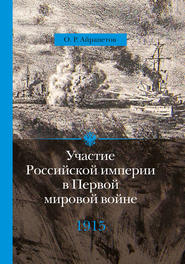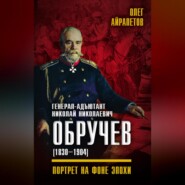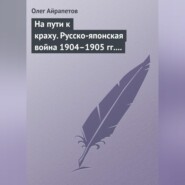По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). 1917 год. Распад
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это была частная изолированная зимняя операция, не имевшая шансов на стратегический успех, да и не рассчитанная на таковой. Конечно, при условии развития прорыва можно было бы рассчитывать на то, что немцам придется податься назад по всему участку фронта. Однако без немедленной поддержки ближайшими резервами рассчитывать на это не приходилось. Сразу же после остановки наступательных операций по армии, а затем по фронту поползли слухи о том, что наступление было остановлено по приказу императрицы, что войска чуть ли не овладели Митавой (на самом деле они далеко не дошли до нее) и оставили город по телеграмме Александры Федоровны. В Риге, где сказывалось и традиционное противостояние латышей с немцами, к этим слухам добавлялись и другие – о высоких потерях латышских полков, о бесполезно пролитой по вине императрицы крови
.
Гурко получил информацию об этом в январе 1917 г., когда был в Петрограде. Именно в это время С. Хор отмечает усилившуюся пропаганду против «реакционеров» на окопах, что привело к тому, что политические вопросы открыто обсуждаются на фронте, и, по его информации, был даже случай отказа полка идти в атаку, так как его офицеры потребовали «уничтожить врагов в тылу»
. Настроения офицеров проникали и в солдатскую среду. Генерал А. В. Горбатов вспоминал: «Денщикам удавалось иногда услышать из офицерских разговоров отдельные слова: “все прогнило, все продажно”, “этого нужно было ожидать”, “бездарные правители”, “на краю пропасти” и т. п. Все это немедленно передавалось нам (солдатам. – А. О.)»
. Интересно, что это происходило в частях генерала, который в бытность своей отставки по болезни не считал для себя зазорным обращаться с телеграммами к Распутину, прося его молитвенного заступничества о возвращении на фронт
. В тылу Северного фронта зрело недовольство, но оно было еще незаметно. Общее состояние русских позиций и русской армии в окопах произвело на Вильсона самое хорошее впечатление
.
Совсем другой взгляд на возможности русских войск вынес из поездки на Юго-Западный фронт генерал Кастельно. По его мнению, командование, управление и транспорт в России отстали от союзников на 18–20 месяцев, и ни о каком удачном наступлении в ближайшем будущем речи быть не может
. Тем не менее даже Кастельно похвалил дух войск: он показался ему превосходным
. Эти оценки наступательных возможностей русской армии абсолютно не разделялись главой британской военной миссии. Однако Милнер, узнав о них, оказался под влиянием авторитета французского генерала. Эта информация негативно повлияла на представителя Ллойд-Джорджа, и он стал сомневаться в возможности наступления на русском фронте. Вильсон записывает в своем дневнике 17 февраля: «Я сказал ему (Милнеру. – А. О.), что Кастельно не имеет причин для пессимизма, он ничего не видел, его точка зрения ошибочна»
.
В какой-то степени Кастельно был прав в своих оценках технического состояния русского фронта: наша армия по-прежнему уступала англичанам и французам в артиллерии. У союзников во Франции было 9176 легких и 6369 тяжелых орудий против 4349 легких и 5510 тяжелых германских орудий, что при меньшей длине фронта составляло в среднем 13 орудий на километр фронта у англичан и 10 орудий на километр фронта у французов (для сравнения – средний показатель на русском фронте составлял 1 орудие на 1 километр фронта)
. Преодоление подобной отсталости зависело, в том числе, и от позиции союзных правительств по военным поставкам. Сам Кастельно на конференции был против излишней, по его мнению, поддержки русской армии, он считал «.. недопустимым обнажать французский фронт ради русского»
.
Вильсон был, конечно, более объективен, чем его французский коллега. Дело в том, что Кастельно посетил фронт в Галиции, где окопной войны, характерной для Западного фронта, не было и не могло быть. Во Франции линия фронта стабилизировалась к концу 1914 г., а русский Юго-Западный фронт за 2,5 года войны пять раз перемещался на расстояние от нескольких десятков до нескольких сотен километров. После окончания Брусиловского наступления прошло чуть больше двух месяцев. Естественно, что освоение прифронтовой полосы здесь было несравнимо с тем, что было у союзников в Европе. Кроме того, и довоенное развитие данной территории было далеко от северо-западных областей Франции и Бельгии. На Северном фронте, который посетил Вильсон, положение было совсем иным: его линия приобрела стабильные очертания в конце 1915 г., прифронтовая полоса была хорошо освоена.
Опыт европейского Западного фронта, опыт окопной войны, осложненной огромной плотностью артиллерии и пулеметов, был неприменим на галицийском участке русского фронта. Да и насколько эффективен был этот опыт? Немцы и русские тратили на артиллерийскую подготовку несколько часов (германская армия потратила перед штурмом Вердена в феврале 1916 г. 9 часов), в то время как союзники – несколько дней (в июле 1916 г. на подготовку перед наступлением на Сомме было отведено 7 дней, а перед наступлением во Фландрии в июле 1917 г. – 16 (!) дней)
.
Тем не менее особыми успехами в том, что считалось военной доктриной союзников наиболее важным показателем, то есть в отвоевывании территории, они никак не могли похвастаться. Вильсон, конечно, имел все основания не соглашаться с Кастельно. Важно отметить, что расхождения между англичанами и французами в оценках боеспособности русской армии касались только технической части. Мораль войск и тыла не вызывала у них сомнений. Не сомневался в ней, как было уже отмечено, и сам Кастельно. На заданный ему вопрос, удовлетворен ли он результатами конференции, генерал ответил: «В высшей степени. Я уеду из России с сознанием, что союзники одушевлены одной общей задачей, единой конечной целью»
.
Доволен был и Думерг, заявивший в своем интервью: «С минуты моего приезда в Россию все мои беседы с самыми разносторонними лицами – членами правительства, политическими деятелями, военными, представителями промышленности – ярко подтвердили мое постоянное мнение о русской мощи и о достойном восхищения русском патриотизме. На каждом шагу мне оказалось возможным отметить проявление горячей любви русского народа к своей родине. В патриотизме русских я вижу лучший залог нашего общего торжества. Недаром наши враги всегда старались пошатнуть эту нравственную силу, которая ведет нас к победе»
. Сила эта казалась еще и незыблемой. В начале 1917 г. по Северному фронту проехал американский журналист Арно Дош-Флеро. Он с самого начала войны работал военным корреспондентом на Западном фронте во Франции и Бельгии и прежде всего обратил внимание на состояние морали войск. Оно показалось ему прекрасным: офицеры и солдаты жили единой семьей
.
Но только ли пессимизм французского генерала вызвал у лорда Милнера такие же чувства сомнения относительно возможностей России в будущей кампании? Кроме аудиенций у императора и переговоров с членами его правительства, делегатам из Англии и Франции предстояли встречи с представителями общественности. Эти встречи, как, впрочем, и сама конференция, не были предметом пристального внимания отечественного, да и зарубежного историка. Впрочем, они и не были вообще обойдены вниманием. «Союзные делегаты, – отмечал советский историк А. Л. Сидоров, – выслушали все претензии представителей царского правительства – руководителей хозяйства, армии и флота. Они имели возможность посетить фронт и ознакомиться с состоянием армии, беседовали с лидерами русской буржуазной оппозиции и были в курсе всей работы, которую вели английское и французское посольства и “Прогрессивный блок” по организации государственного переворота. Их не особенно страшил рост недовольства внутри страны; приход к власти буржуазных лидеров им казался желательным»
.
Политический зондаж на фоне межсоюзнических контактов
Действительно, в отсутствие военных политики встречались с представителями либеральной общественности. Последние ожидали активной помощи от союзников при реализации своих планов
. Источниковая база этих встреч невелика. О них можно было судить по «Военным мемуарам» Ллойд-Джорджа и в лучшем случае по воспоминаниям Роберта Брюса Локкарта. Вскоре после войны лорд Милнер скончался, не оставив мемуаров. Во время работы в архивах Форин оффис мне не удалось обнаружить его отчетов, и я использовал ту их часть, которая была воспроизведена Д. Ллойд-Джорджем. На встречах Милнера с представителями общественных организаций переводчиком выступал Локкарт (с 1912 г. – британский вицеконсул в Москве, кстати, встречавший делегацию в Петрограде)
, оставивший определенную информацию об этом. Однако картину великолепно дополняют дневники генерала Г Вильсона, с которым Милнер откровенно делился впечатлениями об увиденном и услышанном. В высшей степени характерно то, что о подобных встречах почти ничего не пишут в своих воспоминаниях французский посол Палеолог и его британский коллега Дж. Бьюкенен.
Особенно активными в этих встречах были французы. «Я пытаюсь доставить Думеру возможно полный обзор русского общества, – записывает в своем дневнике 8 февраля 1917 г. Палеолог, – знакомя его с самыми характерными представителями его»
. Через своего знакомого французский посол пригласил представителей общественности на завтрак в посольстве. Это делал именно тот человек, который впервые высказал свою мысль о возможности «революционных беспорядков» в России буквально на следующий же день после отставки Николая Николаевича (младшего) в 1915 г.
Характерно, что приглашены были исключительно представители либерального лагеря, в том числе бывший военный министр генерал А. А. Поливанов, А. И. Шингарев, П. Н. Милюков, В. А. Маклаков и другие (чудовищным образом, учитывая убежденность правительства Франции в будущей революции в России, выглядел подарок ее президента императрице, украсивший приемную Александровского дворца, – гобелен, изображавший королеву Марию-Антуанетту вместе с ее детьми)
. На этих встречах, прежде всего, обсуждались вопросы внутренней политики.
Активно проводил встречи с членами правительства, Государственной Думы и Государственного совета, а также с военными Кастельно. Он вынес собственные и весьма яркие впечатления из того состояния, в котором пребывали обе русские столицы: «Если для оценки умов в России в связи с войной ограничиться наблюдением за обществами таких больших городов, как Петроград и Москва, то нам кажется, что гигантская борьба, заливающая мир кровью, не занимает первое место в заботах русского народа. Ничего не изменилось, кажется, в течении жизни, в удовольствиях, в труде. Конечно, война всех стесняет, но она ничему не препятствует, в особенности буйному возбуждению внутренней политики, которое недавно проявилось в одной кровавой драме и которое чувствуется во всех душах, будь то на фронте или в тылу»
.
Вообще, в это время фронт был явно не в центре внимания лидеров общественности, во всяком случае, фронт, направленный против немцев. Неудивительно, что Думерг на встрече с «характерными представителями» рекомендовал своим собеседникам быть терпеливее и просил их не забывать о том, что идет война. Это вызвало бурный протест у Милюкова и Маклакова: «Довольно терпения!… Мы истощили все свое терпение… Впрочем, если мы перейдем скоро к действиям, массы перестанут нас слушать»
. Еще дальше пошел Гучков, заявивший, что в случае, если это правительство останется у власти, то союзникам не стоит рассчитывать на дальнейшую помощь России в разгроме немцев. Выходом из внутреннего кризиса, по его мнению, была только милитаризация производства, но на этот шаг могло решиться лишь правительство, облеченное доверием народа
.
Внутри узкого круга посвященных в таинства политики либерального лагеря говорили о том, что «.русские политические деятели просили помощи у своих заграничных друзей; они мечтали вывезти царя и Александру Федоровну из России и поставить регентом Михаила»
. «Друзья» воспринимали обращенные к ним жалобы по-своему. Кастельно, например, в ходе встреч убедился, что ни император, ни правительство, ни общественность не думают о сепаратном мире и твердо настроены довести войну до победного конца. Его собеседники, в отличие от тех, с кем встречался Думер (среди прочих Кастельно имел долгую беседу с Родзянко по просьбе последнего), убедили генерала, что жесткая критика правительства и требование реформ продолжатся, но не во вред общим интересам союзников: решение этих проблем будет отложено на послевоенный период, и союзники не должны «опасаться революционных беспорядков»
.
Впрочем, далеко не всех гостей удалось заставить поверить в то, что столь сложная задача может быть реализована, хотя принимавшая сторона и старалась изо всех сил. Милнер отправился в Москву. Программу мероприятий для представителей союзников готовил Локкарт
. Накануне приезда их союзников «Утро России» посвятило целый разворот проблеме назревших изменений. По мнению газеты, Россия стояла на распутье и нуждалась в министерстве «национальной обороны». «Какое самое сильное и самое яркое переживание русской действительности в настоящий момент? – вопрошал Б. П. Вышеславцев. – Это, безусловно, чувство дезорганизации. С этим принуждены будут согласиться все, без различия партий и воззрений. Сейчас есть только две партии в России: людей, страдающих от дезорганизации, и людей, пользующихся дезорганизацией; и последних не мало. Организация национальной обороны есть для нас, русских, организация России вообще»
.
Как сообщал своим читателям П. Сурмин, у власти есть только два пути: первый – сохранение существующей политической системы или второй – путь, который прошла Франция. Исторической выбор для автора был очевиден: «Не сохранение status quo, необходимость не простой, а великой перемены власти чувствуется всеми»
. «…Для достижения полной спайки между различными обществами “вооруженного народа”, будь то действующая армия, или органы тыла, работающие на нужды страны»
необходимо создание нового аппарата власти, убеждал П. Бурский. Представители союзников прибыли в столицу еще 27 января (9 февраля), их бурно и торжественно приветствовали. Некоторые газеты опубликовали приветствия на французском и английском языках. Руководителям делегаций были посвящены статьи, особое внимание уделялось Милнеру. Он был назван «человеком действия»
.
Действовали и представители либералов. Торжественные встречи и банкеты следовали один за другим. И везде звучали бодрые и часто длинные речи
. На встрече в городском управлении Челноков говорил о том, что войну сейчас ведут не правительства, а народ; союзники, находясь в Москве, в самом центре России, имеют возможность познакомиться с ее возможностями, ведь, «.естественно, на Москву выпала обязанность организовать всю общественную Россию»
. На следующий день на торжественном банкете к тому же призывал и В. А. Маклаков: он обратил внимание на необходимость для союзных держав сближаться не только с государством и властью, им управляющей, но и с народом, которого союзники не знают