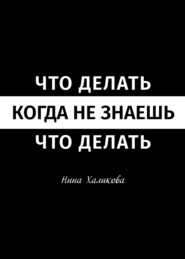По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Северная Федра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От этой мысли Алексей Иванович почти оглох, словно она настоящим молотом обрушилась на его слабые барабанные перепонки. Он откровенно стар, и, как это ни прискорбно, его время ушло. А в сожалениях по ушедшему времени неприятно сознаваться даже самому себе. Где-то в глубине души Алексей Иванович давно это знал, но ничуть не страдал по этому поводу. Почему же, черт побери, прежде он никогда не думал о том, что жена его не любит? Разве не естественно предположить, что его молодая жена, полная жизни и обаяния, может интересоваться кем-то кроме него? Он считал, что она не должна ему изменять, но с какой стати он так решил? Теперь же он был крайне раздосадован и удивлен. Более того, он был удивлен своему удивлению. У него появился соперник? Или он всегда был? Разве он, Алексей Сотников, хочет знать правду? Какую правду? Добиваться правды не всегда с руки, особенно если знаешь, что она доставит страдания. Да и разве можно добиваться правды от женщины, особенно если эта женщина актриса? Да и что такое «правда» в отношениях между мужчиной и женщиной? Поди разбери!
То ли опыт, то ли черта характера, то ли безошибочный мужской инстинкт, так называемый голос пола, развили в Сотникове удивительную способность быть крайне немногословным с женщинами. Молчание облегчает жизнь и избавляет от многих нелепых ожесточенных сцен, занимающих не последнее место в отношениях между супругами. Алексей Иванович прекрасно понимал, что как только мужчина начинает выяснять отношения с женщиной, подвергать сомнению ее женскую искренность, как только он начинает вести себя в подобном унизительном ключе, каждая уважающая себя женщина тут же разворачивается и уходит. Женщины так устроены, впрочем, мужчины устроены так же.
– Я загляну к тебе позже, – Инга попыталась сгладить свое откровенно плохое настроение, но поняла, что ее снисходительно-резкий тон в данном случае был не слишком-то уместен.
– Я буду ждать, – в голосе Сотникова прозвучала какая-то безнадежность. Алексей Иванович посмотрел на жену покорным горестным взглядом. Ему очень захотелось привлечь ее к себе привычным собственническим жестом, но что-то его остановило. Видимо, то нетерпение в ее глазах, с каким она спешила от него избавиться.
* * *
На самом же деле Инга крайне редко «заглядывала» в спальню к Алексею Ивановичу, особенно после того, как в его ежедневный обиход уверенно вошло слово «гипертония». Эта самая гипертония хоть и не была критической, но все же доставляла массу беспокойств и медицинских запретов, к числу которых относилась и физическая любовь. Поначалу Алексей Иванович категорически проигнорировал запрет, эту размеренную запланированную скуку, но после пары-тройки гипертонических кризов с их устрашающим набатом и паникой понял, что запрет на любовь не такой уж беспочвенный. К тому же Инга долго и настойчиво толковала Сотникову о пользе воздержания, особенно для таких «пылких» мужчин, как ее муж. Алексей Иванович, безусловно, был приятно польщен, он соглашался, что отныне его кровь должна течь спокойнее и скучнее по артериям. Соглашаться-то он соглашался, но все же иногда просил супругу «заглянуть» к нему. Она тут же «заглядывала», но была равнодушна и холодна, как скандинавская форель в озере. Сотников понимал, что Инге гораздо удобнее спать одной в ее обжитой спальне-шкатулке, понимал, что ей уютнее и крепче спится, когда он не ворочается рядом с боку на бок и не хрустит суставами во время одолевающей его бессонницы. Разумеется, он вполне бы мог прийти в ее комнату и просить позволения спать с ней в одной постели, особенно если принять во внимание стаж их совместного супружества. Но Алексей Иванович знал, что ей это будет неприятно, ему – унизительно, и потому оставался покорно ждать в своей спальне. Он ждал, а когда понимал всю тщету своих надежд, утешал себя мыслью, что в отказе любимой женщины тоже есть известное удовольствие…
Сегодня Инга в очередной раз обманула супруга. Она решила избавить себя от обязанностей жены, поскольку даже симулировать эротические желания у нее не хватило бы сил. Сегодня ее нисколько не интересовали ни физические прелести Алексея Ивановича, ни даже прелесть его аппетитно раздутого кошелька. Как бы то ни было, она, не обеспокоенная переживаниями о супружеском долге, заперлась в своей шелковой спальне, не забыв при этом весьма предусмотрительно дважды повернуть ключ.
Итак, Инга оказалась совсем одна, среди милых приевшихся безделушек, источавших печаль, среди прелестных статуэток и подсвечников в стиле ампир, показавшихся ей нелепым скопищем ненужного безобразного старья. Прежде ее комната была к ней благосклонна, прежде она разделяла с ней радость удивления, избавляла ее от горестных волнений и тревожных предчувствий. А сегодня Инга растерянным взглядом обвела свою уютную скорлупу, не понимая, зачем она здесь.
Ей очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но поговорить было решительно не с кем – подругами она не обзавелась, да и не находила удовольствия в откровенностях. Бесчисленное количество раз и в жизни, и в работе она говорила и делала глупости, она лгала, лицемерила, лицедействовала – словом, разыгрывала и величайший покой, и нервные рыдания, и лирические порывы, и так заигралась, что сама перестала не только понимать правду, но и помнить о ее существовании. И правда из ее уст воспринималась окружающими так же, как и ложь, поэтому откровенничать было бессмысленно. Такова участь всех красивых женщин, а актрис в особенности.
Усевшись у туалетного столика, Инга долго, с удивлением и ужасом разглядывала в зеркале свое озабоченное подурневшее лицо, то самое лицо, которым она прежде любовалась с нескрываемым восторгом. Сотни тысяч раз она разглядывала себя в зеркальных глубинах, находя прелестными правильные черты лица и слишком прямой нос, удлиненный, как у готической статуи. Виртуозно владея искусством притворства, она умело скрывала от посторонних глаз свои подлинные слабости – банальную суетность, ревность, злость и еще черт знает что, не давая им проступить на поверхность. Инга хотела казаться такой, какой ей хотелось бы быть, а именно сдержанной и благородной, почти совершенной. Пусть не всерьез, пусть только с виду, но ей хотелось производить именно такое впечатление. Ведь именно ее идеальное лицо до сих пор вызывает у многих ощущение совершенства. Она знала, что красива и молода. Она знала, что рядом с мужем все еще выглядит маленькой восторженной девчонкой, а рядом с молодым черноволосым, белокожим мужчиной она будет казаться непоправимо старой, пошлой роковой распутницей…
Инга улеглась на свою огромную шелковую постель, с головой укуталась в простыни и, вспомнив большую сцену филармонии, пронизанную десятками прожекторов, долго и безнадежно плакала. Она плакала совсем как в детстве, слизывая с распухшей верхней губы крупные слезинки. Она плакала над своим живым человеческим сердцем, которое так растерянно трепыхалось в груди, плакала над годами своего одиночества, проведенными в обитой атласом спальне-шкатулке, где, несмотря на всю ее прелесть, не чувствовала себя дома, она плакала над такими же безрадостными годами, которые ей предстоит прожить здесь, рехнувшись от одиночества. Этот чудесный особняк служил ей укрытием, прибежищем, но не домом, не священным очагом, что полагается хранить женщине. Эти роскошные хоромы, несмотря на весь романтический антураж, предназначались для уединения, для сна и отдыха, но, как оказалось, вовсе не для счастья. Инга плакала над прекрасной рыжеволосой женщиной, которой вдруг стало больно жить, женщиной, познавшей настоящее несчастье полюбить.
Девять лет назад она почти осознанно отказалась от любви и свободы, предпочтя им размеренное сытое благополучие, полный довольства респектабельный мирок. Девять лет назад ее потаенные помыслы нашептывали ей, что отношения мужчин и женщин построены больше на личной выгоде, а вовсе не на любви и симпатии. Девять лет назад ей казалось, что если у тебя есть деньги, то тебе незачем ненавидеть мир, людей, сетовать на их несправедливость, лебезить и заискивать, сдерживать себя или укорять других. Если у тебя есть деньги, то у тебя постепенно вырабатывается новый независимый взгляд на жизнь, взгляд, сдобренный терпимостью, а то и толерантностью (какое противное слово, оно никогда ей не нравилось). Деньги очеловечивают человека, он освобождается от диких инстинктов, порожденных не недостатком цивилизованности или отсутствием воспитания, а банальным отсутствием денег. Все это так, но жить со стариком тоже не бог весть что… Или он не старик?
Комната наполнилась вечерними тенями, грустью и тоской по несбывшемуся. Сделалось слишком жарко, удушливый воздух сдавливал виски, раскалял простыни, струился от мебели и из складок портьер. Или Инге это только казалось… Так она и томилась до утра, как узник, в четырех стенах своей роскошной камеры, убеждая себя, что взбесившийся внутренний зверь скоро угомонится, что тяжелый груз нерастраченных чувств не так уж и тяжел и что это досадное наваждение скоро пройдет.
* * *
Завтрак был накрыт не на кухне, а в огромной белой столовой. Овальный стол был сервирован севрским фарфором, в центре стояли свежеиспеченные золотистые булочки с изюмом под воздушно-белоснежным покрывалом из сахарной пудры и кувшин с мятной водой. Алексей Иванович сидел тут же перед открытым ноутбуком. Сотников был одет в сшитую на заказ накрахмаленную белоснежную сорочку с инициалами на манжетах и не по возрасту ярко-синюю пару. Он задумчиво провожал взглядом дым от своей сигареты и, как обычно, просматривал утренние новости – хотя было совершенно очевидно, что его усталый взгляд равнодушно скользит по строчкам. Ипполит, в оборванных мальчишеских джинсах и голубом хлопковом свитере, оттенявшем его черные волосы, сидел молча напротив отца. На первый взгляд, он был занят приготовлением бутерброда из свежего хлеба, сыра и ветчины, однако по глазам было видно, что он не здесь, не в этой комнате. Облик его казался бы домашним, если бы не черные глаза: в них-то и притаилось горделивое одиночество, отстраненность от внешнего мира, какая обычно бывает у музыканта после концерта. Словом, сам он был здесь, но мысли его витали где-то далеко. Алексей Иванович это сразу отметил. Иногда бессловесное общение, язык взглядов и жестов куда понятнее, чем слова. Он и Ипполит сидели совсем близко, но определенно были разделены невидимой стеной. Два родных и в то же время чужих человека, которые не знают и не понимают друг друга. Сотников украдкой посматривал на сына и не знал, как ему теперь полагается с ним себя вести. Когда-то он развелся с его матерью и невольно отстранился от него самого, словно ребенок – неотъемлемая часть женщины, та самая часть, которая уходит вместе с ней в прошлое. Такой порядок вещей не только не смущал Сотникова, но и представлялся ему наиболее правильным. Правильным. Какое странное слово. Что такое «правильно»? Скорее всего, «правильно» – это то, что кажется правильным в данную минуту, но проходит время, все меняется, все окрашивается в иные тона, и правильность кажется уже другой. А времени прошло немало…
Последние несколько лет Алексей Иванович почему-то стал вспоминать то беременность своей бывшей жены, то ее домашние роды, то сморщенное личико новорожденного мальчика, то его крохотные розовые пальчики. Никогда прежде ничего подобного он за собой не замечал. Сотников вспоминал и чувствовал, как на него стало нападать волнение, как в нем зашевелилась тоска по сыну. Тоска эта потом перетекла в раскаяние, а раскаяние сменили резкие приступы нараставшей душевной боли, и от них Алексея Ивановича воротило с души. Стал Алексей Иванович припоминать, как его тогда уже подрастающий сынок, похожий на несчастный комочек одиночества, бродил здесь, по огромному дому, как это маленькое созданьице было измучено родительскими скандалами и родительским же равнодушием. Почему же Алексей Иванович раньше об этом не думал?
Как бы то ни было, но все эти тягостные и трогательные воспоминания стали перемешиваться с чувством вины. Не раз Сотников упрекал себя в холодности к Ипполиту, не раз говорил себе, что он никудышный отец. Конечно, он не сильно убивался по этому поводу, конечно, его самоуважение не слишком пострадало, но появившаяся тяжесть в груди все же мешала жить. Словом, отца потянуло к сыну. Вот так. Отца вдруг стало интересовать, как его сын прожил все эти годы? Был ли счастлив среди друзей? В любви ли утратил невинность? Кому и как изливал свои чувства? Кто давал ему мудрые советы, кто посвящал его в тайны бытия? Такие запоздалые родительские вопросы как-то особенно умиляли Алексея Ивановича, делали его возвышенным и великодушным в собственных глазах, и от таких вопросов мысли его пошли на поправку. Захотелось стать хорошим отцом, а понимал это Сотников по-своему. Он долго взвешивал ход чувств и рассуждений и пришел к выводу, что за всем этим стоит не столько мораль и инстинкт, сколько тяга к внутреннему успокоению. Наконец, Сотников решил, что должен все исправить, наверстать упущенное, должен вцепиться в сына, как в спасательный канат над пугающей бездной раскаяния, которая того и гляди разверзнется у него под ногами. Коротко говоря, думал Сотников не столько о чувствах сына, сколько о своих собственных.
Преодолев некоторые муки нерешительности, Алексей Иванович затеял переписку с сыном. С Ингой же он ничего не обсуждал. Здраво рассудив, он подумал, что если Инге станет все известно, то ему не удастся избежать разговоров, а на уйму ненужных неудобных женских вопросов ответа у него не было.
И все-таки, зачем Сотников позвал Ипполита обратно в свою жизнь? Есть ли в этом жесте какой-нибудь смысл? Как сложатся их отношения и произойдет ли наконец сближение?
Алексей Иванович еще раз взглянул на сына. Теперь лицо его мальчика не было открытым, как у девственницы перед исповедью, теперь оно стало замкнутым и жестким, без тени любопытства, и не нужно быть большим провидцем, умеющим читать чужие мысли, чтобы, взглянув в это лицо, не прийти к неутешительному выводу.
Ипполит, внезапно почувствовав на себе пристальный взгляд, оторвался от приготовления бутерброда и в упор посмотрел на отца. Оба испытали неловкость, оба поняли, что видят перед собой совсем не то, на что рассчитывали, совсем не то, о чем мечтали, а всего лишь крохотную внешнюю картинку, в которой живет целая череда ликов, похожих на отражение друг в друге двух зеркал, отражение, пугающее своей непостижимостью и бесконечностью. И не более того. В таких отражениях кроется нечто более глубокое, чем возможно понять, нечто, лежащее в другой плоскости и недоступное обычной природе вещей. Оба промолчали. А что тут скажешь? Об этом не говорят вслух, и не называют вещи своим именами. Так что и нечего гоняться за иллюзией, растрачивать себя на миражи, подчиняться глупым условностям или отдаваться игре родственного воображения. Как есть, так и есть.
Оба слабо улыбнулись. Так уж сложилась жизнь. Первым отвел глаза Ипполит. Алексей Иванович вновь погрузился в новости.
В этот момент в столовую вошла Инга Берг. Она зачем-то надела свое самое скромное черное платье с отложным белым воротничком. Инга тщательно подготовилась, чтобы произвести впечатление праведницы. Удержаться и не актерствовать, не заигрывать с этим молодым человеком было выше ее сил. К завтраку она появилась с безукоризненно убранными назад волосами и таким видом, будто бы до конца не определилась с ролью: то ли целомудренной девы, какой никогда себя не чувствовала, то ли добропорядочной старшей наставницы, какой, бесспорно, никогда не была. На мужа Инга не обратила внимания, поскольку по многолетнему опыту супружества знала, что пробить утреннюю компьютерную стену невозможно.
– Тебе очень идет, – неожиданно оторвавшись от новостей, небрежно, с некоторой колкостью обронил Алексей Иванович. – Правда, с ролью наивной школьницы ты запоздала лет эдак на двадцать.
Его глаза странно блеснули. Или фальшь во внешности жены покоробила Алексея Ивановича, или в нем банально проснулась полуосознанная ревность, та самая, которую он ни в коем случае не признал бы. К кому Сотников ревновал, он бы и сам не смог определить. Это было смешанное чувство. Ревность к возрасту жены, к возможным соперникам, к завтрашнему дню, в конце концов – даже к этому чудесному черному платью. Как бы то ни было, но в этот момент ревность сделала его помолодевшим и почти красивым. Сотников торжествующе улыбнулся и вновь уткнулся в экран ноутбука.
Инге потребовалась вся ее выдержка, чтобы лишь мило улыбнуться, ибо эти невозможные, неуместные слова в прах развеяли задуманный ею эффект. А она терпеть не могла, когда ей бессовестно портили заранее подготовленную сцену.
– Какие новости? – Сухо спросила мужа Инга, наливая в стакан мятной воды из кувшина.
– Тебя это вряд ли заинтересует.
– Это почему же?
– Пишут, к сожалению, не о тебе. Сегодня новость номер один – вчерашний концерт Ипполита. Пишут, представь себе, что мой сын – звезда классической музыки.
– И это все?
– Нет, не все. Вот послушайте: «Ипполит Сотников – один из самых востребованных музыкантов. Он отличается от многих молодых своих собратьев необыкновенной манерой исполнения и редкой красоты звуком, – вслух начал читать Алексей Иванович. – Искренность его звучания завораживает буквально с первых звуков. Виртуоз дает концерты на самых престижных площадках мира. Несмотря на молодость, Ипполит Сотников успел сыграть со многими крупными оркестрами и дирижерами. Следующий концерт музыканта состоится уже через несколько недель в Тель-Авиве, куда Сотников отправится по приглашению Израильской филармонии». Ну и так далее.
– Как это мило! – неискренне удивилась Инга. – Кстати, а о чем вы играли вчера вечером? – она обратилась к Ипполиту.
– О чем? – зачем-то переспросил молодой человек. – Разве вы не слышали? В музыке, как и в жизни, речь всегда идет о жизни.
– А вы не слишком-то многословны, – она уставилась на него своими сверкающими огромными прозрачно-зелеными глазами.
– Видите ли, Инга, музыку нельзя рассказать, – будто оправдываясь, неловко начал Ипполит. – Я полагаю, что сухость языка не способна мгновенно и ярко передать, к примеру, вспышки пламени или абсолютное обледенение, которые порождают наши чувства. Словам это не дано, у слов отсутствуют такие оттенки, это под силу лишь музыке, и каждый улавливает в ней что-то свое, что-то про себя…
– Послушайте, я – актриса, и я с вами не согласна.
– Нет ничего глупее, чем спор двух мировоззрений, – сухо вставил Алексей Иванович. – У каждого своя реальность – один видит белое, другой – черное, каждый рассматривает жизнь через призму собственного ума или собственного невежества. Одному близка поэзия, а другому – непристойности. Не так ли, дорогая?
– Вчера немного душил воротничок и дрожали руки, – честно признался Ипполит, пропуская мимо ушей слова отца.
– У вас могут дрожать руки? Отчего же? Вы были взволнованы? – спросила Инга и немного удивилась, услышав вежливый яд в собственном голосе. Откуда он взялся?
– Волнение перед концертом – состояние вполне естественное для музыканта.
– Думала, к вам это не относится, – Инга слегка пожала безукоризненными плечами.
– Почему? Разве я особенный? Я такой же, как все, и когда я перестану волноваться, все тут же закончится.
– Закончится? Что? Наслаждение аплодисментами? Успех у пресыщенной публики? Действие славы с ее буйством страстей? – сама того не заметив, Инга почему-то перешла на вызывающий тон.
Сотников сидел, посасывая косточку от маслины и, к своему вящему изумлению, видел, что его жена волнуется. Когда она по-настоящему волновалась, ее легкий скандинавский акцент заметно усиливался. Она начинала спотыкаться на каждом слове, и Алексей Иванович от этого терялся, он почувствовал себя блуждающим в темной пещере, из которой он не в силах найти выход. Он подумал: наверное, это и называют предчувствием, когда нет никаких серьезных причин для тревоги, а тревога все-таки есть, когда охватывает ощущение неотвратимости, неизбежности краха. Эта мысль была ему крайне неприятна.
– И что же тогда случится? – довольно резко продолжила Инга, словно желая показать, что здесь никто не ослеплен его талантом – она в первую очередь. – Публика от возбуждения перейдет к отчаянию, увидев, как гаснет ваша звезда? Откуда несомненная уверенность в том, что сцена без вас не обойдется?
– Разве я это сказал? – удивился молодой человек. – Этого я не говорил. Я об этом даже и не думал. Мне кажется, что сцена молниеносно дает оценку любому. На ней случайности долго не задерживаются. И я ей доверяю.
– Доверяете и наслаждаетесь, – не унималась Инга.
– Что, простите?
– Только не отрицайте, что не испытываете наслаждения, когда гипнотически воздействуете на публику! Не поверю!