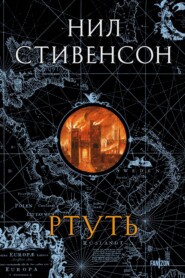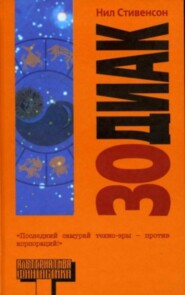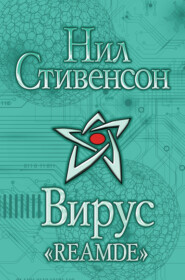По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смешенье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Благодарю за любезное предложение и прощаю вас. Интересно, много ли король говорит на церемонии одевания?
– Откуда мне знать? Спросите завтра. А что?
– Сплетничает ли он? Мне любопытно. Я только что сболтнула одну вещь, которая, если станет известна, очень повредит мне в Англии.
Жан Бар фыркнул и закатил глаза, не желая даже обсуждать тему Англии.
– Я всё-таки попрошу вас узнать у короля одну вещь.
– Говорите, мадемуазель.
– Имя врача, искусного в этой области.
Элиза опустила руку на несколько дюймов и похлопала Жана Бара – со всей осторожностью, однако тот вскрикнул и подскочил. Лицо его перекосилось от боли. Элиза ахнула и отпрянула в ужасе, однако капитан, расплывшись в улыбке, вновь ухватил её за талию и привлёк к себе. Это была шутка.
– Я уже побывал у такого врача.
– Замечательно, – всё ещё смеясь, выговорила Элиза. – Надеюсь увидеть вас сидящим ещё до отъезда.
– Пятьдесят два часа гребли сказались, это верно, но здешний врач пользует мою задницу примочками и разными неудобосказуемыми процедурами, так что я быстро иду на поправку. А вот – лучшая перевязка! – Он поправил новенький эполет на алом мундире.
– Ах, если бы новое платье исцеляло любые раны!
– Разве не все женщины так думают?
– Порою они ведут себя так, будто и впрямь в этом убеждены. Может, я просто ещё не нашла такого платья.
– Тогда вам следует завтра же прогуляться по модным лавкам!
– Чудесная мысль, капитан, но прежде мне надо раздобыть денег. А поскольку во Франции их нет, вам придётся выйти в море и награбить для меня золота.
– Всенепременно! Я ваш должник.
– Постарайтесь не забыть об этом завтра, Жан Бар.
Письмо Даниеля Уотерхауза Элизе
Январь-февраль 1690
Мадемуазель де ля Зёр!
Спасибо Вам за письмо от декабря прошлого года. Оно довольно долго перебиралось через Ла-Манш, и вряд ли моё доберётся до Вас быстрее. Я был тронут Вашей заботой о моём здоровье и позабавился историей с лесом. До сих пор я не подозревал, сколь счастлива в этом отношении Англия: если нам в Лондоне требуется лес, нам довольно вырубить ту часть Шотландии или Ирландии, в которой ещё сохранилось несколько деревьев.
Я помог бы Вам в Вашей задаче уразуметь деньги хотя бы для того, чтобы разобраться в них самому. Однако тут от меня никакого проку. Сколько себя помню, наши деньги были из рук вон плохи; когда всё так скверно, трудно заметить, что стало ещё хуже. И всё же именно это, кажется, произошло. Несколько месяцев после операции я был прикован к постели и не выходил за покупками, когда же наконец вышел, то обнаружил разительную перемену к худшему. А может, за те месяцы, что мне не приходилось торговаться с лавочниками из-за каждой мелочи, мои глаза раскрылись, и нелепость происходящего предстала им со всей очевидностью.
У меня есть счёт в нескольких кофейнях, пабах и питейных заведениях на моей улице, чтобы не возиться каждый раз с монетами. Многие пошли дальше: объединились в общества, называемые клубами и облегчающие покупку еды, вина, табака и тому подобного в кредит. Когда каким-нибудь чудом у человека оказываются несколько монет, достойных своего имени, он торопится оплатить самые важные счета. Система худо-бедно работает. Другой не придумали.
У нас есть виги и тори. По сути это круглоголовые и кавалеры в новом обличье и менее тяжело вооружённые. Тори живут на доходы от своих земель. Если очень сильно упростить, то Франция состоит из одних тори – все деньги исключительно от земли. Виги у вас тоже были бы, если бы вы не изгнали гугенотов. А по слухам, в ваших атлантических портах есть некое подобие вигов. Впрочем, как я уже сказал, я крайне упрощаю, чтобы выразить суть: если Вы понимаете, как деньги работают во Франции, то знаете всё про тори. А если понимаете, как они работают в Амстердаме, то знаете всё про вигов.
Королевское общество дышит на ладан и может не протянуть до конца века. Оно уже не взыскано монаршими милостями, как при Карле II. Тогда оно было силой революционной в новом значении слова, но настолько преуспело, что стало обыденностью. Люди, которые, не имея иного приложения своим талантам, посвятили бы ему жизнь, родись они одновременно со мной, теперь преуспевают в Сити, в колониях, в заморских делах. Нас, Королевское общество, обычно считают вигами. Наш председатель, маркиз Равенскарский, – влиятельный виг и без устали выискивает, как бы применить дарования наших собратьев к вещам практическим, в том числе к деньгам, доходам, банкам, акциям и другим занимающим Вас материям. Однако, вынужден признаться, я совершенно от них отстал.
Исаака Ньютона год назад избрали в парламент. Кембридж ещё помнил, как он дал отпор прежнему королю, желавшему протащить в университет иезуитов. Весь прошлый год Ньютон провёл в Лондоне, к большому огорчению тех из нас, кто предпочёл бы видеть его трудящимся над чем-нибудь в духе «Математических начал». Они с Вашим знакомцем Фатио неразлучны и живут в одном доме.
P.S. – февраль 1690-го.
После того, как я написал письмо, но прежде, нежели я успел его отправить, король Вильгельм и королева Мария распустили парламент. На новых выборах победили тори. Исаак Ньютон больше не член парламента. Он делит время между Кембриджем, где предаётся алхимическим штудиям, и Лондоном, где они с Фатио изучают «Трактат о свете» нашего общего друга и сотрапезника Гюйгенса. Все это к тому, что сейчас я ещё бесполезнее для Вас, нежели месяц назад; я принадлежу к умирающему Обществу, связанному с партией, которая утратила власть, и не имеющему денег, поскольку их нет в стране. Самый блистательный наш собрат занят совершенно другим. Самонадеянностью было бы ждать ответа на столь бессодержательное письмо, негожеством – оставить без ответа Ваше, ибо я был и остаюсь Ваш смиренный и преданный слуга
Даниель Уотерхауз
Письмо Элизы Даниелю
Апрель 1690
Ньютон хочет нас уверить, что время отмеряется тиканьем Божьих карманных часов – постоянное и неизменное, оно служит абсолютным мерилом любых движений. ЛЕЙБНИЦ склоняется к взгляду, согласно которому время – смена отношений между предметами, и движения, которые мы наблюдаем, позволяют нам воспринимать время, а не наоборот. НЬЮТОН изложил свою систему к удовлетворению, нет, к восторгу всего мира, и я не могу найти в ней изъяна; и всё же система ЛЕЙБНИЦА, хоть и не записанная, куда точнее описывает моё субъективное восприятие времени. Осенью прошлого года, когда и я, и всё вокруг меня пребывало в постоянном движении, мне казалось, что прошло много времени. Когда же я добралась до Версаля, обосновалась в поместье Ла-Дюнетт на холме Сатори и наладила домашнюю жизнь, четыре месяца пронеслись стремительной чередой.
Дело, за которым меня отправили в Версаль, удалось в основном завершить ещё до Рождества, а дальше я только улаживала частности. Вероятно, теперь мне следовало бы вернуться в Дюнкерк, где от меня больше пользы. Однако здесь меня удерживают различные узы, которые со временем лишь крепчают. Каждое утро я еду через лесок к южной оконечности пруда Швейцарцев, отделяющего земли де Лавардаков от королевских владений. Здесь, за стенами дворца, лежит старая деревушка Версаль, ныне весьма разросшаяся. С тех пор как восемь лет назад король перенёс сюда двор, в деревне выросло множество церквей и монашеских обителей, в том числе монастырь Святой Женевьевы, где обрёл приют мой «сиротка». Если погода позволяет, я катаю его в коляске по королевскому огороду – вдающейся в деревню оконечности Версальского парка. Имея назначением снабжать дворцовую кухню овощами, огород этот уступает великолепием знаменитым партерам. Однако здесь куда больше интересного для детских глазёнок и ручонок, особенно теперь, с наступлением весны. Садовники чинят шпалеры в ожидании, что через несколько месяцев их завьют горох и бобы; судя по тому, как жадно смотрит Жан-Жак на «лесенки», он научится взбираться на них раньше, чем ходить. Иногда мы заходим чуть дальше, в оранжерею – огромную сводчатую галерею, расположенную по трём сторонам прямоугольного двора и обращённую к югу, чтобы стены нагревались на зимнем солнце и сохраняли тепло. Внутри в деревянных кадках растут апельсиновые деревца, дожидаясь лета, когда садовники смогут вынести их наружу. Маленький Жан-Жак зачарованно разглядывает зелёные шарики, спрятанные в тёмной листве.
К положенному часу я привожу его в монастырь Святой Женевьевы и оставляю кормилице. Вы можете подумать, что после этого я скачу прямиком в Версаль и окунаюсь в придворную жизнь. Отнюдь нет – чаще всего я поворачиваю и еду через лес Сатори в Ла-Дюнетт, где занимаюсь различными делами. Поначалу они были больше финансового свойства, теперь – по преимуществу светские. Впрочем, учтите, что Ла-Дюнетт отстоит от главного дворца не дальше, чем Трианон или другие павильоны, посему воспринимается не как отдельное поместье, а скорее как часть королевского. Эта иллюзия усиливается архитектурой: Ла-Дюнетт возводил тот же человек, что и сам Версаль.
Поместье Ла-Дюнетт раскинулось на возвышенности Сатори, которая начинается от склона, обращённого к пруду Швейцарцев и южному крылу королевского дворца. От взглядов дофина, дофины и прочих августейших обитателей этого крыла его скрывают деревья, но стоит миновать лесок, как попадаешь в уменьшенное подобие королевского парка. В частности, владенья де Лавардаков разделяют внушительные каменные стены с массивными чугунными решётками, через которые можно попасть из одного дворца в другой. Стены оканчиваются кирпичными домиками, призванными, по-видимому, символизировать кордегардии. Никакого практического смысла я в них усмотреть не смогла – видимо, они поставлены для красоты, как шишечки на балюстраде. Таких домиков в Ла-Дюнетт четыре. Два не отделаны внутри, у третьего меняют крышу, в четвёртом живу я. Он такой маленький, что мои немногочисленные домочадцы еле в нём поместились. Стоит он в лесу Сатори, так что я в любое время дня могу выскользнуть через заднее крыльцо и поехать в Версаль, минуя гравийные дорожки, радиально расходящиеся от главной усадьбы Ла-Дюнетт. Так я частенько и поступаю, отправляясь на обед или на церемонию вечернего туалета к какой-нибудь герцогине или принцессе. Таким образом, моя здешняя жизнь практически не зависит от де Лавардаков. Впрочем, по меньшей мере раз в неделю я должна обедать с Этьенном под присмотром герцогини д’Аркашон.
С герцогом д’Аркашоном я пока не знакома. Прежде, служа в Версале гувернанткой, я несколько раз видела его издали, в окружении других сановников, но по незначительности своего положения не могла быть ему представлена. Затем моё положение изменилось, однако герцог занимался какими-то делами на юге. Бо?льшую часть 1689 года он прожил в Версале, как раз в моё отсутствие, и отбыл на юг за несколько недель до моего приезда в декабре. Его ждали к Рождеству, но герцога вновь задержали дела. Несколько раз в неделю он пишет герцогине из Марселя, где приглядывает за галерами Средиземноморского флота, или из Лиона, где встречается с королевскими банкирами, закупает провиант, порох и тому подобное, или из Аркашона, где печётся о семейных делах де Лавардаков, или из Бреста, где надзирает за отправкой войск и припасов в Ирландию. Госпожа герцогиня всегда отвечает в тот же день, надеясь, что письмо застанет его до отъезда в какой-нибудь очередной порт. Таким образом герцог узнал кое-что обо мне и моих действиях либо отсутствии оных, и в последнее время начал писать мне лично. По всему сдаётся, что я могу быть полезна семейству не только в качестве потенциальной пары для Этьенна. Герцог собирается участвовать в какой-то крупной денежной операции на юге, в результате которой рассчитывает к концу лета получить крупную сумму в звонком металле. Деталей он из осторожности не сообщает, но если я правильно поняла, он просит меня заняться переводом крупной партии слитков через Лион.
Так что мне будет наконец чем себя занять, и время вновь замедлится, поскольку я начну стремительно двигаться и менять взаимоотношения со всем вокруг.
Элиза, графиня де ля Зёр
Ла-Дюнетт
Середина июля 1690
«Ла-Дюнетт» означает «ют» – высокая надстройка на корме корабля, с которой капитан видит всё. Название пришло в голову Луи-Франсуа де Лавардаку, герцогу д’Аркашону, примерно двенадцать лет назад, когда тот стоял на взлобье холма, глядя между двумя облетелыми деревьями на замёрзшее болото – будущий пруд Швейцарцев, и южный фланг огромного строительного участка, коему вскоре предстояло стать дворцом Людовика XIV.
Король всё возводил быстрее всех, отчасти потому, что мог использовать армию, отчасти потому, что забрал себе лучших строителей. Ла-Дюнетт ещё была голым пустырём с красивым названием, когда его величество уже пригласил своего кузена герцога д’Аркашона осмотреть новый дворец. Дольше всего они пробыли в апартаментах королевы – анфиладе спален и приёмных, протянувшейся от салона Мира до караульни на верхнем этаже южного крыла. Король и герцог прошли по ней раз, другой, третий, останавливаясь у каждого окна и обозревая Южный партер, оранжерею и лес Сатори. В конце концов герцог уяснил то, что король старался ему внушить, а именно: любое здание, воздвигнутое на вершине холма, испортит королеве вид из окна и создаст впечатление, будто де Лавардаки заглядывают в её опочивальню. В итоге больша?я кипа дорогостоящих чертежей пошла на растопку каминов в парижском особняке д’Аркашонов, а герцог пригласил самого Ардуэн-Мансара и поручил тому спроектировать дворец хоть и великолепный, но невидимый из королевиных окон. Мансар поставил здание за вершиной холма. Таким образом, вид из окон самого дворца получился ограниченный. Зато Мансар заложил променад, ведущий вокруг сада в бельведер, скромно прилепившийся на склоне и замаскированный виноградом. Отсюда вид был великолепен.
Перед обедом герцог и герцогиня д’Аркашон пригласили гостей (общим числом двадцать шесть) прогуляться в бельведер, освежиться на ветерке (день стоял жаркий) и полюбоваться Версалем, его садами и водоёмами. С такого расстояния невозможно было различить отдельных людей и разобрать голоса, но отчётливо угадывались скопления народа. В городе, за плацдармом, францисканцы развели перед монастырём костёр и плясали у огня; временами порыв ветра доносил обрывки их пения. Праздновали и вдоль Большого канала, протянувшегося на милю по центральной оси королевских садов. Здесь преобладали парики. Даже конюхи на плацдарме разожгли костёр, к которому стянулись сотни простолюдинов – горожан, слуг из Версаля и близлежащих вилл, а также селян, которые, завидев дым и заслышав колокольный звон, сбежались посмотреть, что происходит. Многие, вероятно, представления не имели, кто такой Вильгельм Оранский и почему надо радоваться его смерти, что, впрочем, не мешало им присоединиться к веселью.
Этьенн д’Аркашон поднял бокал, призывая собравшихся у бельведера к молчанию.
– Учтивость не позволяет провозгласить тост за гибель принца Оранского[15 - Французы не признавали Вильгельма королём Англии.], хотя тот был безбожным узурпатором и врагом Франции, – начал он. Слова эти повергли гостей, которые стояли на цыпочках, ожидая тоста, в полнейшее замешательство, но прежде, чем они опомнились, Этьенн сумел выбраться из риторической западни: – Посему предлагаю поднять бокалы за победу французского оружия и освобождение Британских островов в битве на Бойне.
Так все и сделали.
– Единственное, – продолжал Этьенн, – что могло бы наполнить сегодняшний день ещё бо?льшим ликованием, это весть о победе на море, и Господь ответил на наши молитвы. Французский флот, коего верховным адмиралом имеет честью быть мой батюшка, выбил англичан и голландцев с Бичи-Хед и сейчас грозит устью самой Темзы. Франция побеждает повсюду: в Ирландии, во Фландрии и в Савойе. За Францию!
Вот это уже был тост! Все выпили. Затем последовало «За короля!», потом «За короля Англии!» (подразумевался Яков Стюарт) и «За господина герцога!». Последний тост герцогу пришлось пропустить, так как не полагается пить за своё здоровье. После этого он поднял бокал: «За герцогиню де ля Зёр, столько сделавшую для укрепления нашего флота». На что Элиза вынуждена была сказать: «За капитана Жана Бара, который, как говорят, вновь отличился у Бичи-Хед на своём корабле “Альциона”!»
Госпожа герцогиня, смотревшая на Версаль в оптический прибор, внесла в разговор нотку противоречия, а именно: «Поглядите, Луи-Франсуа, там у канала празднуют не смерть принца Оранского, там чествуют вас!» – и вручила супругу золотой кадуцей (символ Меркурия, подателя информации) с линзами, искусно вставленными в глаза двух серебряных змей, обвивших центральный стержень. Герцог поднёс его к лицу опасливо, словно боялся, что змеи вопьются жалами в его щёки, и заморгал в линзы. Однако всякий, обладающий хорошим зрением, мог и невооружённым глазом видеть, что на Большой канал спустили несколько золочёных барок, и теперь там разыгрывается битва у Бичи-Хед. Гребцы вздымали фонтаны брызг, похожие издали на пороховой дым. То и дело эхо от хлопка золочёным веслом по воде раскатывалось ружейным эхом. Пьяная абордажная команда, быть может, всё ещё разгорячённая воспоминаниями о декабрьском представлении Жана Бара, прыгала с барки на барку, раскачиваясь на шёлковых тросах, роняя самшитовые опоры и камчатные навесы, круша бархатную мебель. Такое могли позволить себе только принцы крови или незаконные дети королевских особ. Барка поменьше перевернулась; гости у бельведера испуганно замолчали, но смех и остроты вспыхнули с новой силой, как только незадачливых корсаров принялись втаскивать в подоспевшую лодку и кончиками шпаг выуживать из воды их парики.