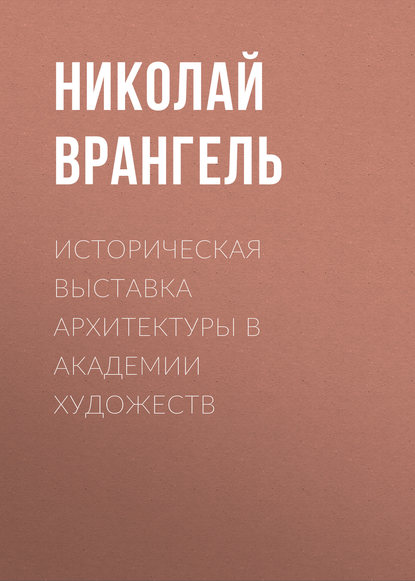По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Историческая выставка архитектуры в академии художеств
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Николаевич Врангель
«Меньше всего среди всех искусств понимают у нас архитектуру. Великое искусство зодчества, давшее столько дивных созданий в древней, дореформенной Руси, памятники строительства XVIII и первой половины XIX веков были долгое время в полном забвении. И лишь в последнее десятилетие вырос живой интерес к красоте жилища, лишь теперь стали понимать у нас, что строение не только приют для жилья, не только четыре стены и крыша – логовище человека, но что всякое здание само по сибс должно говорить всеми своими линиями и формами о каких-то таинственных законах счастья – о красоте, что всегда одинаково значительна и нужна во всем, что живет в мире, будь то живое существо или мертвый дом, созданный для его обитания…»
Николай Врангель
Историческая выставка архитектуры в академии художеств
Меньше всего среди всех искусств понимают у нас архитектуру. Великое искусство зодчества, давшее столько дивных созданий в древней, дореформенной Руси, памятники строительства XVIII и первой половины XIX веков были долгое время в полном забвении. И лишь в последнее десятилетие вырос живой интерес к красоте жилища, лишь теперь стали понимать у нас, что строение не только приют для жилья, не только четыре стены и крыша – логовище человека, но что всякое здание само по сибс должно говорить всеми своими линиями и формами о каких-то таинственных законах счастья – о красоте, что всегда одинаково значительна и нужна во всем, что живет в мире, будь то живое существо или мертвый дом, созданный для его обитания. Первым шагом к этому было понимание необходимости художественной обстановки дома, увлечение home'ом, внутренним уютом жилищ. Ведь, если припомнить чудовищно-уродливые комнаты, плюшевую мебель и ужасающую бронзу, которой украшались еще 20 лет назад лучшие дома Петербурга, то станет страшно за тех, кто могли без чувства содрогания жить среди этих вещей. Как окружающая среда людей, так и окружающие неодушевленные предметы, незаметно, но неизбежно влияют на того, кто с ними общается. Человек, выросший среди «орехового рококо», среди карикатуры на красоту, не может иметь ни во внешнем, ни во внутреннем своем облике строгой системы, прекрасного ритма, закономерности. Вот почему увлечение чисто внешней формой обстановки – не мимолетный каприз и прихоть, а глубоко серьезная и нужная всякому цивилизованному народу потребность. Отсутствие культурных вкусов, которое в Петербурге кое-как прикрыто внешним, условным лоском разных «стилей», еще более заметно в домах Москвы и русской провинции. Здесь даже у самых богатых людей, рядом с изысканнейшими предметами украшения, стоят и висят на станах ужасающие уродства, оскорбляющие не только тех, кто с ними живет, но и все те художественные предметы, что находятся в их соседстве. Отсутствие культурных потребностей к комфорту, отсутствие «любовного ока» ко всей окружающей жизни чувствуется в этих домах, как бы украшенных только случайной бутафорией. Но если в Петербурге, где все же еще теплится какая-то красивая жизнь – последнее наследие крепостных времен, – если в Петербурге еще любят внутренние стены своего жилища, за то прямо поражает безразличное отношение к внешнему виду домов. Постройка домов, подобных Елисеевскому или кн. Кочубей на Фурштадтской, изуродование Михайловского дворца, уничтожение Строгановской дачи на Черной речке, разве все это не красноречивые доказательства того, как возмутительно безразлично смотрят все на внешний вид домов, в которых живут поколение за поколением и которые внешне характеризуют своих обитателей? Все эти мысли приходят на ум на архитектурной выставка, где так много подлинно красивого, где живет дух того времени, когда внешнее и внутреннее были неразрывно слиты. В век наследников короля Солнца, даже наследники его традиций в варварской России понимали, любили и знали магический смысл и величие жеста, форму речи, линию строения и рисунок музыкального ритма. Вот почему такой завершенной и законченной, такой «прекрасно-воспитанной» не справедливо рисуется нам жизнь XVIII века. Это был век внешней характеристики скрытой мечты и мысли, век наиболее сжатого и свободного выражения приятной стороны действительности, век, когда жизнь была театральна, а театр жизненен. И как вид теперешнего Петербурга через пятьдесят лет будет говорить о невоспитанности, об отсутствии tenue, o разнокалиберности русского общества, так странно-вычурным кажется нам Елисаветинский Петербург, стройным и гармоничным Петербург Екатерины и Александра Благословенного. Право же, смотря на фасады домов и на мебель, украшающую комнаты, можно нарисовать себе и внешний облик, и внутренний мир людей того времени. Можно сказать, что человек, живший в доме Растрелли и сидевший на мебели в форме морской раковины, двигался, говорил и думал совсем по тому, чем тот, кто жил в царствование Екатерины, в доме Камерона и Гваренги, или тот, кто видел возрождение античной красоты. Потому так интересна архитектурная выставка, не только как собрание планов и чертежей домов, но как стройная характеристика нравственного облика нескольких поколений. На выставке предметы размещены по комнатам, соответствующим царствованиям русских Монархов. Здесь комната Петра, убранная креслами с высокими спинками и видами Петровского Петербурга, комнаты Елисаветы, Екатерины, Александра и Николая Павловича.
К сожалению, подбор мебели чрезвычайно неудачен; часть выставки устраивалась и собиралась наспех, места было немного и пришлось взять несколько случайных предметов, упустив другие, более значительные. Особенно беден отдел первой половины XVIII столетия от Петра I и до Екатерины II, так как от этого времени дошли до нас только жалкие крохи, да и те, к сожалению, на выставку не попали. И можно лишь пожелать, чтобы со временем специальная выставка мебели и предметов убранства комнат показала бы, наконец, все, что еще таится по этой части в малодоступных обозрению коллекциях.
Ведь, право же стыдно, что до сих пор мы не знаем наших лучших мебельщиков, резчиков и бронзовщиков!
В самом деле, кроме работ во дворцах Петергофа и Царского, что известно нам о резных изделиях Пино, Симона, Эшель Празодо, Шталмейера, Дункера, Роллана, Гамбса, Бобкова и многих других мастеров, работавших в России? На выставке случайно представлены очень немногие из их произведений. Таковы экран и камин, исполненные резчиком Шарлеманем по рисункам самого Камерона и очень грубая и малоинтересная золоченая академическая чернильница, работы «Павла Брылло» – отца знаменитого Карла Брюллова. Все остальное, за исключением некоторых предметов из Каменноостровского дворца, сделанных по рисункам К. И. Росси, – неизвестно кем сочинено и кем выполнено.
Среди этих предметом хороши елисаветинский бобик (кн. И. И. Горчаковой), ажурное кресло Тульского завода (Царскосельский дворец), кресло и стол (кн. М. А. Шаховской), дивной работы ломберный стол (М. С. и Е. И. Олин), два комода с инкрустацией (гр. М. Ф. Шереметевой), мебель, принадлежащая гр. Н. Ф. Карловой и принцесс Е. Г. Саксен-Альтенбургской.
Среди бронзовых изделий восхитительные часы фирмы Laurent Ю Paris с фигурой Фальконе (?) (Е. Н. Ксидо), часы из Академии Художеств, две вазочки (синее стекло с бронзой) от Е. В. Ксидо, зеленый фонарь (Зимний дворец), чудесные часы в виде яйца со змеей (М. С. и Н. И. Олин) и люстра из той же коллекции, канделябры Томир (принцессы Е. Г. Саксен-Альтенбургской), бронзовые золоченые часы «Амур, оттачивающий стрелу» и «Улетающее время» (Зимний дворец). Конечно, все это очень незначительно и случайно, сравнительно с тем, что было сделано в России, если судить по дворцам, по подмосковным «Останкино» и «Кусково», да по описаниям хотя бы дома кн. Безбородки в Москве, о котором говорится в записках Виже Лебрен.
Таких домов было много, и в каждом из них, кроме вывозных из-за границы предметов, находилось немало и русских вещей, тогда менее искусно, но как-то более сочно и непосредственно выполненных.
Впрочем, предметы убранства комнат не составляют основы выставки; они только придают ей обитаемый вид, заставляя этим и случайного посетителя вникнуть в дух времени, в общее настроение эпохи. Ведь широкая публика гораздо легче поймет уже выполненное, чем только «идею», мечту художника, скорее заинтересуется креслом, бюро и моделью здания, чем планом или чертежом, как бы хорошо ни был он сделан. Однако в этих-то рисунках и набросках художников яснее и красноречивее всего высказалось их понимание красоты и смысла архитектуры. Начиная с Петра Великого и кончая Николаем I, все русские императоры, каждый по своему, любили свою столицу… Петр любил ее как свое собственное создание, как «северную Голландию», которую он своей личной волею вырастил на берегах Невы. И не смотря на все капризные причуды архитекторов его времени, все здания, даже не имеющие практического смысла, проникнуты каким-то особенным здравым смыслом Великого преобразователя. В царствование Елисаветы Петровны мы видим обратное: – причуда и мечта стоит на первом плане, заслоняя житейское значение жилища человека. Здесь все – каприз, выдумка, прихоть веселой и разнузданной дочери Петра. И смотря теперь на извилистые маскароны и беспорядочные наброски Растрелли-младшего, ясно видишь тех женщин с мушками на лицах и с веерами в руках, что походили по ступеням этих и лестниц, вступали в эти залы и кивали из окон своим возлюбленным. Линии стен как бы следили за движениями тела, и прерывистый шепот разговаривающей толпы придворных кавалеров и дам только и мог родиться и жить в причудливых постройках Растрелли… Так же, как только в домах Росси и его последователей могли маршировать деревянными ногами вышколенные Аракчеевым бравые генералы Николая Павловича.
В жизни существует поразительная гармония между всеми живыми существами и неодушевленными предметами. Гармония, которую часто не замечают современники, но которую ясно видят потомки. Эта гармония и есть стиль времени – оркестр, поющий на разных инструментах ту же песнь. И несомненно, что лицо человека Елисаветинского царствования имеет какое-то таинственное семейное сходство, какое-то, незримое духовное родство с домами, мебелью, картинами и фарфором той эпохи. Такое же родство, как у различных искусств одного времени, как у романса «Сизый голубочек» с живописью Боровиковского или с фарфоровой вазой – розовое с зеленым – с гирляндой Louis XVI. Прежде люди, чутко относившиеся к жизни, всегда сознавали свою духовную близость к окружающей их обстановке и прекрасно понимали, что, лелея ее, они тем самым запечатлевают навсегда свой собственный облик на всем окружающем. И через несколько столетий потомки этих людей почувствовали их жизнь, их время и их самих по тем мертвым предметам их домашнего культа, что сохранились на многие годы. Предметы стали зеркалами, отражающими жизнь. Отсюда понятной становится забота не только об обстановке дома, но и о внешности его, о городе, который является рамкой для всех его обитателей. Как видна любовь к Петербургу в устах екатерининского писателя: «В нем все так прекрасно. Что отнюдь бы из оного не вышел. Он напоминает бессмертное имя своего Основателя, может славиться и взятым в его благолепии и выгодах попечением великие Екатерины II, которая его украсила достойными сего Основателя и своего имени зданиями. Он не таков, как Ридль, который представляет все лучшие слои здания в поверженном или искаженном от времени и переделки виде; но напротив того вмещает в себе, в целости своей, толикие же храмы, дворцы и другие здания, которые могут равняться со всем тем, что есть прекраснейшего в свете».
Наследники Екатерины также любили туманную столицу Севера; любил ее особенно нежно Александр I, внимательно следивший за всеми постройками в городе, любил и Николай Павлович. И только в царствование Александра II явилось полное безразличие, к красоте города и даже презрение к тому «солдатскому Аракчеевскому» стилю, о котором даже Алексей Толстой в «Портрете» говорит:
В мои года хорошим было тоном
Казарменному тону подражать,
И четырем или восьми колоннам
Вменялось в долг шеренгою торчать.
Под неизменным греческим фронтоном.
Во Франции такую благодать
Завел, в свой век воинственных плебеев
Наполеон, – в России ж Аракчеев.
Оттого и выставка архитектуры обрывается на освобождении крестьян, после которого стали жить иными интересами, позабыв все старые традиции вымирающего, иногда глупого, но всегда красивого, барства. На выставке архитектуры больше всего поражает именно этот grand air, это презрение к житейским удобствам в пользу отвлеченного идеала прекрасного.
И чувствуешь, что люди, жившие в домах Елисаветы и даже более спокойные и здравомыслящие современники Александра I, прежде всего, думали о той рамке, которая окружает их, а потом уже о практическом её значении. И только в царствование Петра Великого мы видим разделение жилища на два типа – простое для обитания, как домик в Летнем саду, и затейливое, «для потехи», как гроты того же сада, так прихотливо выдуманные Шлютером (?) и зачерченные Михаилом Земцовым. И на всех чертежах этого времени, на проектах Леблова и де-Витта находятся собственноручные пометки и замечания, сделанные Царем, заботливо относившимся ко всему, что украшало его столицу. В этой Петровской комнате, на выставке очень мало предметов, мало и чертежей: два столетия, отделяющие нас от Петра I слишком большой срок. Чтобы в варварской России сохранилось много следов от жизни того времени, Почти столь же мало дошло до нас и от эпохи Анны и Елисавсты; о первой и говорить нечего, так как за отсутствием материала зала её имени на выставке нет. От пышного, богатого царствования Елисаветы нашлось всего 62 номера, да и то многие из них – копии, а не оригиналы авторов построек. Но и по этим копиям можно представить себе, какой волшебной сказкой, какой театральной выдумкой была жизнь тех, что жили в домах Пиетро Трецини, Якова Свиязева, Андрея Квасова и Растрелли-сына. Чудом из чудес кажется нам теперь яркий праздник затейливой постройки Смольного монастыря, с громадной высокой башней, к сожалению не выполненной. Какой веселой должна была казаться жизнь в елисаветинское царствование, когда монастырь походил на золоченую клетку для райской птицы. Даже в церкви радостно и смеючись молились Вседержителю, позабыв про постные вздохи и сумрачную темноту приземистых старорусских церквей XVII века. Вот в какой церкви истинно славословишь Творца радости земной, вот где жизненна молитва Богу!.. Совсем другим рисуется нам мудрое и рассудочное царствование Екатерины II, которой на выставке отведено три комнаты (IV–VI). Один старый Исаакиевский собор Ринальди уже такое восхитительное, стройное повествование в линиях и формах, что по одному этому величавому и простому зданию понимаешь, какие мастера работали в это царствование в России. И так как все созданное ими здесь почти единственное, что сохранилось от их творчества, то Ринальди. Гонзага, Руска, Камерон, Корсини, Канонни, Гваренги, де-ля Мотт, Фельтен, все они для нас – иностранцы только по фамилиям. И как не считать своими «усыновленными» тех, что отдали России всю свою жизнь и все свое творчество?
Разве можем мы признавать чуждым то, что легло в основу нашей современной культуры, разве сочтем мы созданиями иноземцев дворцы, театры, и дома частных лиц, где родились и выросли все те, что сделали Россию европейской? Ведь если бы не архивные справки, подписи на чертежах и научные изыскания, то мы бы и не отличили построек Старова и Федора Волкова от тех сооружений, что создали их иностранные наставники, всю жизнь проработавшие в России! А если бы и отличили, то только по некоторой робости и неловкости, которая даже у лучших русских мастеров показывает превосходство перед ними европейской старой культуры. Однако среди чисто русских имен можно назвать несколько вполне европейского уровня. Таков И. Е. Старов, автор Таврического дворца, мызы Пелла, Софийской царскосельской церкви и собора Алексанцро-Невской лавры. Таков Баженов – автор проекта колоссального кремлевского дворца. Такой же был, вероятно, и мало выясненный Федор Волков, строивший службы Таврического дворца, винный и Соляной городок, пивоваренные заводы на Выборгской стороне, столовую морского кадетского корпуса, тот Волков, о котором в одном наставлении пенсионерам Академии говорится, что «он некогда, бывши в Париже строителем одного тамошнего театра, приобрел и в молодых своих летах не только похвалу себе, но и честь отечеству». Иностранная школа создала уже несколько чисто-русских художников в царствование наследников Екатерины, особенно при Александре I, когда Андрей Воронихин, А. Захаров, Демирцов, Витберг, Стасов и Мельников содействовали созиданию восхитительных построек наравне со своими иностранными товарищами, как Тома де-Томон, Жилярди. Менелас, Шарлемань, Висконти, Луиджи Русска и Росси. Из всех них самые значительные Жилярди для Москвы и Росси для Петербурга. Первый из них представлен шестью (из коих три копии) восхитительными чертежами Технического училища, Воспитательного дома, Опекунского Совета, Студенецкой дачи, бывшей графа Закревского. Работ Росси значительно больше и кроме чертежей на выставка находится красивая мебель, исполненная по его рисункам.
Потом идут романтические композиции Витберга, грандиозные замыслы В. Стасова – мастера чисто-русского широкого размаха, столь пышно сочетавшегося с античным духом стиля Империи. Этот «православный empire» Стасова знаменует уже новую веру нового поколения, от которого близок переход к постройкам К. Тона.
На выставке помимо архитектурных работ много красивого и среди живописных произведений. Так очень курьезны огромные виды Ораниенбаумского дворца 1758 г. – работы какого-нибудь немецкого видописца, подражателя Валериани, отличный Аничков дворец кисти Махаева, широко-написанный пейзаж с памятником Петра Великого и две очень редкие картины в сероватых приторных тонах – вид старого Казанского (Рождества Пресвятые Богородицы) собора и руины Царскосельского парка. Обе оне кисти Ивана Бельского, писавшего более мягко и размашисто, чем его брат Алексей. Красив ряд отличных видов Петербурга – теодора Алексеева, фантастически прекрасны декоративные мечтания Гонзаги, смотря на которые понимаешь, что он мог написать книгу «La Musique des yeux». Хороши также акварели Федора Данилова, несколько холстов Семена Щедрина, акварели Галактионова, Мартынова, ряд курьезнейших карикатур на Гваренги и огромная панорама Петербурга (1817-20 г.г.), исполненная Анжело Тозели. Все это вместе с мебелью, стоящей вдоль стен, переносит зрителя в прошедшее время. И начинаешь любить это прошлое за то, что каждое эхо его говорит о том, что люди понимали прелесть жизни во всех её проявлениях. Понимали печали смеха и радости страдания, понимали, что жизнь создана для того, чтобы ею пользоваться и всегда и во всем искать её красоту. И в каждом трепете прикосновения, в каждом шорохе движения и звуке слова, в каждом изгибе линии и выявлении формы сказывается эта неизменно великая и радостная, Богу угодная joie de vivre. Если любишь все, что дает радость, то любишь и Того, кто создал ее. И потому, может быть, религиозны и праведны только те, что наслаждаются всеми перепевами и радугами бесконечно прекрасной жизни. И как ни странно сказать, но когда то любили и понимали ее предки тех, что живут и скучают теперь в нашей бесцветной столице. Оттого любишь её прошлое, любишь Этот старый Петербург и любишь его не только за то, что он старый. Нет, именно наоборот – за то, что в этой кажущейся «хронологической старости» – свежий и живой источник современных нам мечтаний о красоте, та непосредственная бодрость и дальнозоркость, которая заставляла всех людей, вышедших из культуры XVIII века, работать не только для себя, но и для будущих и смотреть на много десятилетий вперед. Вот почему все, что сделано мастерами этого времени, не только не устарело и не умерло, но часто, – даже гораздо более передовое, чем то, что делается в настоящее время. И, Бог весть, сколько лет еще пройдет пока мы, люди начала XX века, дойдем до понимания тех, что жили сто лет ранее нас…
«Аполлон», № 5, 1911