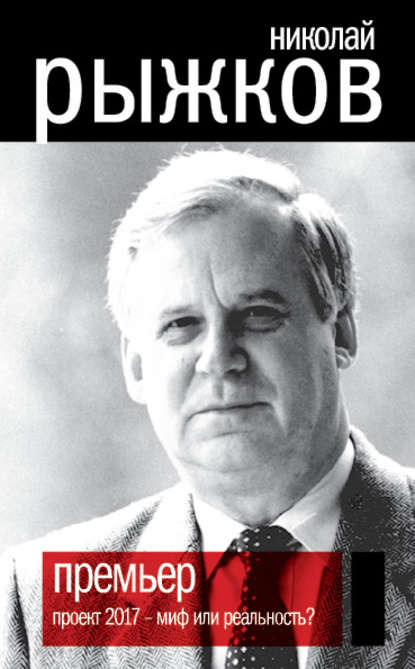По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Премьер. Проект 2017 – миф или реальность?
Автор
Жанр
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Премьер. Проект 2017 – миф или реальность?
Николай Иванович Рыжков
Политические тайны XXI века
Что позволило экономике СССР, несмотря на громадные потери в первые годы Великой Отечественной войны, выдержать противостояние с экономикой гитлеровской Германии, на которую, к тому же, работала вся Европа? В чем была причина такого невероятного запаса прочности Советского Союза? В тайне могучего советского проекта, считает автор этой книги – Николай Иванович Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985–1990 гг. Успешные проекты, по мнению Рыжкова, не могут безвозвратно кануть в Лету. Чем ближе столетие Великой Октябрьской социалистической революции, тем больше вероятности, что советский проект, или Проект 2017, снова может стать актуальным.
Николай Иванович Рыжков
Премьер. Проект 2017 – миф или реальность?
Вступление
Судьба человека непредсказуема даже в мелочах, из суммы переплетений которых она и складывается…
Год 1991-й. Нынче все для меня стало совсем иным. До сих пор не могу привыкнуть к простой мысли. Я – Председатель Совета Министров СССР в отставке, член Политбюро ЦК КПСС – тоже бывший… Завтрак, обед и ужин. Газеты, телевизор, книги. Читать, верно, стал много больше, нежели прежде. На столе книги философов, историков и экономистов, поэтов и прозаиков – современных и классиков, толстые журналы. Прогулки по лесу – тоже плюс, раньше только и дышал воздухом совминовских заседаний… Не очень частая радость общения с внуками: они – в Москве, мы с женой – за городом, лишь по выходным дням и видимся…
Теперь меня обволакивает непривычная тишина, от которой я за многие годы отвык. Она – во всем. Замолкли телефоны, исчез куда-то известный многим «рыжковский» поминутный распорядок дня, остались в прошлом бесконечные встречи, совещания и заседания. Немыслимо бурная деятельность вышла из жизни, как воздух из шарика. Некоторые из моих коллег и друзей врываются в эту тишину, они по-прежнему ищут совета, интересуются моим мнением о каждодневных событиях, просто по-человечески поддерживают своего премьера в не самую лучшую для него пору. Другие с оглядкой передают приветы и добрые пожелания – экс-премьер-то опальный… Очень немногие, но все-таки нашлись и такие, которые демонстративно прервали всякие контакты и начали жаловаться журналистам, как я был несправедлив к ним и как их спасал от меня Горбачев…
Надо было привыкнуть к новому ритму, какого не было никогда, с самых юношеских лет. Пришло время для осмысления собственной жизни, особенно тех лет, когда я возглавлял Правительство. Отдавать на суд общественности свои размышления через газеты и телевидение не хотел – слишком еще кровоточили раны, нанесенные ими в последний год моего премьерства. Поэтому мысли, анализ пережитого оставались в кругу семьи, близких друзей.
Проходят в памяти чередой отдельные эпизоды моей деятельности, а затем невольно думаешь и о том, насколько и как именно сказалась она на судьбах страны, что удалось сделать самому, вместе с моими соратниками, чего добиться не удалось, что радует душу и что ее отягощает… Ведь, казалось бы, даже частные порой решения становились потом немаловажными звеньями в цепи общего дела…
18 августа 1991 года (дата навсегда в память врезалась) в не слишком жаркое для конца лета воскресенье приехали двое давних и добрых знакомых, читаемых и уважаемых мною писателей. Сидели на веранде, пили чай или что покрепче, не суть важно, говорили, вспоминали, рассказывали. Гости – люди хотя и любопытные, но тактичные: с назойливыми вопросами не приставали, «государственных тайн» из меня не тянули. В какой-то момент разговор зашел о некоторых моих бывших коллегах по «коридорам власти». Бывшие члены Политбюро, велеречивые депутаты, крутые мэры, даже «первая леди государства» прямотаки завалили своими книгами магазинные прилавки и бесчисленные лотки у станций метро. Все спешили поведать миру свои мысли о сначала буксовавшей, а к тому времени уже агонизировавшей из последних сил перестройке.
– А вы, как всегда, помалкиваете, – упрекнул меня один из собеседников.
– Сказать нечего. Помните, у Новеллы Матвеевой: «Все сказано на свете, несказанного нет…» – отшутился я. Но серьезно настроенные гости шутки не приняли.
– А в декабре прошлого года, выходит, было что?
Вопрос прозвучал не без явного укора. Действительно, в декабре 1990 года на Четвертом съезде народных депутатов СССР состоялось последнее мое официальное выступление. В нем, в частности, было сказано:
«Я просто не имею права молчать, так как наряду с другими членами политического и государственного руководства несу огромную ответственность за все происходящее в стране. Потому говорить буду с предельной откровенностью в расчете на то, что наши соображения, оценки, видение выхода из создавшейся ситуации будут в какой-то мере полезны.
Начну с того, что перестройку в том виде – я подчеркиваю это, – в котором она замышлялась, осуществить не удалось. Являясь одним из ее инициаторов, считаю себя, безусловно, ответственным за это.
И если бы правительственный кризис, смена Кабинета могла бы исправить ситуацию, то Правительство подало бы в отставку еще в мае этого года. Но все намного серьезнее. Те политические силы, которые развернули против Правительства «необъявленную войну», имеют далеко идущие цели. И эти цели прямо вытекают из подмены сути начатых нами преобразований.
И как не сводилась эта война в мае текущего года к сбросу Правительства, так сегодня она не сводится к войне с Президентом, Верховным Советом и Съездом народных депутатов СССР. Ее главная цель – нанести удар (Курсив мой. – Авт.) по государству, по общественно-политическому строю, сломать его окончательно.
Картой в этой игре становится уже не только Советский Союз в целом, но и многие республики, как большие, так и малые, государственность и общественный строй которых также оказались под самой серьезной угрозой.
В такой ситуации я не могу ограничиться только констатацией срыва преобразовательного процесса. Здесь необходим безжалостный анализ не частностей, не деталей, а всего комплекса причин этого срыва…»
Дальше цитировать не стану, и так затянул. Выступление опубликовано во многих газетах 20 декабря 1990 года. Мне же – как и тому из моих знакомых, кто сердито упрекнул меня в нежелании писать воспоминания, – важна лишь горькая констатация факта: перестройка не удалась. Тогда, в декабре, она уже практически замерла, и требовалось совсем немного, чтобы она была добита окончательно, ушла в историю, стала предметом диссертаций будущих обществоведов-политологов.
Поднимаясь на трибуну Кремлевского дворца съездов, я знал, что это будет мое прощальное выступление. Готовился к нему долго и тщательно. Это было своего рода «политическое завещание» последнего Председателя Совета Министров Советского Союза.
На Съезде я сказал о том, что наболело. Пусть кратко, пусть скороговоркой, но сказал. Камень бросил в пруд, но даже круги не появились: моя боль за судьбу страны, предостережения депутатов не затронули. Другие заботы их одолевали – все делалось так, как назойливо и громко требовали от Президента и Верховного Совета те, кто развязал эту «необъявленную войну». Тогда их ближайшей мишенью стал Председатель Совмина. До самого Президента, до Верховного Совета, до депутатов руки еще не дошли. Или время не приспело…
Ну так что еще нужно вспоминать? Что писать? Кому интересны подробности пусть даже революционного процесса, начатого, к слову, отнюдь не в 85-м, не Горбачевым, как принято считать официально, а раньше, еще в 83-м – с приходом к власти Андропова? Никому сейчас это не интересно, думал я, да и год 91-й бурлит не менее активно, чем его предшественник. Была и другая причина. Я считал, что мои размышления еще не отстоялись, что для этого требуется время. Вот почему я отбивался от лестных предложений издательств, то и дело подвигавших меня к «писательству»…
Уже под вечер, затемно провожал гостей к калитке.
– Кто у вас в соседях? – спросил один из них, кивая на высокий зеленый забор.
– Вице-президент, – ответил я.
– Случайный он на этом посту человек, – отреагировал гость, – еще по комсомолу его знаю.
– Президенту виднее, – дипломатично сказал я. – Вдруг да он еще покажет себя?
На том и расстались. Они уехали, а я остался один на один со своими сомнениями: писать – не писать, писать – не писать… Процитировав хорошую поэтессу, я не закончил ее мысль: «…но вечно людям светит несказанного свет». Вот ведь как бывает: малое совсем событие, визит добрых гостей, а вновь душу разбередило, бессонную ночь уготовило. И правда: сколько же несказанного накопил я за минувшие, бешено промчавшиеся годы!
А в понедельник, включив утром телевизор, я знал о том, что мой сосед и впрямь «показал себя»…
Я не собираюсь писать об августовских событиях и их участниках, кое-кого из которых хорошо знал. Подробности этих дней известны мне в той же мере и из тех же источников, что и всем моим читателям: телевидение, радио, газеты. И говорю здесь об августе 91-го, во-первых, потому, что он стал вехой, которая отмерила начало смертного финала перестройки. А во-вторых, потому, что, обозначив собой ее скорую кончину, он, этот август, стал для меня тем самым толчком, который усадил за письменный стол. Надо было уложить на бумагу до тех пор несказанное об очень коротком – в масштабе истории страны – и очень длинном – в масштабе моей личной судьбы – периоде перестройки. Я должен был оставить свидетельство того, что она и для страны, и для меня лично превратилась в цепь больших и малых предательств.
Каких?
Чего и кого?
Когда?
Кем?
О том и поведу речь. Чтобы История и мое свидетельство в расчет приняла. В своем последнем выступлении на Съезде я ведь только сказал о необходимости безжалостного анализа причин взлета и падения недолговечной перестройки, но, конечно, не мог тогда же сделать его. И никто пока такого анализа не дал, на мой взгляд. Не хочу чувствовать вину за свое молчание – перед страной и перед собственными внуками, которые растут сегодня в мире с перевернутой логикой. А им, тем не менее, расти. И завтра, когда История заговорит, они меня спросят, если доживу: а что ж ты молчал, дед?
Что я им тогда отвечу? От такого серьезного вопроса шуткой не отделаешься.
Вот почему я и решился, сел за письменный стол, пододвинул к себе стопку чистых листов бумаги, взял ручку и сам себя благословил на этот труд.
Глава 1
В душной атмосфере лицемерия
Сначала надо было выжить. Выжить, выкарабкаться на поверхность жизни из черной инфарктной пустоты. Как первый шаг, хотя бы преодолеть немощность, ощутить себя – распятого на больничной койке: в правой руке – игла капельницы, в левой – еще что-то столь же «приятное», голову от подушки не оторвать. Лежишь неподвижно, полностью отключенный от мира, как потом, по его уверениям, Президент страны в райском своем Форосе: телефон, радио, телевизор – все молчит. А врачи и медсестры, будто поддерживая некий заговор, твердят только одно: вам нельзя волноваться, вам нужен полный покой.
Несколько месяцев спустя, когда мне пришлось включиться в скоростную предвыборную гонку в числе кандидатов в президенты России, в некоторых очень демократических газетах высказывалось этакое трамвайное любопытство: а был ли у Рыжкова инфаркт? Смотрите, как он в телевизоре выглядит, каждый день выступает, по стране ездит! Приводились даже письма опытных инфарктников, где гневно утверждалось: мол, я три года назад инфаркт перенес и до сих пор недомогаю, а этот… И лишь остатки элементарной вежливости, сильно подрубленной эпохой гласности, понятой многими журналистами, и не только ими, как вседозволенность, не давали заклеймить окончательно: симулянт Рыжков!
Неужели виноват, что выжил, выздоровел, постарался забыть о болезни? Почему так получилось – о том проще врачей спросить. Можно было бы, конечно, привести здесь больничную историю моего недуга, кардиограммы, анализы, да, боюсь, не каждому, мягко говоря, интересно будет.
Скажу лишь, что в первые дни плохо было, непривычно плохо и даже страшновато: может быть, потому, что за всю жизнь ничем не болел, кроме гриппа, и никогда не знал состояния боли и неподвижности. Оттого безоговорочно и слушался врачей. Не сопротивляясь, вступил в их «заговор»: даже с женой – а она с самого начала моего заточения прорывалась ко мне, пусть хоть на десять минут вначале, – даже с ней никаких серьезных проблем не обсуждали.
В общем, после первых, особенно тяжких дней врачи твердо пообещали: через месяц вы из больницы сами уйдете. Поверил – и действительно через месяц ушел, навсегда унося в душе безмерную благодарность всем, кто знаниями, опытом, заботой, человечностью своей вернул меня к жизни. Был, вместе с тем, по моему глубокому убеждению, и еще один фактор моего выздоровления – сумасшедшая и прекрасная четверть века на заводе, на сумасшедшем и прекрасном Уралмаше моем, закалившем меня крепко и навсегда. Болеть было некогда, вот и не научился этому…
Пожалуй, не стоило бы уделять моей болезни столько внимания, но, к сожалению, это несвежее дежурное блюдо время от времени подается и сейчас в нужный кому-то момент. А в дни моего выздоровления жена приносила в больницу письма и телеграммы – доброжелательные и трогательные. Изо всех уголков Советского Союза писали люди – молодые и пожилые, знакомые и незнакомые, горожане и селяне, школьники и студенты. А адрес в основном был написан так: Москва, Кремль; Москва, клиническая больница или просто – Москва, Рыжкову Николаю Ивановичу. Бережно храню тысячи таких телеграмм и писем. Они очень помогли мне в самый, наверное, трудный период жизни.
В больницу я попал в ночь на 26 декабря, а спустя две недели, 10 января 91-го года, в палату зашел главврач и, словно зондируя, спросил осторожно:
Николай Иванович Рыжков
Политические тайны XXI века
Что позволило экономике СССР, несмотря на громадные потери в первые годы Великой Отечественной войны, выдержать противостояние с экономикой гитлеровской Германии, на которую, к тому же, работала вся Европа? В чем была причина такого невероятного запаса прочности Советского Союза? В тайне могучего советского проекта, считает автор этой книги – Николай Иванович Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985–1990 гг. Успешные проекты, по мнению Рыжкова, не могут безвозвратно кануть в Лету. Чем ближе столетие Великой Октябрьской социалистической революции, тем больше вероятности, что советский проект, или Проект 2017, снова может стать актуальным.
Николай Иванович Рыжков
Премьер. Проект 2017 – миф или реальность?
Вступление
Судьба человека непредсказуема даже в мелочах, из суммы переплетений которых она и складывается…
Год 1991-й. Нынче все для меня стало совсем иным. До сих пор не могу привыкнуть к простой мысли. Я – Председатель Совета Министров СССР в отставке, член Политбюро ЦК КПСС – тоже бывший… Завтрак, обед и ужин. Газеты, телевизор, книги. Читать, верно, стал много больше, нежели прежде. На столе книги философов, историков и экономистов, поэтов и прозаиков – современных и классиков, толстые журналы. Прогулки по лесу – тоже плюс, раньше только и дышал воздухом совминовских заседаний… Не очень частая радость общения с внуками: они – в Москве, мы с женой – за городом, лишь по выходным дням и видимся…
Теперь меня обволакивает непривычная тишина, от которой я за многие годы отвык. Она – во всем. Замолкли телефоны, исчез куда-то известный многим «рыжковский» поминутный распорядок дня, остались в прошлом бесконечные встречи, совещания и заседания. Немыслимо бурная деятельность вышла из жизни, как воздух из шарика. Некоторые из моих коллег и друзей врываются в эту тишину, они по-прежнему ищут совета, интересуются моим мнением о каждодневных событиях, просто по-человечески поддерживают своего премьера в не самую лучшую для него пору. Другие с оглядкой передают приветы и добрые пожелания – экс-премьер-то опальный… Очень немногие, но все-таки нашлись и такие, которые демонстративно прервали всякие контакты и начали жаловаться журналистам, как я был несправедлив к ним и как их спасал от меня Горбачев…
Надо было привыкнуть к новому ритму, какого не было никогда, с самых юношеских лет. Пришло время для осмысления собственной жизни, особенно тех лет, когда я возглавлял Правительство. Отдавать на суд общественности свои размышления через газеты и телевидение не хотел – слишком еще кровоточили раны, нанесенные ими в последний год моего премьерства. Поэтому мысли, анализ пережитого оставались в кругу семьи, близких друзей.
Проходят в памяти чередой отдельные эпизоды моей деятельности, а затем невольно думаешь и о том, насколько и как именно сказалась она на судьбах страны, что удалось сделать самому, вместе с моими соратниками, чего добиться не удалось, что радует душу и что ее отягощает… Ведь, казалось бы, даже частные порой решения становились потом немаловажными звеньями в цепи общего дела…
18 августа 1991 года (дата навсегда в память врезалась) в не слишком жаркое для конца лета воскресенье приехали двое давних и добрых знакомых, читаемых и уважаемых мною писателей. Сидели на веранде, пили чай или что покрепче, не суть важно, говорили, вспоминали, рассказывали. Гости – люди хотя и любопытные, но тактичные: с назойливыми вопросами не приставали, «государственных тайн» из меня не тянули. В какой-то момент разговор зашел о некоторых моих бывших коллегах по «коридорам власти». Бывшие члены Политбюро, велеречивые депутаты, крутые мэры, даже «первая леди государства» прямотаки завалили своими книгами магазинные прилавки и бесчисленные лотки у станций метро. Все спешили поведать миру свои мысли о сначала буксовавшей, а к тому времени уже агонизировавшей из последних сил перестройке.
– А вы, как всегда, помалкиваете, – упрекнул меня один из собеседников.
– Сказать нечего. Помните, у Новеллы Матвеевой: «Все сказано на свете, несказанного нет…» – отшутился я. Но серьезно настроенные гости шутки не приняли.
– А в декабре прошлого года, выходит, было что?
Вопрос прозвучал не без явного укора. Действительно, в декабре 1990 года на Четвертом съезде народных депутатов СССР состоялось последнее мое официальное выступление. В нем, в частности, было сказано:
«Я просто не имею права молчать, так как наряду с другими членами политического и государственного руководства несу огромную ответственность за все происходящее в стране. Потому говорить буду с предельной откровенностью в расчете на то, что наши соображения, оценки, видение выхода из создавшейся ситуации будут в какой-то мере полезны.
Начну с того, что перестройку в том виде – я подчеркиваю это, – в котором она замышлялась, осуществить не удалось. Являясь одним из ее инициаторов, считаю себя, безусловно, ответственным за это.
И если бы правительственный кризис, смена Кабинета могла бы исправить ситуацию, то Правительство подало бы в отставку еще в мае этого года. Но все намного серьезнее. Те политические силы, которые развернули против Правительства «необъявленную войну», имеют далеко идущие цели. И эти цели прямо вытекают из подмены сути начатых нами преобразований.
И как не сводилась эта война в мае текущего года к сбросу Правительства, так сегодня она не сводится к войне с Президентом, Верховным Советом и Съездом народных депутатов СССР. Ее главная цель – нанести удар (Курсив мой. – Авт.) по государству, по общественно-политическому строю, сломать его окончательно.
Картой в этой игре становится уже не только Советский Союз в целом, но и многие республики, как большие, так и малые, государственность и общественный строй которых также оказались под самой серьезной угрозой.
В такой ситуации я не могу ограничиться только констатацией срыва преобразовательного процесса. Здесь необходим безжалостный анализ не частностей, не деталей, а всего комплекса причин этого срыва…»
Дальше цитировать не стану, и так затянул. Выступление опубликовано во многих газетах 20 декабря 1990 года. Мне же – как и тому из моих знакомых, кто сердито упрекнул меня в нежелании писать воспоминания, – важна лишь горькая констатация факта: перестройка не удалась. Тогда, в декабре, она уже практически замерла, и требовалось совсем немного, чтобы она была добита окончательно, ушла в историю, стала предметом диссертаций будущих обществоведов-политологов.
Поднимаясь на трибуну Кремлевского дворца съездов, я знал, что это будет мое прощальное выступление. Готовился к нему долго и тщательно. Это было своего рода «политическое завещание» последнего Председателя Совета Министров Советского Союза.
На Съезде я сказал о том, что наболело. Пусть кратко, пусть скороговоркой, но сказал. Камень бросил в пруд, но даже круги не появились: моя боль за судьбу страны, предостережения депутатов не затронули. Другие заботы их одолевали – все делалось так, как назойливо и громко требовали от Президента и Верховного Совета те, кто развязал эту «необъявленную войну». Тогда их ближайшей мишенью стал Председатель Совмина. До самого Президента, до Верховного Совета, до депутатов руки еще не дошли. Или время не приспело…
Ну так что еще нужно вспоминать? Что писать? Кому интересны подробности пусть даже революционного процесса, начатого, к слову, отнюдь не в 85-м, не Горбачевым, как принято считать официально, а раньше, еще в 83-м – с приходом к власти Андропова? Никому сейчас это не интересно, думал я, да и год 91-й бурлит не менее активно, чем его предшественник. Была и другая причина. Я считал, что мои размышления еще не отстоялись, что для этого требуется время. Вот почему я отбивался от лестных предложений издательств, то и дело подвигавших меня к «писательству»…
Уже под вечер, затемно провожал гостей к калитке.
– Кто у вас в соседях? – спросил один из них, кивая на высокий зеленый забор.
– Вице-президент, – ответил я.
– Случайный он на этом посту человек, – отреагировал гость, – еще по комсомолу его знаю.
– Президенту виднее, – дипломатично сказал я. – Вдруг да он еще покажет себя?
На том и расстались. Они уехали, а я остался один на один со своими сомнениями: писать – не писать, писать – не писать… Процитировав хорошую поэтессу, я не закончил ее мысль: «…но вечно людям светит несказанного свет». Вот ведь как бывает: малое совсем событие, визит добрых гостей, а вновь душу разбередило, бессонную ночь уготовило. И правда: сколько же несказанного накопил я за минувшие, бешено промчавшиеся годы!
А в понедельник, включив утром телевизор, я знал о том, что мой сосед и впрямь «показал себя»…
Я не собираюсь писать об августовских событиях и их участниках, кое-кого из которых хорошо знал. Подробности этих дней известны мне в той же мере и из тех же источников, что и всем моим читателям: телевидение, радио, газеты. И говорю здесь об августе 91-го, во-первых, потому, что он стал вехой, которая отмерила начало смертного финала перестройки. А во-вторых, потому, что, обозначив собой ее скорую кончину, он, этот август, стал для меня тем самым толчком, который усадил за письменный стол. Надо было уложить на бумагу до тех пор несказанное об очень коротком – в масштабе истории страны – и очень длинном – в масштабе моей личной судьбы – периоде перестройки. Я должен был оставить свидетельство того, что она и для страны, и для меня лично превратилась в цепь больших и малых предательств.
Каких?
Чего и кого?
Когда?
Кем?
О том и поведу речь. Чтобы История и мое свидетельство в расчет приняла. В своем последнем выступлении на Съезде я ведь только сказал о необходимости безжалостного анализа причин взлета и падения недолговечной перестройки, но, конечно, не мог тогда же сделать его. И никто пока такого анализа не дал, на мой взгляд. Не хочу чувствовать вину за свое молчание – перед страной и перед собственными внуками, которые растут сегодня в мире с перевернутой логикой. А им, тем не менее, расти. И завтра, когда История заговорит, они меня спросят, если доживу: а что ж ты молчал, дед?
Что я им тогда отвечу? От такого серьезного вопроса шуткой не отделаешься.
Вот почему я и решился, сел за письменный стол, пододвинул к себе стопку чистых листов бумаги, взял ручку и сам себя благословил на этот труд.
Глава 1
В душной атмосфере лицемерия
Сначала надо было выжить. Выжить, выкарабкаться на поверхность жизни из черной инфарктной пустоты. Как первый шаг, хотя бы преодолеть немощность, ощутить себя – распятого на больничной койке: в правой руке – игла капельницы, в левой – еще что-то столь же «приятное», голову от подушки не оторвать. Лежишь неподвижно, полностью отключенный от мира, как потом, по его уверениям, Президент страны в райском своем Форосе: телефон, радио, телевизор – все молчит. А врачи и медсестры, будто поддерживая некий заговор, твердят только одно: вам нельзя волноваться, вам нужен полный покой.
Несколько месяцев спустя, когда мне пришлось включиться в скоростную предвыборную гонку в числе кандидатов в президенты России, в некоторых очень демократических газетах высказывалось этакое трамвайное любопытство: а был ли у Рыжкова инфаркт? Смотрите, как он в телевизоре выглядит, каждый день выступает, по стране ездит! Приводились даже письма опытных инфарктников, где гневно утверждалось: мол, я три года назад инфаркт перенес и до сих пор недомогаю, а этот… И лишь остатки элементарной вежливости, сильно подрубленной эпохой гласности, понятой многими журналистами, и не только ими, как вседозволенность, не давали заклеймить окончательно: симулянт Рыжков!
Неужели виноват, что выжил, выздоровел, постарался забыть о болезни? Почему так получилось – о том проще врачей спросить. Можно было бы, конечно, привести здесь больничную историю моего недуга, кардиограммы, анализы, да, боюсь, не каждому, мягко говоря, интересно будет.
Скажу лишь, что в первые дни плохо было, непривычно плохо и даже страшновато: может быть, потому, что за всю жизнь ничем не болел, кроме гриппа, и никогда не знал состояния боли и неподвижности. Оттого безоговорочно и слушался врачей. Не сопротивляясь, вступил в их «заговор»: даже с женой – а она с самого начала моего заточения прорывалась ко мне, пусть хоть на десять минут вначале, – даже с ней никаких серьезных проблем не обсуждали.
В общем, после первых, особенно тяжких дней врачи твердо пообещали: через месяц вы из больницы сами уйдете. Поверил – и действительно через месяц ушел, навсегда унося в душе безмерную благодарность всем, кто знаниями, опытом, заботой, человечностью своей вернул меня к жизни. Был, вместе с тем, по моему глубокому убеждению, и еще один фактор моего выздоровления – сумасшедшая и прекрасная четверть века на заводе, на сумасшедшем и прекрасном Уралмаше моем, закалившем меня крепко и навсегда. Болеть было некогда, вот и не научился этому…
Пожалуй, не стоило бы уделять моей болезни столько внимания, но, к сожалению, это несвежее дежурное блюдо время от времени подается и сейчас в нужный кому-то момент. А в дни моего выздоровления жена приносила в больницу письма и телеграммы – доброжелательные и трогательные. Изо всех уголков Советского Союза писали люди – молодые и пожилые, знакомые и незнакомые, горожане и селяне, школьники и студенты. А адрес в основном был написан так: Москва, Кремль; Москва, клиническая больница или просто – Москва, Рыжкову Николаю Ивановичу. Бережно храню тысячи таких телеграмм и писем. Они очень помогли мне в самый, наверное, трудный период жизни.
В больницу я попал в ночь на 26 декабря, а спустя две недели, 10 января 91-го года, в палату зашел главврач и, словно зондируя, спросил осторожно: